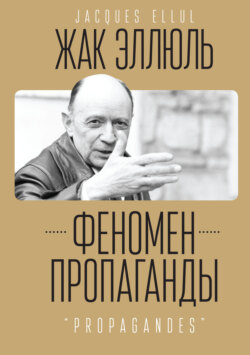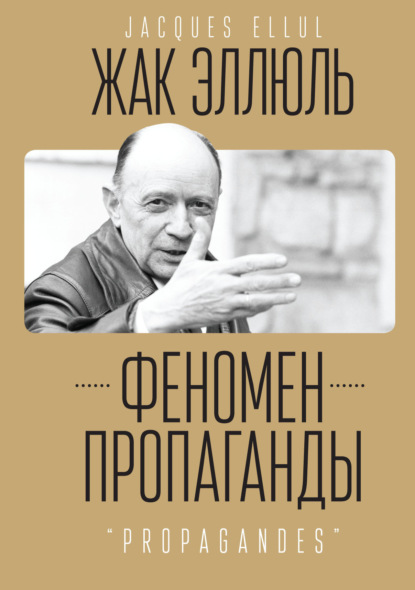Глава I
Признаки пропаганды
Настоящая пропаганда в нашем обществе – это явление, находящееся в наши дни в центре научных исследований. Обычная точка зрения заключается в том, чтобы считать пропагандой совокупность «трюков, приемов и практик» более или менее глубоко разработанных[18]. Достаточно часто как психологи, так и социологи не признают научный характер этого явления. Со своей стороны мы абсолютно согласны с тем, что пропаганда – это технология, а не наука[19]. Но, добавим, что речь идет о приемах и практиках, обладающих всеми признаками современной технологии, т. е. основанных на научном подходе. То есть она – производное наук об обществе, о человеке, их прикладной аспект, вместе с ними она развивается, доказывает их достоверность или обнаруживает их недостатки. Мы уже далеко ушли от того времени, когда пропагандистом мог стать любой, у кого есть чутье на настроение в обществе, кто мог изобрести какой-либо ловкий трюк или придумать формулировочку. У нас есть четыре аргумента, чтобы доказать присутствие научного подхода в пропаганде.
Прежде всего, современные методы пропаганды основаны на научном анализе, основанном на знании законов психологии человека и законов существования человеческого общества. Теперь нужно знать психологию человека, понимать его потребности и желания, обладать знанием в области психологии личности, а также в сфере социальной психологии, чтобы изобретать пропагандистские приемы и методы. Средства воздействия пропагандист основывает на законах формирования сообществ и правилах их разрушения, на умении влиять на массы, управлять толпой, понимая механизмы ограничения этой деятельности. Без научных исследований в области психологии человека и современной социологии пропаганда не будет иметь успеха, оставаясь на примитивном уровне эпохи Перикла или императора Августа. Разумеется, не все пропагандисты в достаточной степени владеют вышеназванными науками, может быть даже некоторые совсем в них не разбираются или, напротив, придают излишне большое значение осторожным заключениям психологов, применяя их выводы относительно психики человека там, где их совсем не нужно применять. Но так обычно и происходит в начале пути (нельзя забывать, что психология и социология – молодые науки, всего лишь полвека прошло с тех пор, как они выделились как самостоятельные сферы знания). Главное, что пропагандисты готовы заниматься своим ремеслом, опираясь на научные исследования в этих областях. Конечно, среди психологов это вызовет скандал, так как они могут заявить, что пропаганда для их науки – не лучшее применение[20], но какое это имеет значение. Это напоминает переживания физиков по поводу атомной бомбы. Ученый должен как минимум предвидеть, что он живет в таком мире, где результаты его научных изысканий могут быть использованы в любой другой сфере жизни. Может случиться так, что пропагандисты, все более вникая в психологию и социологию, найдут достижениям этих наук наилучшее применение.
Кроме того, пропаганда и сама мало-помалу становится наукой, изобретая, исходя из практического опыта, новые правила, более жесткие и строгие. Любой пропагандист невольно изобретает все более действенные приемы и изощренные методы, которыми любой другой может воспользоваться. Как и в других сферах, обобщенные технологические приемы становятся научной базой для дальнейшего развития отрасли[21].
Третье место среди аргументов в защиту научного характера пропаганды занимает тщательный анализ условий, в которых она уместна, а также тех людей, для которых она предназначена. Теперь уже недостаточно отдать дело в руки гениального мастерового, способы пропаганды, содержание, условия предъявления уже просчитаны досконально (или должны быть просчитаны!). Известно, что определенный тип пропаганды дает отличный результат в одних условиях, но может быть совершенно бесполезен в других, и если уж предпринимать пропагандистскую акцию с целью добиться определенного результата, то следует заранее продумать способы воздействия, используя социологические методы и психологические приемы для оценки ситуации. Они уже известны, но для хорошей подготовки специалистов в области пропаганды необходимо тщательно продумать систему подготовки соответствующих кадров.
Наконец, последнее доказательство научности в сфере пропаганды. В последнее время особое внимание уделяется контролю в применении того или иного типа пропаганды, измерению результативности и оценке эффектов. Это достаточно сложно, но профессиональный пропагандист в наше время не ограничивается констатацией результата на глаз, он старается его спланировать заранее и с точностью оценить действенность. Политические последствия его больше не удовлетворяют, ему важно количественно оценить успех и понять, каким образом он был достигнут. Таким образом, мы имеем дело с научным экспериментом и качественной и количественной оценкой его результатов. То есть, с этого момента можно утверждать, что в этой сфере применяется научный метод. Следует отметить, что это происходит в настоящее время не слишком часто, и тот, кто анализирует последствия пропаганды, не является действующим пропагандистом, скорее, этим занимаются философы. Как бы то ни было, этот факт всего лишь свидетельствует о разделении труда в этой сфере, не более того. Но не вызывает сомнений, что пропаганда уже не есть случайный набор приемов и практик, но продуманный и научно обоснованный способ действий.
Есть еще одно соображение на этот счет. Часто приходится слышать от серьезных ученых, занимающихся психологией, что пропагандисты используют псевдонаучные данные, пытаясь обосновать свои методы воздействия, что они якобы прикрываются наукой для солидности. «Психология, которой они пользуются, это не научная психология, а результаты социологических исследований, которые они привлекают для доказательства эффективности, также далеки от настоящей науки». Но если попытаться точнее определить предмет разногласий, то можно прийти к такой точке зрения: сталинская пропаганда в значительной мере опиралась на учение И.П.Павлова об условных рефлексах; гитлеровская пропаганда привлекала отчасти психоанализ Фрейда о принудительном возбуждении либидо и сексуальной энергии; американцы ссылались на теорию Дьюи о тренингах. Так что, научная теория под тот или иной вид пропаганды всегда найдется, но если пропагандист не согласен с теорией об условных рефлексах, если он не готов утверждать, что подобные рефлексы легко формируются у человека, так же, как у собак, если ему претит психофизиологическая интерпретация Павлова о типах высшей нервной деятельности, он может объявить пропаганду, основанную на этой теории, псевдонаучной и несерьезной. То же и в отношении Дьюи, Фрейда и кого угодно еще.
О чем это говорит? О том, что у пропаганды нет солидной научной базы? Вовсе нет! Просто современные ученые в области психологии и социологии не могут прийти к согласию между собой в отношении научных подходов, методов оценки и интерпретации особенностей человеческой природы. Психолог, готовый развенчать теорию своих собратьев, отрицает в ней научную составляющую, но не следствия, которые практик-пропагандист готов из нее извлечь. Как же можно предъявлять к нему претензии, если он доверяет тому психологу или тому социологу, чьи теории в данный момент и в данной стране признаются как вполне научные. Не будем забывать при этом, что в том случае, если теория, применяемая пропагандистом в его практической деятельности, дает положительный результат и обеспечивает успех основанному на ней пропагандистскому воздействию, она тем самым проверяется опытным путем и злой критики со стороны научного сообщества уже недостаточно, чтобы ее опровергнуть.
1. Внешние признаки пропаганды
Индивид и массы
Современная пропаганда должна быть прежде всего обращена одновременно и к индивиду, и к массам[22]. Эти элементы не могут восприниматься отдельно друг от друга. Понятно, тем не менее, что пропагандистский посыл направлен на отдельного индивида, стоящего отдельно от толпы в полном одиночестве. Ему нет дела до пропагандиста и, будучи особенным, отличным от других индивидуумов, он стойко сопротивляется любому внешнему воздействию. Пропаганда, подчиняясь закону об эффективности, не может позволить себе сосредоточиться на деталях, и не только потому, что последовательно завоевывать одного индивидуума за другим займет слишком много времени, но и потому, что убеждать каждого отдельно взятого по разным основаниям слишком сложно. Возьмем, к примеру, простой диалог – тут и речи нет о пропаганде. Вот отчего эксперименты по выяснению эффективности, проводимые в США на отдельных испытуемых, нельзя считать неоспоримыми, так как не воспроизводят реальных условий пропаганды. Они также не учитывают особенности пропаганды, рассчитанной на толпу, поэтому и в этом случае результаты не могут быть релевантны. В том случае, если для исследования эффектов воздействия пропаганды собрана группа испытуемых, эти условия тоже следует признать искусственными, а результаты эксперимента не вполне достоверными. Те же проблемы обнаружатся и тогда, когда пропагандистское воздействие будет предназначено исключительно для массы людей, ведь известно, что восприятие толпы, ее реакция на воздействие не сопоставимы с восприятием и реакцией отдельного человека. Вот почему современная пропаганда рассчитана на массу людей как таковую и одновременно на каждого включенного в эту массу индивидуума.
Что это означает? Прежде всего то, что индивидуум рассматривается не как отдельный элемент со своими индивидуальными особенностями, а как часть целого, в нем вычленяются те черты, которые в большинстве встречаются и у других индивидуумов этой массы, особенно в том, что касается восприятия, особенностей мышления, распространенных заблуждений. Только общее принимается во внимание, так создается усредненный типаж, и, если пропаганда рассчитана на него, то она будет иметь успех. Но при этом индивидуум остается частью толпы, а это значит, что его психическая защита ослаблена, его поведение легче предсказать, а реакцию можно спровоцировать, т. к. эмоции в группе распространяются волнообразно, охватывают всех, и этим можно и нужно пользоваться. Эмоциональность, импульсивность, возбудимость, яркое проявление чувств – все эти свойства, характерные для индивидуума, усиливаются, когда индивидуумы собираются вместе, и пропаганда не может не воспользоваться этим. Лучше, чем где-либо, можно понять, что индивидуум, как бы изолирован от остальных он ни был, всегда остается частью группы. Докажем на примере радиопередачи: пусть физически радиослушатель находится наедине с приемником, но он точно знает, что он не один[23], что легко доказать, т. к. он демонстрирует умонастроения, свойственные для всех остальных. Все слушатели представляют собой некое сообщество и влияют друг на друга, не подозревая об этом. То же происходит, если вспомним о пропаганде, осуществляемой в виде частных визитов или по принципу «от двери до двери» (Human relations, сбор подписей под петицией): на первый взгляд создается впечатление, что каждый участник мероприятия не связан с остальными, но это не так, ведь все они незримо объединены в группу, каждый, кого посетили, разделяет взгляды этой группы и получает послание из одного источника, что также немаловажно, как и те, кто примкнет к группе в будущем: достаточно какой-либо партии или административной верхушке обозначить некую идею, как тут же выделяется часть населения, разделяющая эту идею, она превращает их в сообщество, она их скрепляет. Теперь каждый представляет собой не просто г-на Х или г-жу У, а частицу общего потока, направленного к определенной цели. А тот, кто собирает подписи, тот, кто сообщает им эту идею, говорит не от своего имени, он высказывает аргументы, которые вложили в его уста организаторы потока, иначе говоря, движения масс, где человек не связан с другим человеком кроме как посредством общей идеи.
Аналогично и с пропагандой: она должна быть обращена к каждому человеку не персонально, а как к члену группы, как составной части толпы. Чтобы быть эффективной, она должна только казаться персонализированной, так как нельзя забывать, что масса состоит из индивидуумов, что толпа – это группа людей. Нужно помнить также о том, что человек в группе психологически ослаблен, его психика находится в регрессивной стадии, а толпа, напротив, считает себя могущественнее, чем каждый ее член в отдельности. Человек в толпе скорее «недочеловек», а претендует на роль «сверхчеловека», он подвержен внушению, а в окружении себе подобных считает себя сильнее, его легко сломать, а он думает, что он несгибаем. Если открыто демонстрировать отношение к толпе как к толпе, то каждый из индивидуумов, из которых она состоит, почувствует себя униженным и откажется от участия; если относиться к ним как к детям (а в толпе они таковыми и являются), они не захотят подчиняться старшему; они замкнутся и от них ничего нельзя будет добиться. Напротив, надо дать им почувствовать, что каждый из них – личность, что все внимание обращено именно на него, что слова обращены к нему. Только тогда он откроет свою душу и прекратит быть анонимом (хотя по факту им и останется).
Вот почему современная пропаганда использует структурную форму толпы, но обращается к персонально к каждому индивидууму, оба действия должны происходить одновременно, согласованно. Разумеется, этот эффект достигается благодаря современным методам массовой коммуникации, которые позволяют произвести оба этих действия в один момент: распространиться на всю толпу и достучаться до каждого в этой толпе. Читатели вечернего выпуска газеты, радиослушатели, зрители в кинотеатре или перед телевизором – они все представляют собой толпу, хотя и не собираются вместе в одно время и в одной точке пространства. Ими движет одна сила, они получают одинаковый импульс, испытывают одинаковые впечатления, объединяются общими интересами, вдохновляются одной идеей, одинаково реагируют, мечтают об одном и том же и строят одинаковые планы на будущее, и все это практически одновременно: можно сказать, что психологически, если не биологически, – это единый организм[24]. Вследствие этого члены этой группы одинаково изменяются в одном направлении, даже если они этого не осознают. При этом каждый из них остается в одиночестве: читатель газеты, как и радиослушатель, чувствует, что обращаются именно к нему, но каждый представляет себя участником большой аудитории. В кинотеатре зритель тоже сидит в одиночестве, даже если чувствует локоть соседа. Это все благодаря темноте в зале и гипнотическому влиянию экрана. Такую ситуацию называют обычно «одиночество в толпе»[25], и она – естественный продукт современного общества, нигде не чувствуешь себя так одиноко, как среди людей. Отчасти средства массовой коммуникации привели нас к этому, и в такой ситуации легко взять человека за живое, повлиять на него: вот откуда успех пропаганды.
Хочется подчеркнуть еще раз эту парадоксальную ситуацию, с которой мы часто сталкиваемся: устройство современного общества создает условия, в которых индивидуум легко поддается пропаганде. Средства массовой коммуникации, обеспечивающие техническую эволюцию, осложняют положение индивидуума, интегрируя его в общую массу, и в то же время помогая пропаганде достичь своих целей. В реальности: без этих средств пропаганды могло бы и не быть. Если бы можно было представить, что пропаганда нацелена на организованную группу людей, она не достигла бы целей, разве что пришлось бы для этого разбить единство такой группы[26]. Не стоит думать, что такое действие трудно организовать, ведь можно использовать психологические методы воздействия. Одним из наиболее важных инструментов пропаганды как раз и является воздействие на психику, позволяющее расчленить коллектив на микро-группы. Только в том случае, когда микро-группы сформированы так, что индивид лишен защиты, не имеет больше поддержки группы своих единомышленников, среди которых он чувствовал себя уверенно, только тогда воздействие пропаганды будет иметь успех.
Тотальная пропаганда
Пропаганда должна иметь тотальное распространение. Пропагандисту следует использовать все возможные технические средства, имеющиеся в его распоряжении. В основном такие как пресса, радио, ТВ, кино, афиши, собрания, митинги, личное общение, сарафанное радио. Все эти средства должны быть использованы в современной пропагандистской деятельности. Нельзя считать пропагандой, если время от времени появляется, то статья в газете, то афиша, то радиопередача… Случайно возникающие митинги и диспуты, надписи на стенах – это несерьезно, это и пропагандой не назовешь. На самом деле, каждое из средств коммуникации имеет свои специфические особенности, и они же и ограничивают его эффективность. Каждое, взятое по отдельности, не может воздействовать на индивида, сломить его сопротивление, изменить сознание. Кинофильм влияет не так, как газетная статья, он вызывает другие эмоции, заставляет реагировать иначе. Зная, что пропаганда в зависимости от средства воздействия работает по-разному, что эффективность каждого ограничена, приходишь к пониманию, что действовать нужно по разным каналам одновременно. Слово, услышанное по радио, воспринимается не так, как то же слово в личной беседе или произнесенное с трибуны во время общественного митинга в присутствии множества людей. Чтобы поймать индивидуума в сети пропаганды, надо каждое средство массовой коммуникации в зависимости от его специфики применять в том диапазоне, где его эффективность наиболее высока, не забывая о взаимосвязи со всеми другими пропагандистскими инструментами: каждый из них воздействует на индивидуума по-своему, но вместе, будучи направленными в одну цель, они сделают его более восприимчивым к новой идее.
Действуя таким образом, пропагандист не оставит ни один из аспектов психики человека в стороне: его эмоциональная, интеллектуальная, чувственная сферы будут подвержены влиянию пропаганды, человек со всех сторон будет охвачен ею, и не он один, а все так или иначе попадут под ее влияние, так как надо иметь в виду, что средства массовой коммуникации рассчитаны на широкую публику. Те люди, кто посещают кинотеатры два-три раза в неделю, это не те, кто прочитывают газету от корки до корки. Инструменты пропаганды ориентированы таким образом на определенный круг людей, но действуя согласовано, они позволяют охватить своим вниманием максимально большое количество индивидуумов. Например, афиши и стенные плакаты очень популярны, но предназначены в основном для тех, кто ходит пешком. Радиопередачи предназначены для довольно широкой аудитории. Но надо также учесть, что у каждого средства информации есть и третий аспект специализации. Позже, на страницах этой книги мы проанализируем различные формы пропаганды и покажем, каким образом разные средства коммуникации приспособлены к определенной форме пропаганды. Кинофильмы, например, ближе всего стоящие к human relations, лучше всего подходят для социальной пропаганды, неспешной агитации, продвижения идей и постепенной интеграции. Политическое собрание, митинг, листовка скорее являются инструментом шоковой пропаганды, кратковременной и узконаправленной, побуждающей к мгновенному действию. Печатная пресса представляет собой образовательный инструмент в области формирования определенных представлений в сфере политики, радио служит как средство психологической войны в международном масштабе, тогда как пресса – инструмент для внутреннего пользования. В любом случае, имея в виду специфику каждого средства, нужно уметь пользоваться всеми инструментами, чтобы рассчитывать на эффект, нужно уметь их использовать так, чтобы они дополняли друг друга. Пропагандист как музыкант должен уметь заставить звучать все инструменты, сочиняя свою симфонию.
Речь идет о том, чтобы достучаться до каждого в толпе и до толпы в целом. Пропаганда старается подобраться к человеку со всех сторон, внушить ему не только какую-то идею, но и поменять образ мыслей, заставить чувствовать иначе, воздействуя на эмоции, подчиняя волю, внушая потребности, действуя на сознание и на инстинкты, вторгаясь в его частную жизнь, манипулируя им в публичной сфере. Она внушает ему и систему глобального мироустройства, и одновременно способ действия в этой системе. Все начинается с того, что пропаганда создает некий миф, легенду о мироустройстве и заставляет индивида в нее поверить, подчиняя себе целиком его разум, не оставляя возможности для иной интерпретации, пресекая попытки усомниться. Этот миф завоевывает все пространство сознания, не оставляя повода для сомнений и лакун для инакомыслия. Человек вдруг оказывается закрытым для другой точки зрения, он даже не осознает, что уже втянут в секту. Созданный миф полностью контролирует его сознание, и человек более не доступен для других идей, представлений, интерпретаций. Именно так объясняется, в том случае, разумеется, если пропаганда достигла цели, абсолютную невосприимчивость человека к попыткам его переубедить, его нежелание слушать аргументы, противоречащие той картине мироздания, которую пропаганда воздвигла в его сознании.
Пропагандистские ухищрения должны воздействовать не на одного человека, но на всю совокупность людей в данном общественном пространстве, пропаганда не может удовлетвориться полу-успехом, незавершенной борьбой за сознание людей, так как не выносит столкновения взглядов: по определению она исключает дискуссию, выяснение отношений. Там, где возникают разногласия, попытки объяснить другую позицию, дать отличную от общепринятой точку зрения, пропаганда не может считать свою победу окончательной. Она в таком случае сжимает круг своих сторонников, оставляя только единомышленников, а тех, кто не согласен, пытается не слушать или просто игнорирует. Крайний случай пропаганды заключается в том, чтобы даже противников перетянуть на свою сторону или хотя бы использовать их в своих интересах. Вот почему так важно было нацистам дать англичанам слово по радио на своей волне, а на советском радио разрешили выступить генералу Паулюсу. Алжирские повстанцы в свое время с успехом использовали статьи из Observateur или из Express, равно как и французская пресса печатала выдержки из их прокламаций. Единомыслие в советской прессе укреплялось, когда враги режима начинали сами себя критиковать. Когда противники государственного строя или отклонившаяся от правильного курса фракция в партии открыто заявляет, что хоть они и враги власти, но правительство во всем право, что оппозиция погрязла в коррупции, что обвинения справедливы, а наказание заслужено, пропаганда может праздновать победу. Ей удалось перетянуть на свою сторону противника (хотя он и не перестал быть врагом, но тем дороже победа, раз он помогает пропаганде). И этот прием – не единственный из эффективных средств воздействия. Заметим кстати, что при Хрущеве система самокритики на службе у пропаганды продолжала функционировать, как и раньше (пример маршала Булганина один из самых ярких). Здесь обнаруживается идеальный образец тоталитаризма в действии, и можно наблюдать, как всепоглощающий механизм пропаганды запущен, подавляя любое инакомыслие и поползновение к независимому мышлению. Все приводится к единой схеме устройства общества, единомыслия, объединяется квази-единством всех членов тоталитарного общества.
Далее обнаруживаем еще один признак массированной обработки общества. Пропагандист должен виртуозно владеть искусством комбинирования разных видов пропаганды как настоящий дирижер оркестра. С одной стороны, ему надлежит постоянно держать руку на пульсе общественных настроений и понимать, какой именно стимул следует в данный момент употребить, организуя пропагандистскую кампанию[27], а с другой стороны, он должен последовательно использовать разные пропагандистские приемы, учитывая взаимосвязь между ними. И параллельно со средствами массовой коммуникации он должен применять цензуру, вводить нужные законы, подключать юридические толкования, использовать международную трибуну для оправдания своих действий. Не стоит рассчитывать исключительно на работу с массами посредством СМИ: личные контакты, работа с малыми группами тоже признаны эффективными. Методики, опробованные в педагогике, играют важную роль в политическом образовании (Ленин, Мао). Публичное обсуждение ленинской доктрины по поводу государственного устройства – тоже пропаганда. Информация в огромной мере служит делу пропаганды, о чем мы позднее будем говорить. «Доходчиво объяснить положение вещей в современном мире – вот основная задача агитатора».[28] Мао напоминает, что в 1928 году эффективной формой пропаганды стало освобождение заключенных, которые захотели покинуть страну после идеологической обработки, что стало демонстрацией заботы о раненых врагах: вот отличный пример благих намерений коммунистов. Таким образом, все должно быть поставлено на службу пропаганды, и нужно использовать все, что может быть полезно[29].
Да и дипломатическая деятельность безусловно становится составной частью пропаганды. Мы рассмотрим эту проблему в Главе IV. Систему образования и подготовки кадров ожидает та же участь, что вполне естественно и что было впервые доказано в эпоху империи Наполеона. Между образованием и пропагандируемыми идеями не должно существовать никаких разногласий, воспитание критического мышления в университетской среде и способность к рефлексии несовместимы с пропагандистскими доктринами.
Используются также возможности школьного образования и воспитания молодежи для внедрения и распространения пропагандистских идей. Школа меняется, равно как и основы педагогики, учащиеся вовлекаются в конформистские организации, индивидуализм не одобряется, а порицание отщепенцев исходит не от властных структур или администрации, но от сотоварищей. Религия и церковь, если они хотят выжить в новых условиях, должны одобрять действия властей, петь хором вместе со всеми и стать частью пропаганды. Еще Наполеон ясно сформулировал правила подключения священников к пропагандистской машине в Доктрине церкви[30]. Судебная власть также не может остаться в стороне[31]. Разумеется, судебный процесс мог бы стать для обвиняемого отличной трибуной для провозглашения своих идей, он мог бы, защищаясь, высказать свои мысли и обличить пропагандистские приемы, но такое возможно лишь при демократии. В случае пропаганды со стороны государства ситуация развивается в обратном порядке. Судья обязан превратить судебное разбирательство в образцовую порку обвиняемого, чтобы другим не повадно было.
История знает примеры таких «показательных» процессов, в которых особую роль играет признание подсудимым своей вины… (процесс о поджоге Рейхстага, процессы в Москве в 1936 г., знаменитый Нюрнбергский процесс, многочисленные процессы в народных демократиях после 1945 г.)
В конце концов пропаганда присваивает себе и литературу, как настоящую, а также и прошлую, и историю, которую переписывают в соответствии с требованиями пропаганды… И пусть не говорят, что это – признак исключительно авторитарных правительств, тоталитарных режимов и тирании. Нет, такое положение вещей свойственно любой пропаганде. По природе своей она прибирает к рукам все, что может пойти ей на пользу. Вспомним невинный пример пропаганды демократического строя, либеральных взглядов, республиканской формы правления, которые в XIX веке без зазрения совести присвоили себе заслуги Афинской демократии и Римской республики, переписали конституцию Средневековых коммун, обогатили свою историю за счет эпохи Возрождения и Реформации (может быть они делали это, не отдавая себе отчета и из самых лучших побуждений, но это не может служить им оправданием). Их история ничуть не менее модифицирована, чем история прошлого, подправленная большевиками. С другой стороны, нам известно множество примеров, как литература прошлых лет, благодаря толкованию, приобретала новый контекст, более соответствующий современности. Вот лишь некоторые примеры:
В статье, опубликованной в Правде в мае 1957 года, один китайский писатель Мао Дун писал, что древние поэты Китая использовали такие слова, чтобы описать стремление простого народа к лучшей жизни: «благоухают цветы, сияет луна, как длинна жизнь человека», а потом добавляет: «Я позволю себе дать такое объяснение этим поэтическим строкам: «цветы благоухают» – это значит, что искусство социалистического реализма расцвело и невероятно прекрасно; «сияет луна» – это значит, что советский спутник открыл новую эру в завоевании космоса, «длинна жизнь человека» – это значит, что Великий Советский Союз будет жить еще сотни тысяч лет».
Прочитаешь это один раз – и улыбнешься, но если перечитывать сотни раз и не читать ничего другого, то в мозгах необратимо произойдут изменения. И вот уже понимаешь, насколько иным становится общество, если подобные тексты, (распространяемые, кстати, в десятках тысяч экземпляров), начинают восприниматься всерьез не только властью, но и интеллигенцией. Это то – что называют коренным изменением точки зрения, глобальной трансформацией мировоззрения (нем. Weltanschauung), т. е. наиглавнейшей задачей тоталитарной пропаганды.
И вот еще: пропагандист должен уметь пользоваться не только всеми инструментами пропаганды, но различными способами ее внедрения в массы. Их существует множество, но сейчас преобладают наипростейшие, не учитывающие их специфичность и большую эффективность при их комбинации. Прямой пропаганде, направленной на изменение общественного мнения, должна предшествовать более мягкая обработка общества, ориентированная на создание благоприятной атмосферы, предпосылок для пересмотра взглядов, своего рода подготовка к прямому воздействию. Тут уместно подчеркнуть, что пропаганда «в лоб» никогда не будет эффективной без предварительной подготовки, которая заключается в том, чтобы заронить сомнение в общепринятом мнении, без какого-либо давления подменить стереотипы, распространить слухи, не демонстрируя истинных намерений, показать как-бы невзначай соответствующие картинки. Зрителю сама придет в голову идея о величии Франции, если ему показывать фильмы о железных дорогах на территории страны, рассказывать о том, как добывают во Франции нефть, об огромных заводах, о реактивных пассажирских самолетах Каравелла[32]. Должна состояться социальная обработка на местах перед тем, как в дело вступит прямой импульс. Такая работа может быть сравнима с вспашкой земли перед посевом: одно без другого не имеет смысла. Необходимо их сочетать, так как социальная обработка сама по себе никогда не заставит индивида думать и действовать по-другому, она не возвышает его над обыденностью, не подталкивает к действию. То же можно сказать и об устной пропаганде и пропаганде действием. Необходимо, чтобы устная речь сопровождалась какой-либо иллюстрацией, а картинка была объяснена словами. Устная и письменная пропаганда, воздействующая на разум или на чувства, должна сопровождаться пропагандой, приводящей индивида к действию, дающей ему понять, насколько это действие ему необходимо. Тут тоже одно без другого не работает.