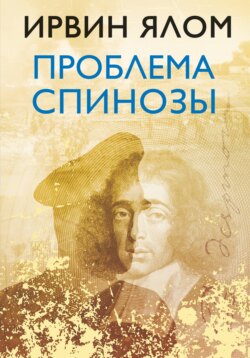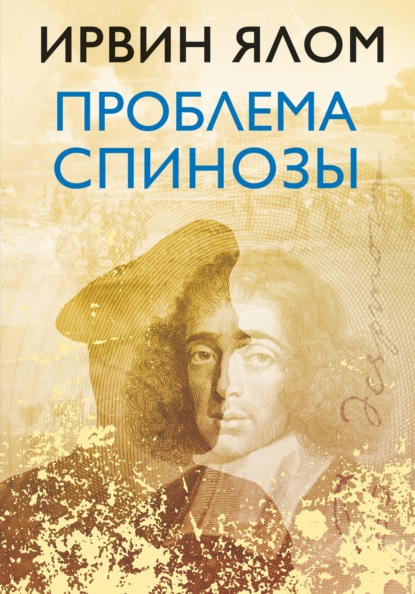Книги Ирвина Ялома

«Когда Ницше плакал»
Незаурядный пациент… Талантливый лекарь, терзаемый мучениями… Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера).
«Лжец на кушетке»
Ялом показывает изнанку терапевтического процесса, позволяет читателю вкусить запретный плод и узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов. Книга Ялома – прекрасная смотровая площадка, с которой ясно видно, какие страсти владеют участниками психотерапевтического процесса.
«Мама и смысл жизни»
Беря в руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.
«Проблема Спинозы»
Жизнеописания гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж ХVII и ХХ веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.
Предисловие переводчика
Уважаемые читатели!
Искренне надеюсь, что вы получите от чтения книги, которую держите в руках, такое же удовольствие, какое получила я, ее переводя. Будучи по жанру историческим романом, «Проблема Спинозы» разительно отличается от большинства современных произведений того же плана, где более или менее искусно выписанный антураж исторического периода и приключения героев в стиле экшн нередко становятся самоцелью. Притом что «вкус» эпохи (точнее двух) и захватывающие сюжетные перипетии в этом романе тоже есть (равно как символические смысловые вехи и яркие контрасты, создающие стройную архитектонику текста), он еще отмечен тонким и глубоким психологизмом – «знаком качества» большой литературы. Да и могло ли быть иначе – учитывая, что автор, Ирвин Ялом, является одним из виднейших представителей школы глубинной психологии! К счастью, талант психолога и психиатра сочетается в нем с даром беллетриста – и настолько мощным, что даже учебные пособия по клинической психотерапии, вышедшие из-под пера Ирвина Ялома, читаются почти как романы.
В «Проблеме Спинозы» оба эти таланта сверкают всеми своими гранями – и первый накладывает явственный отпечаток на авторский стиль, особенно в эпизодах беседы двух как бы «психотерапевтических пар» (терапевт – пациент): Бенто Спиноза – Франку Бенитеш и Фридрих Пфистер – Альфред Розенберг. Задача Ялома – показать внутренний мир своих героев через их психологическое раскрытие в череде бесед – диктует выбор определенных выразительных средств. Так что если вам, уважаемые читатели, в какой-то момент покажется, что жившие в XVII веке Бенто и Франку в процессе «взаимной терапии» переходят на язык психиатров и психологов века XX, то это вовсе не потому, что автор «не выдержал стиль». Скорее, рисуя психологические портреты далеко опередивших свое время людей, автор именно такими необычными штрихами прибавляет им жизненных красок и приближает к нам. Так, как будто мы смотрим на них не сквозь пыльные и дымные стекла истории, а через линзу телескопа, отшлифованную с одной стороны трудами Бенто Спинозы, а с другой – Ирвина Ялома.
Элеонора Мельник
Введение
Факты или вымысел? Расставляя точки над «i»
Я пытался написать историю, которая могла бы происходить на самом деле. Стараясь как можно ближе придерживаться исторических событий, я прибегнул к своему профессиональному опыту психиатра, чтобы представить внутренний мир Бенто Спинозы и Альфреда Розенберга. Два придуманных мною персонажа – Франку Бенитеш и Фридрих Пфистер – служат вратами, открывающими вход в психику главных героев. Разумеется, все сцены с их участием вымышлены.
О жизни Спинозы с уверенностью можно сказать, на удивление, мало – возможно, потому, что он предпочел оставаться «невидимкой». История о двух его визитерах-евреях, Франку и Якобе, основана на кратком рассказе из ранней биографии Спинозы, где были описаны двое молодых людей (оставшиеся безымянными), которые вовлекали философа в разговоры с намерением побудить его раскрыть свои еретические взгляды. В скором времени Спиноза прервал контакт с ними, после чего они донесли на него рабби Мортейре и еврейской общине. Более ничего об этих двух мужчинах не известно – и может ли романист желать лучшего! – а некоторые из специалистов и вовсе подвергают сомнению достоверность подобного инцидента. Однако же он мог произойти на самом деле. Алчный Дуарте Гонсалес, которого я изобразил в роли дяди молодых людей, затаившего злобу против Спинозы, – реальная историческая фигура.
Мысли и идеи Спинозы, выражаемые в его спорах с Якобом и Франку, в основном взяты из его «Богословско-политического трактата». Вообще во всем романе я часто использовал фрагменты и цитаты из этой книги, а также из «Этики» и его личной переписки. Спиноза в роли хозяина лавки – плод фантазии, ибо сомнительно, чтобы он когда-либо занимался куплей-продажей. Его отец, Михаэль Спиноза, создал успешное импортно-экспортное торговое дело, которое к тому моменту, как Спиноза «вошел в возраст», уже переживало трудные времена.
Учитель Спинозы, Франциск Ван ден Энден, был замечательно обаятельным, энергичным, свободомыслящим человеком. Позже он перебрался в Париж и впоследствии был казнен по приказу Людовика XIV за участие в заговоре, имевшем целью свержение его монархии. Его дочь, Клару Марию, почти все биографы Спинозы описывают как очаровательную девочку-вундеркинда, которая, повзрослев, вышла замуж за Дирка Керкринка, соученика Спинозы по академии Ван ден Эндена.
Из немногих фактов, известных о Спинозе, наиболее достоверным является его исключение из общины, и я дословно воспроизвел официальный текст постановления об отлучении. Скорее всего, Спиноза никогда более не поддерживал контактов ни с одним евреем – и, разумеется, его продолжающаяся дружба с евреем Франку вымышлена от начала и до конца. Я представлял себе Франку человеком, далеко опередившим свою эпоху, предтечей Мордехая Каплана, первопроходца ХХ века в модернизации и секуляризации иудаизма. Остававшиеся на тот момент в живых брат и сестра Спинозы поддержали отлучение и прервали всякие отношения с братом. Ребекка, как я и писал, вновь ненадолго появилась в поле зрения историков после его смерти и попыталась предъявить права на имущество Спинозы. Габриель эмигрировал на один из Карибских островов и умер там от желтой лихорадки. Рабби Мортейра был выдающейся фигурой в еврейском обществе XVII века, и многие из его проповедей сохранились до наших дней.
Практически ничего не известно о том, какой эмоциональный отклик вызвало у Спинозы изгнание из общины. Мое описание его реакции полностью вымышлено – но, по-моему, это вероятная реакция на радикальное отлучение от всего, что он знал в своей жизни. Города и дома, в которых жил Спиноза, его ремесло – шлифовка линз, его связи с коллегиантами, дружба с Симоном де Врисом, анонимные публикации, библиотека и, наконец, обстоятельства его смерти и похорон – все это факты, зафиксированные в истории.
В части романа, посвященной ХХ веку, исторической точности больше. Однако Фридрих Пфистер – персонаж полностью беллетристический, и общение между ним и будущим нацистским рейхсляйтером Альфредом Розенбергом – плод моего воображения. Тем не менее, насколько я понимаю структуру личности Розенберга и знаю состояние психотерапии в начале ХХ столетия, подобные взаимодействия могли происходить на самом деле. В конце концов, как сказал Андре Жид, «история – это вымысел, который воплотился на деле. А вымысел – это история, которая могла воплотиться».
Документ, составленный одним из конфисковавших библиотеку Спинозы офицеров розенберговского АРР (Айнзацштаба рейхсляйтера Розенберга), содержал утверждение о том, что эта библиотека поможет нацистам разрешить «проблему Спинозы». Я не смог больше найти ни одного свидетельства, которое связывало бы воедино Розенберга и Спинозу. Но эта связь могла существовать: Розенберг воображал себя философом и, вне всякого сомнения, знал, что многие великие немецкие мыслители почитали Спинозу. Таким образом, фрагменты, связывающие Спинозу и Розенберга, тоже относятся к жанру «фикшн» (включая два посещения Розенбергом Музея Спинозы в Рейнсбурге). Во всем остальном, сообщая главные детали жизни Розенберга, я старался соблюдать точность. Мы знаем из его воспоминаний (написанных в тюремном заключении во время Нюрнбергского процесса), что в возрасте 16 лет его действительно «воспламенили» работы писателя-антисемита Хьюстона Стюарта Чемберлена. Этот факт лег в основу придуманного мною столкновения между подростком Розенбергом, директором Эпштейном и учителем Шефером.
Бо́льшая часть подробностей дальнейшей жизни Розенберга основана на исторических данных: это его семья, образование, браки, художественные устремления, жизнь и приключения в России, попытка вступить в германскую армию, побег из Эстонии в Берлин, а потом в Мюнхен, ученичество у Дитриха Эккарта, карьера редактора, отношения с Гитлером, роль в мюнхенском «пивном» путче, трехсторонняя встреча с Гитлером и Хьюстоном Стюартом Чемберленом, разнообразные посты в руководстве нацистов, писательские работы, Национальная премия и роль в Нюрнбергском процессе.
Я скорее могу поручиться за свое представление о внутренней жизни Розенберга, чем Спинозы, потому что в моем распоряжении было не в пример больше данных, почерпнутых из его собственных речей, автобиографических заметок, а также наблюдений и замечаний других людей. Он действительно дважды был госпитализирован в клинику Гогенлихен: на 3 недели в 1935 году и на 6 недель в 1936 году, по причинам, носившим – по крайней мере, отчасти – психиатрический характер. Письмо Чемберлена Гитлеру процитировано буквально, как и письмо доктора Гебхардта Гитлеру, описывающее личностные проблемы Розенберга (кроме заключительного параграфа, в котором идет речь о Фридрихе Пфистере). К слову, Гебхардт был повешен в 1948 году как военный преступник за свои медицинские эксперименты, проводившиеся в концентрационных лагерях. Все письма, газетные заголовки, приказы и речи воспроизведены с буквальной точностью. Описание попыток Фридриха проводить психотерапию с Альфредом Розенбергом основано на том, как я лично мог бы подойти к этой задаче – работать с таким человеком как Розенберг.
Глава 1
Амстердам, апрель 1656 г
Когда последние солнечные зайчики отскакивают от вод Званенбургваля[1], весь Амстердам закрывается. Красильщики собирают свои пурпурные и алые ткани, разложенные для просушки на каменных берегах канала. Торговцы скатывают навесы и запирают ставнями уличные палатки. Немногочисленный рабочий люд разбредается по домам; некоторые останавливаются, чтобы наскоро перекусить и выпить голландского джину у ларьков селедочников на канале, а потом продолжают свой путь. Жизнь в Амстердаме движется медленно: город скорбит, еще не оправившись от чумы, которая всего несколько месяцев назад отправила на тот свет каждого 9-го горожанина.
В нескольких метрах от канала, на Бреестраат, в доме номер 4, обанкротившийся и слегка подвыпивший Рембрандт ван Рейн в последний раз прикасается кистью к своей картине «Иаков благословляет сыновей Иосифа», ставит подпись в нижнем правом углу, швыряет на пол палитру и, развернувшись, начинает спускаться по узенькой винтовой лестнице. Дом Рембрандта, которому суждено через три столетия стать музеем и мемориалом художника, в тот день сделался свидетелем его позора. Он битком набит покупщиками, предвкушающими аукцион, где все имущество Рембрандта пойдет с молотка. Хмуро растолкав по сторонам толпящихся на лестнице зевак, он выходит из парадной двери, вдыхает солоноватый воздух и, спотыкаясь, направляется к таверне на углу.
В Дельфте, в 70 километрах к югу от Амстердама, начинает всходить звезда другого художника. Двадцатипятилетний Ян Вермеер окидывает взглядом свою новую картину – «У сводни». Глаза его медленно скользят слева направо. Первая фигура – блудница в ослепительно-желтой блузе. Хорошо. Здорово! Желтый сияет, как полированный солнечный свет. И окружающие ее мужчины… Превосходно! – кажется, любой из них вот-вот сойдет с холста и заговорит. Он наклоняется ближе, чтобы поймать беглый, но пронзительный взор ухмыляющегося молодого человека в щегольской шляпе. Вермеер кивает своему миниатюрному двойнику. Весьма довольный, ставит в нижнем правом углу подпись с завитушкой.
А в это время в Амстердаме, в доме номер 57 по Бреестраат, в двух кварталах от дома Рембрандта, где идут приготовления к аукциону, один двадцатипятилетний купец готовится закрыть свою «импортно-экспортную» лавку (он родился всего несколькими днями ранее Вермеера, которым будет потом всячески восхищаться; хотя знакомству их состояться не суждено). Этот молодой человек кажется слишком хрупким и красивым для лавочника. Черты его лица правильны, смуглая кожа без изъянов, глаза – большие, темные, одухотворенные.
Он напоследок обводит лавку взглядом: многие полки так же пусты, как и его карманы. Пираты перехватили последний корабль из Байи[2] с партией товара, и теперь нет ни кофе, ни сахара, ни какао. Старшее поколение семейства Спиноза вело процветающую оптовую импортно-экспортную торговлю, а ныне у двоих братьев – Габриеля и Бенто – осталась лишь одна небольшая розничная лавка. Втянув ноздрями пыльный воздух, Бенто ощущает в нем омерзительную вонь крысиного помета, смешанную с ароматом сушеных фиг, изюма, засахаренного имбиря, миндаля, турецкого гороха и испарений острого испанского вина. Он выходит на улицу и приступает к ежедневной дуэли с заржавленным замком на двери лавки. Незнакомый голос, произносящий слова высокопарного португальского наречия, заставляет его вздрогнуть.
– Это ты – Бенто Спиноза?
Спиноза оборачивается и видит двух незнакомцев, молодых людей, которые, судя по их утомленному виду, проделали немалый путь. Тот, что заговорил с ним, высок, его массивная крупная голова по-бычьи наклонена вперед, словно шее слишком тяжело держать ее прямо. Одежда его добротна, но покрыта пятнами и измята. Другой, одетый в крестьянские лохмотья, стоит позади своего спутника. У него длинные спутанные волосы, темные глаза, волевой подбородок и нос. Держится он зажато. Движутся только глаза – мечутся из стороны в сторону, точно перепуганные головастики.
Спиноза с опаской кивает.
– Я – Якоб Мендоса, – говорит тот из них, что повыше. – Нам нужно было увидеть тебя. Мы должны поговорить с тобой. Это мой двоюродный брат, Франку Бенитеш, которого я только что привез из Португалии. Мой брат, – Якоб хлопает Франку по плечу, – в большой беде.
– Да? – настороженно отзывается Спиноза. – И что же?
– В очень большой беде.
– Так… И к чему же было искать меня?
– Нам сказали, что ты – тот, кто может нам помочь. Возможно, единственный, кто это может.
– Помочь?..
– Франку утратил всякую веру. Он во всем сомневается. Во всех ритуалах веры. В молитве. Даже в присутствии Божием! Он все время боится. Не спит. Говорит, что убьет себя.
– И кто же ввел вас в заблуждение, направив ко мне? Я – всего лишь торговец, который ведет небольшое дело. И не слишком прибыльное, как ты можешь заметить. – Спиноза указывает на запыленную витрину, сквозь которую угадываются полупустые полки. – Рабби Мортейра – вот духовный глава. Вы должны пойти к нему.
– Мы прибыли вчера, а сегодня поутру так и хотели сделать. Но хозяин гостиницы, наш дальний родственник, отсоветовал. Он сказал: «Франку нужен помощник, а не судья». Он поведал нам, что рабби Мортейра суров с сомневающимися. Мол, рабби считает, что всех португальских евреев, обратившихся в христианство, ждет вечное проклятие, пусть даже они были принуждены сделать это, выбирая между крещением и смертью. «Рабби Мортейра, – сказал он, – сделает Франку только хуже. Идите и повидайте Бенто Спинозу. Он – дока в таких делах».
– Да что это за разговоры такие?! Я – простой торговец…
– Наш родственник утверждает, что, если бы не кончина старшего брата и отца, которая заставила тебя принять торговое дело, ты был бы следующим верховным раввином Амстердама.
– Я должен идти. У меня назначена встреча, которую я не могу пропустить.
– Ты идешь на службу в синагоге, да? Так мы тоже туда идем. Я веду с собою Франку, ибо он должен вернуть себе веру. Можем мы пойти с тобой?
– Нет, я иду на встречу иного рода.
– Это какого же? – спрашивает Якоб и тут же осаживает себя: – Прости. Это не мое дело… Может, встретимся завтра? Пожелаешь ли ты помочь нам в шаббат? Это разрешается, ведь это мицва[3]. Мы нуждаемся в тебе. Мой брат в опасности.
– Странно… – Спиноза качает головой. – Никогда еще я не слышал подобной просьбы. Простите, но вы ошибаетесь. Мне нечего вам предложить.
Франку, который все время, пока Якоб разговаривал с Бенто, стоял, уставившись в землю, вдруг поднимает глаза и произносит свои первые слова:
– Я прошу о малом – только перемолвиться с тобою парой слов. Откажешь ли ты брату-еврею? Ведь это твой долг перед странником. Мне пришлось бежать из Португалии – как пришлось бежать твоему отцу и его семье, чтобы спастись от инквизиции.
– Но что я могу…
– Моего отца сожгли на костре ровно год назад. Знаешь, за какое преступление? Они нашли на нашем заднем дворе зарытые в землю страницы Торы! Брат моего отца, отец Якоба, тоже вскоре был убит. У меня есть вот какой вопрос. Подумай об этом мире, где сын вдыхает запах горящей плоти своего отца. Куда же подевался Бог, что создал такой мир? Почему Он позволяет это? Винишь ли ты меня за то, что я задаюсь такими вопросами? – Франку несколько мгновений пристально смотрит в глаза Спинозе, потом продолжает: – Уж наверняка человек, именуемый благословенным (Бенто – по-португальски, или Барух – по-еврейски), не откажет мне в разговоре?
Спиноза медленно и серьезно кивает.
– Я поговорю с тобою, Франку. Быть может, встретимся завтра днем?
– В синагоге? – уточняет Франку.
– Нет, здесь. Приходите сюда, в лавку. Она будет открыта.
– Лавка? Открыта?! – перебивает Якоб. – Но как же шаббат?
– Семейство Спиноза в синагоге представляет мой брат, Габриель.
– Но ведь священная Тора, – упорствует Якоб, не обращая внимания на Франку, который дергает его за рукав, – говорит, что Бог желает, чтобы мы не трудились в шаббат, дабы мы проводили этот святой день в молитвах к Нему и в совершении мицвот!
Спиноза, обращаясь к Якобу, говорит мягко, как учитель с юным учеником:
– Скажи мне, Якоб, веруешь ли ты, что Бог всемогущ?
Якоб кивает.
– Веруешь, что Бог совершенен? Что Он полон в себе?
И вновь Якоб соглашается.
– Тогда ты наверняка согласишься, что, по определению, совершенное и полное существо не имеет ни нужд, ни недостатков, ни потребностей, ни желаний. Разве не так?
Якоб задумывается, медлит, а затем осторожно кивает. Спиноза замечает, что уголки губ Франку начинают растягиваться в улыбке.
– Тогда, – продолжает Спиноза, – я заключаю, что Бог не имеет никаких желаний относительно того, как именно мы должны прославлять его – и даже не имеет желания, чтобы мы вообще его прославляли. Так позволь же мне, Якоб, любить Господа на свой собственный лад.
Глаза Франку округляются. Он поворачивается к Якобу, всем своим видом будто бы говоря: «Вот видишь, видишь?! Это тот самый человек, которого я ищу!»
Глава 2
Ревель, Эстония, 3 мая 1910 г
Время: 4 часа дня. Место: скамья в главном коридоре перед кабинетом директора Эпштейна в Петри-реалшуле.
На скамье ерзает шестнадцатилетний Альфред Розенберг, который теряется в догадках, пытаясь понять, зачем его вызвали в кабинет директора. Тело у Альфреда жилистое, глаза – серо-голубые, «тевтонское» лицо – благородных пропорций; прядь каштановых волос падает на лоб как бы небрежно – но именно так, как ему хочется. Вокруг глаз никаких темных кругов: они появятся позже. Подбородок вызывающе поднят. Вся его поза выглядит дерзкой, но кисти рук – то сжимающиеся в кулаки, то расслабляющиеся – выдают тревогу.
Альфред похож на любого юношу и одновременно не похож. Он – почти мужчина, и вся жизнь у него впереди. Через 8 лет он переберется из Ревеля[4] в Мюнхен и станет плодовитым журналистом, антибольшевиком и антисемитом. Через 9 лет – услышит на митинге Немецкой рабочей партии зажигательную речь нового перспективного вождя, ветерана Первой мировой войны по имени Адольф Гитлер – и вступит в партию вскоре после Гитлера. Через двадцать – отложит в сторону ручку и победно улыбнется, закончив последнюю страницу своей книги «Миф двадцатого столетия». Эта книга, которой суждено стать бестселлером с миллионным тиражом, во многом обеспечит идеологический фундамент нацистской партии и даст обоснование уничтожению европейских евреев. Через 30 лет его солдаты ворвутся в маленький музей в голландском городке Рейнсбурге и конфискуют личную библиотеку Спинозы, состоящую из 159 томов. А через 36 лет в его глазах, обведенных темными кругами, мелькнет удивление, и он отрицательно покачает головой, когда американский палач в Нюрнберге спросит его: «Вы хотите сказать последнее слово?»
Юный Альфред слышит эхо приближающихся по коридору шагов и, заметив герра Шефера, своего наставника и учителя немецкого языка, вскакивает, чтобы приветствовать его. Герр Шефер только хмурится и качает головой, проходя мимо него и открывая дверь кабинета директора. Но, перед тем как войти, медлит, поворачивается к Альфреду и беззлобно шепчет:
– Розенберг, вы разочаровали меня – всех нас – своими убогими рассуждениями во вчерашней речи. Убогость этих рассуждений вовсе не перечеркивается тем, что вы были избраны старостой класса. И при всем том я продолжаю верить, что вы не совсем пропащий студент. Всего через несколько недель вам вручат аттестат. Так не будьте же сейчас дураком!
Речь на выборах вчера вечером! Так вот, значит, в чем дело! Альфред хлопает себя по лбу ладонью. Ну, конечно, – потому-то его сюда и вызвали. Хотя там присутствовали почти все 40 учащихся его старшего класса – в основном балтийские немцы, слегка разбавленные русскими, эстонцами, поляками и евреями, – Альфред подчеркнуто обратил свои предвыборные комментарии к немецкому большинству и возбудил дух однокашников, говоря об их миссии как хранителей благородной германской культуры. «Сохраним нашу расу чистой, – говорил он им. – Не ослабляйте ее, забывая наши благородные традиции, усваивая неполноценные идеи, смешиваясь с неполноценными расами!» Вероятно, на этом ему следовало остановиться. Но его занесло. Наверно, он зашел слишком далеко…
Его раздумья прерывает скрип открывшейся массивной, десяти футов[5] в высоту, двери и гулкий голос директора Эпштейна:
– Herr Rosenberg, bitte, herein![6]
Альфред входит в кабинет и видит директора и учителя немецкого, сидящих в дальнем конце длинного стола из темного тяжелого дерева. Альфред всегда чувствовал себя маленьким в присутствии директора Эпштейна – мужчины более шести футов ростом, чья горделивая осанка, пронзительный взгляд и окладистая, хорошо ухоженная борода символизировали собою его властный авторитет.
Директор Эпштейн жестом велит Альфреду сесть в кресло на конце стола. Это кресло заметно меньше размером, чем два кресла с высокими спинками, которые занимают оппоненты Альфреда. Директор не тратит времени зря и сразу приступает к делу:
– Итак, Розенберг, значит, я родом еврей, так, по-вашему? И моя жена тоже еврейка, не так ли? И евреи – неполноценная раса и не должны учить немцев? И, как я понимаю, определенно не должны дослуживаться до должности директора?
Нет ответа. Альфред выдыхает, пытается поглубже вдвинуться в кресло и опускает голову.
– Розенберг, верно ли я излагаю вашу позицию?!
– Господин… э-э, господин директор, я слишком спешил и не обдумывал свои слова. Такие замечания упоминались мною лишь в самом общем смысле. Это была предвыборная речь, и я говорил так потому, что именно это они хотели услышать.
Краем глаза Альфред видит, как герр Шефер горбится в своем кресле, снимает очки и потирает глаза.
– О, понимаю. Значит, вы говорили в общем смысле? Но теперь во́т он я перед вами – и не в общем смысле, а очень даже в частном!
– Господин директор, я говорю только то, что думают все немцы, – что мы должны сохранить нашу расу и нашу культуру.
– А как же быть со мной и с евреями?
Альфред вновь молча склоняет голову. Его так и тянет уставиться в окно, расположенное точно напротив середины стола, но он опасливо поднимает глаза на директора.
– Да уж, конечно, как же отвечать на такой вопрос! Может быть, у вас развяжется язык, если я скажу, что моя родословная и родословная моей жены – чисто немецкие, и наши предки пришли в эти места в XIV столетии? Более того, мы преданные лютеране!
Альфред медленно кивает.
– И тем не менее вы назвали меня и мою жену евреями! – продолжает директор.
– Я этого не говорил. Я только сказал, что ходят слухи…
– Слухи, которые вы с готовностью распространяете ради своего собственного преимущества на выборах! А скажите-ка мне, Розенберг, на каких фактах основываются эти слухи? Или они просто взяты из воздуха?
– Факты? – Альфред мотает головой. – Э-э… ну, может быть, ваша фамилия?
– Так, значит, Эпштейн – это еврейская фамилия? Все Эпштейны – евреи, вы это хотите сказать? Или 50 процентов? Или только некоторые? Или, может быть, один на тысячу? Что показали вам ваши научные изыскания?
Нет ответа. Альфред качает головой.
– Вы имеете в виду, что, несмотря на все свои познания в науке и философии, приобретенные в нашем училище, вы даже не задумываетесь о том, откуда знаете то, что знаете. Не это ли – один из главных уроков эпохи Просвещения? Мы что же, плохо вас учили? Или это вы плохо учились у нас?
Альфред ошарашен. Герр Эпштейн барабанит пальцами по столу, потом вопрошает:
– А ваша фамилия, Розенберг? Ваша фамилия – тоже еврейская?
– Я уверен, что нет!
– А вот я в этом не так уверен. Позвольте мне сообщить вам некоторые факты насчет фамилий. В эпоху Просвещения в Германии… – Директор Эпштейн умолкает, а потом рявкает: – Розенберг, знаете ли вы, когда было Просвещение и что это такое?
Бросив взгляд на герра Шефера, с мольбой в голосе, Альфред робко, полувопросительно отвечает:
– В XVIII веке и… и это была эпоха… эпоха разума и науки?
– Да, именно так. Хорошо. Не все наставления герра Шефера были потрачены на вас зря…. В конце этого столетия в Германии были приняты меры по превращению евреев в немецких граждан, и они были принуждены выбрать себе немецкие фамилии – и заплатить за них. Если они отказывались платить, то могли получить фамилии-насмешки, такие как Шмуцфингер[7] или Дреклекер[8]. Большинство евреев соглашались заплатить за более приятную или элегантную фамилию, к примеру – цветочную, вроде Розенблюма[9], или ассоциировавшуюся с природой, наподобие Гринбаума[10]. Еще популярнее были названия благородных за́мков. Например, название замка Эпштейн имело благородные коннотации, поскольку он принадлежал знатнейшему семейству Великой Римской империи, и эту фамилию часто выбирали евреи, жившие в окрестностях замка в XVIII столетии. Некоторые евреи платили меньшие суммы за традиционные еврейские фамилии, вроде Леви или Коген. Ваша фамилия, Розенберг, тоже очень древняя. Но уже более ста лет она живет новой жизнью. Она стала распространенной еврейской фамилией в нашем отечестве – и, уверяю вас, если вы предпримете поездку в Германию, то увидите косые взгляды и ухмылки и услышите толки о еврейских предках в вашей родословной. Скажите мне, Розенберг, как вы станете на них отвечать, если такое произойдет?
– Я последую вашему примеру, господин директор, и расскажу о своей родословной!
– Я-то лично проводил исследование генеалогии моей семьи за несколько столетий. А вы?
Альфред отрицательно качает головой.
– Вы знаете, как проводят такие исследования?
Снова отрицательный жест.
– В таком случае одной из ваших обязательных исследовательских работ перед выпуском будет выяснение генеалогических деталей, а затем – проведение изысканий по вашей собственной родословной.
– Одной из моих работ, господин директор?
– Да, потребуется выполнить два обязательных задания, чтобы снять любые мои сомнения относительно вашей готовности к получению аттестата, равно как и вашей пригодности к поступлению в Политехнический институт. После нашей сегодняшней беседы, мы – герр Шефер и я – примем решение относительно второго познавательного задания.
– Да, господин директор.
До Альфреда начинает доходить, насколько рискованно его положение.
– Скажите мне, Розенберг, – интересуется директор, – знали ли вы, что на митинге вчера вечером присутствовали евреи?
Альфред чуть заметно наклоняет голову. Эпштейн продолжает:
– А принимали ли вы во внимание их чувства и реакцию на ваши слова о том, что евреи недостойны учиться в этом училище?
– Я полагаю, что мой первейший долг – думать об отечестве и защищать чистоту нашей великой арийской расы, созидательной силы всей цивилизации.
– Розенберг, выборы закончились – избавьте меня от речей! Отвечайте на мой вопрос. Я спрашивал о чувствах евреев, бывших среди вашей аудитории.
– Я считаю, что, если мы не будем настороже, еврейская раса повергнет нас. Они слабы. Они – паразиты. Вечный враг! Антираса, противостоящая арийским ценностям и культуре!
Удивленные горячностью Альфреда, директор Эпштейн и герр Шефер обмениваются обеспокоенными взглядами. Директор решает копнуть поглубже.
– Кажется, вы желаете увильнуть от моего вопроса. Хорошо, я зайду с другой стороны. Значит, евреи – слабая, паразитическая, неполноценная жалкая раса?
Альфред согласно кивает.
– Так скажите же мне, Розенберг, каким образом может столь слабая раса быть угрозой нашей всемогущей арийской расе?
Пока Альфред пытается сформулировать ответ, Эпштейн продолжает допытываться:
– Скажите мне, Розенберг, вы изучали Дарвина в классе герра Шефера?
– Да, – отвечает Альфред, – в курсе истории у герра Шефера, а также у герра Вернера, в курсе биологии.
– И что вы помните из Дарвина?
– Я знаю об эволюции видов и о выживании наиболее приспособленных.
– Ах, да, наиболее приспособленные! И вы, конечно же, старательно читали Ветхий Завет на уроках закона Божия?