Обыкновенные убийцы: Как система превращает обычных людей в монстров

000
ОтложитьЧитал
Переводчик: Марина Булычёва
Редактор: Евгений Яблоков
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Ольга Равданис
Дизайн обложки: Юрий Буга
Корректоры: Оксана Дьяченко, Мария Смирнова
Компьютерная верстка: Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Originally published as «Täter: Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden» by Harald Welzer
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2005
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2024
⁂
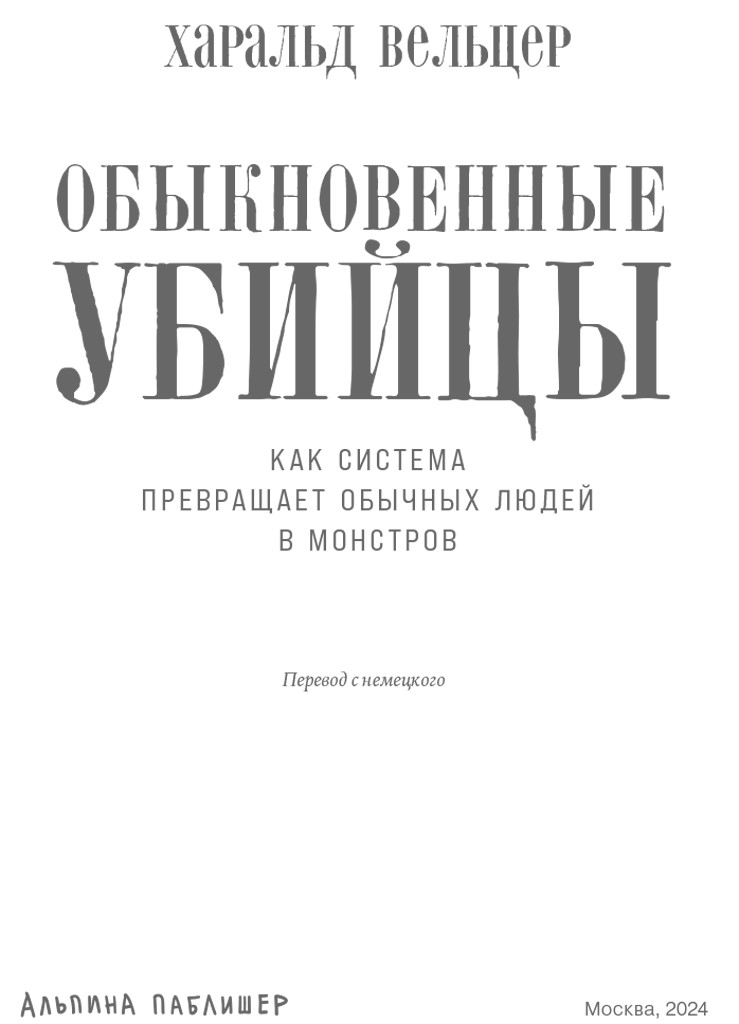
Что такое массовый убийца?
Если люди, получившие такое же воспитание, что и я, говорящие те же слова, что и я, любящие те же книги, ту же музыку, те же картины, что и я, – если эти люди совершенно не застрахованы от вероятности превратиться в извергов и творить вещи, о которых мы прежде и подумать не могли, что на них способны люди нашего времени, за редким патологическим исключением, то как я могу быть уверен в том, что от этого застрахован я сам?
Макс Фриш, 1946 г.
Когда главные военные преступники, в том числе Герман Геринг, Рудольф Гесс, Альберт Шпеер, Ганс Франк и Юлиус Штрейхер, сидели в тюрьме в Нюрнберге, большой интерес вызывало то, как устроена их психика: что же это за люди, каждый из которых по-своему участвовал в планировании и совершении самого крупного в истории преступления против человечности, которые готовили проекты Великогерманского рейха, его столицы – Германии (предварительно следовало разгромить большевизм, уничтожить евреев и всех «недочеловеков» вообще) и отдавали распоряжения об их реализации? Масштабность преступлений национал-социалистов наводила на мысль, что речь, видимо, идет о людях с какими-то психическими отклонениями, – предположение о том, что ответственные за многомиллионные убийства могут быть абсолютно нормальными с точки зрения психологии людьми, большинству современников казалось совершенно абсурдным. Этому способствовали и некоторые странные, подчас опереточные черты отдельных представителей национал-социалистической правящей элиты – например, Германа Геринга, Йозефа Геббельса и Рудольфа Гесса. В связи с этим обвиняемые подвергались тщательному психиатрическому обследованию с проведением бесед, наблюдений и тестов. Первый ответственный судебный психолог на Нюрнбергском процессе Дуглас Келли в 1946 г. писал: «Собранный материал включает в себя тесты Роршаха в полном объеме, множество других подобных личностных тестов, внимательные психиатрические наблюдения, графологические тесты и тесты на определение уровня интеллекта»{1}.
Особенно интересовали Келли результаты тестов Роршаха, в рамках которых пациенты или участники исследования должны были с разных точек зрения интерпретировать бесформенные чернильные пятна. В то время такие тесты считались наиболее надежным методом проективных исследований. Ассоциации, возникающие у испытуемых, записываются. В зависимости от них – например, от того, какое животное видит человек в этих абстрактных изображениях или что означают для него эти тени, а также от того, интерпретирует ли испытуемый отдельные детали или картину в целом, – опытные психологи могут сделать вывод о его психическом состоянии и о его личности. Именно с помощью тестов Роршаха Келли надеялся сделать заключение о состоянии психики главных военных преступников. Он даже решил отправить собранный материал «ведущим экспертам по тестам Роршаха и затем собрать их заключения, чтобы составить наиболее ясную картину об этих индивидах – представителях самой скверной группы преступников, которых когда-либо встречал род людской»{2}.
Прошел год, прежде чем Келли претворил свой план в жизнь. Десяти ведущим экспертам, специализировавшимся на тестах Роршаха, были отправлены письма с просьбой «определить значимые характеристики этих людей, чтобы дополнить исследования менее опытных психологов», работавших непосредственно с обвиняемыми в Нюрнберге{3}. Результат оказался ошеломительным. Несмотря на то что речь шла об абсолютно уникальном случае, эксперты проявили к материалам крайне мало интереса. Точнее говоря, ни один из десяти экспертов не отреагировал на просьбу составить заключение. Извинения, если и последовали, выражали безразличие: не было времени, руки не дошли, помешали непредвиденные личные обстоятельства.
Такой очевидно не согласованный, но абсолютно единодушный отказ имел, однако, более глубокое объяснение, связанное с самим материалом исследований. Как писала 30 лет спустя Молли Хэрроуэр, одна из тех экспертов, к которым Келли обратился за помощью, для всех них было очевидно: общественность ожидает, что эксперты обнаружат в результатах тестов какое-нибудь уникальное психическое отклонение, «общую структуру личности» нацистов «особо отвратительной натуры»{4}. Однако ничего подобного в полученном материале не оказалось – и, по-видимому, эксперты не захотели сообщать об этом миру. В итоге сам Келли набрался мужества и сформулировал в своем заключении простой и драматичный вывод: «По результатам исследований мы вынуждены заключить, что данные лица не являются ни больными, ни особенными; это совершенно обычные люди, которых можно встретить в любом уголке земли»{5}.
Однако это отрезвляющее суждение, как известно, не остановило тех, кто искал у национал-социалистских преступников какие-либо психические аномалии, позволяющие объяснить то, что совершали эти изверги и за что они были в ответе. Например, Теодор Адорно, явно предпочитавший психологическим тестам психоанализ, в своем эссе «Воспитание после Освенцима» предлагал «изучать виновных в Освенциме всеми методами, доступными науке, в том числе многолетним психоанализом, чтобы выяснить, как человек превращается в такое»{6}. Вряд ли это принесло бы большие результаты. Так же, как и Келли, Джон Крен и Леон Раппопорт в своем исследовании психологии членов СС отмечали, что подавляющее большинство эсэсовцев – как руководителей, так и их подчиненных – с легкостью прошли бы комиссию на психологическую пригодность к службе в американской армии или полиции Канзас-Сити. На основании свидетельских показаний они подсчитали, что лишь у 10 % членов СС можно было выявить клиническую патологию{7}. Такая «нормальность» преступников вызывала недоумение. В особенности это заметно у эксперта, составлявшего в 1961 г. заключение о вменяемости Адольфа Эйхмана. Сделав вывод, что его испытуемый нормален, эксперт добавил: «Во всяком случае, куда более нормален, чем был я после того, как с ним побеседовал!»{8}
Но Молли Хэрроуэр, так же как Адорно и многим другим, не давал покоя вопрос: что же за люди эти преступники? В 1974 г. она вновь подняла материалы Нюрнбергского трибунала и вновь их проанализировала – теперь уже с опорой на свой 30-летний опыт. Результат оказался неоднородным. Например, Гесс демонстрировал некоторые эмоциональные отклонения, Риббентроп – явные признаки депрессии, которые, однако, были связаны скорее с его мрачными перспективами, чем с его прошлым. Другие же преступники представлялись во всех отношениях психически здоровыми личностями – что было удивительно, учитывая, какая судьба ожидала их на момент прохождения тестов. Хэрроуэр хотела добиться более четких результатов и попросила 15 экспертов по тестам Роршаха просмотреть и оценить данный материал. Однако метод оценки изменили: если в 1947 г. эксперты знали, чей материал исследуют, то теперь Хэрроуэр выбрала восемь тестов из группы главных военных преступников, анонимизировала данные и перемешала их с аналогичным материалом восьми человек из других исследований. Этот пакет материалов она отправила экспертам с просьбой выяснить, есть ли значительные различия между личностными профилями участников и возможно ли объединить их в какие-либо группы.
На этот раз 10 специалистов, к которым она обратилась, составили заключения (еще трое по различным причинам отказались, двое не ответили), ни одно из которых даже отдаленно не соответствовало биографиям людей, о которых шла речь. Напротив, на вопрос о том, к каким группам можно отнести наиболее заметных исследуемых, эксперты выдвигали гипотезы от правозащитников до крайне умных, творческих и деятельных личностей. Вероятно, из-за этих качеств один эксперт даже предположил, что речь идет о группе психологов.
Барри Ритцлер, находившийся под впечатлением от публикации Хэрроуэр, сам опубликовал в 1978 г. небольшой повторный анализ этих шестнадцати оригинальных тестов и пришел к выводу: единственное, что в них бросается в глаза, – сниженная способность к эмпатии; но в целом никаких клинических отклонений не обнаружил{9}. При этом, по мнению Ритцлера, личностные профили испытуемых никоим образом не соответствовали определению Ханны Арендт в «Банальности зла»: те представали слишком яркими, творческими и одаренными фантазией. Было в этой истории и кое-что ироничное: Ритцлер отметил, что пять из шестнадцати исследуемых увидели в пятнах Роршаха хамелеонов, что встречается крайне редко. Возможно, не случайно четверо из пяти нацистов, которые идентифицировали чернильные кляксы с этим крайне способным к адаптации животным, избежали в Нюрнберге петли, отделавшись лишь тюремным заключением…
Таким образом, с помощью тестов Роршаха не удалось выявить «преступный тип личности» или вообще какие-либо аномальные психологические признаки{10}. Конечно, можно сказать, что те, кто обвинялся на Нюрнбергском трибунале, не совершали собственноручно насилия над своими жертвами и потому, в отличие от преступников из айнзацгрупп, убийц в концентрационных лагерях и врачей СС, необязательно должны были обладать садистическими или нарциссическими чертами. Но на протяжении всей иерархической лестницы, от более высоких руководителей СС и полиции до командиров оперативных групп, от расовых экспертов Главного управления СС по вопросам расы и поселения до комендантов концлагерей, от членов полицейских батальонов у расстрельных ям до охранников в лагерях, садистические черты личности являются скорее исключением – например, их обнаружили у Ильзы Кох, жены коменданта Бухенвальда Эриха Коха, смещенного с должности из-за различных нарушений, и у Амона Гёта, коменданта лагеря в Плашове, ставшего известным благодаря фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Амон Гёт в качестве развлечения расстреливал заключенных с веранды своей виллы. Среди бесчисленных теоретиков и исполнителей массового уничтожения, как правило, лишь у 5–10 % обнаруживаются психические отклонения, что не является сколько-нибудь необычным показателем в современном обществе[1]. Получается, что подавляющее большинство этих преступников вполне соответствовали тем представлениям, которые мы имеем о самих себе, – они были «нормальными». Примо Леви, переживший Холокост, тоже писал: «Есть чудовища, но их так мало, что едва ли можно считать их опасными. Те, в ком таится опасность, – нормальные люди»{11}.
Это, безусловно, удручающий вывод: ведь поступки, которые совершали эти психически нормальные люди, были настолько ненормальными, что мы до сих пор не можем найти какого-либо убедительного объяснения тому, как это вообще было возможно. И, должен признать, при подготовке к работе над этой книгой я то и дело был на грани отчаяния, поскольку полагал, что так и не смогу найти если не разгадку, то хотя бы социопсихологические рамки для объяснения той «трагической легкости» (по определению Жермена Тильона), с которой люди становились убийцами и массовыми убийцами, хотя незадолго до этого им и во сне не могло привидеться, что они в состоянии кого-то убить. Когда в протоколах допросов членов айнзацгрупп во всех подробностях читаешь, насколько глубоко – в буквальном смысле – эти преступники при расстрелах погружались в кровь своих жертв, как они приказывали все новым людям ложиться на только что убитых, чтобы их расстрелять (из пулеметов, пистолетов или автоматов, в зависимости от вкуса и опыта соответствующих команд), как разлетались на палачей осколки костей и частицы мозга убитых, – в общем, когда сталкиваешься с такими подробностями умерщвления, действительно трудно понять, как такое вообще стало возможным. Почти рефлекторно развивается желание просто отвернуться от этого ужаса, в особенности когда читаешь ужасающе циничные показания преступников перед судом, в которых они сами пытаются выставить себя истинными страдальцами: «Должен сказать, что нашим мужчинам, принимавшим в этом участие, это действовало на нервы похуже, чем тем, кого там приходилось расстреливать»{12}.
Но этому желанию отвернуться, которое преступники так легко вызывают в нас, нельзя поддаваться. Именно в подобных фразах содержится ключ к объяснению того, как могли они совершить то, что совершили. Возможно, они видели себя жертвами великой задачи, которую, как им казалось, диктовала историческая ситуация. Высказываясь в таком духе, они субъективно рассчитывали, что и для других смогут представить свои действия допустимыми и понятными – как казались они допустимыми им самим в момент совершения убийств в 1941 г., а некоторым – даже десятилетия спустя, на допросах. В отличие от выживших жертв, которые, как, например, участники еврейских зондеркоманд, не могли оправиться после того, чем их принуждали заниматься, преступники, судя по их высказываниям, без труда представляли себя – как тогда, так и сейчас – несломленными и цельными. При чтении протоколов допросов и автобиографических заметок больше всего угнетает то, что их авторы полностью отдавали себе отчет в своих действиях, – потрясает эта способность жить с несломленной психикой, расстреляв, скажем, 900 мужчин, женщин и детей, и спокойно размышлять, на какую специальность лучше отдать учиться сына[2].
Поэтому так необходимо «пребывать в ужасном», как писала Ханна Арендт. Это первое, что необходимо хотя бы для того, чтобы описать, как преступники сами воспринимали себя, совершая убийства, и как могли интерпретировать свои собственные действия{13}. Кроме того, нужно понимать, что нередко допросы велись спустя 20–30 лет после совершения преступлений. Это значит, что все прошедшее время – эти 20, 30 лет – преступники вели совершенно нормальную жизнь, стали ремесленниками, комиссарами полиции, журналистами, женились, завели детей и построили свои дома. То, что все эти годы преступники в массе своей не страдали от бессонницы, депрессии, тревожности и пр. – кстати, в отличие от их жертв, выживших в войне, – может вселить чувство полной безнадежности в человека, пытающегося найти всему этому какое-либо объяснение.
Но и чувству безнадежности тоже нельзя поддаваться, поскольку именно истории жизни убийц могут помочь понять, как вообще были возможны массовые убийства, подобные, например, расстрелам в Бабьем Яре, когда несколько сотен карателей[3] за пару дней уничтожили более 33 000 мужчин, женщин и детей – собственноручно, прямым актом физической силы. Очевидно, даже это деяние палачам удалось так интегрировать в свою жизненную концепцию, что и после 1945 г. они продолжали вести нормальную обыденную жизнь. Одна из причин, по которым участие в массовых убийствах не вызвало у них особых душевных проблем, состоит в том, что люди способны вписывать свои действия в определенную систему координат («Но ведь шла война», «Но ведь был приказ», «Это было ужасно, но я должен был»), которая позволяет рассматривать собственные действия как нечто независимое от своей личности. Позже я поговорю об этом подробнее.
Помимо таких скорее аналитических причин, заставляющих не отворачиваться от ужасного, есть и политические причины, по которым с преступниками и их преступлениями нужно разбираться как можно подробнее. Нельзя всякий раз реагировать на новый процесс над геноцидом (как, например, в бывшей Югославии или в Руанде) с таким ужасом, словно подобное происходит впервые, – вместо того чтобы раз и навсегда осознать, что насилие, во-первых, имеет историю и повторяющиеся элементы, а во-вторых, происходит в сходных исторических ситуациях. Как правило, коллективные акты насилия – это не необъяснимые вспышки, а повторяющиеся социальные процессы, которые имеют начало, середину и конец и совершаются не буйнопомешанными, а вполне рассудительными людьми. Процессы геноцида обладают собственной внутренней динамикой – по мере развития становится возможным то, что вначале казалось совершенно немыслимым, – а насилие само по себе не является только деструктивным: в итоге создается новая структура, которой до насилия не было. Проявляется ли эта структура в формировании государства по этническому принципу или в устойчивом социопсихологическом эффекте (например, что после Холокоста евреев стали воспринимать прежде всего как жертв) – на данном этапе несущественно. Речь идет о том, чтобы понять насилие в его структурообразующей функции и описать совершающих насилие как мыслящих людей, чтобы затем иметь возможность наблюдать за развитием процессов геноцида и предотвратить их на стадиях возникновения и развития.
Есть еще одна причина, по которой действия преступников необходимо рассматривать глубже, чем это делалось ранее. Она связана как раз с процессуальным характером массовых убийств и геноцидов и имеет непосредственное отношение к современности. Если посмотреть на скорость, с которой протекали процессы этнизации в Югославии, втянувшие все общество в крайне жестокую войну с этническими чистками и массовыми расстрелами, или представить, за какой невероятно короткий период немецкое общество обратилось к национал-социализму после января 1933 г., начинаешь понимать, насколько слабы внутренняя психосоциальная стабильность и устойчивость современных обществ, в которые мы так верим. В то же время становится понятно, что за несколько месяцев способны измениться не только абстрактные аналитические категории, такие как «общество» и «форма власти», но и конкретные люди, которые составляют эти общества и реализуют их формы власти, – они могут весьма быстро изменить свои нормативные ориентации, ценности и убеждения, самоопределение и поведение. Ведь решения о дискриминации других членов общества, о лишении их прав, об отъеме их имущества и, наконец, об их депортации и уничтожении не были приняты в 1933 г. сразу в полном объеме. Они формировались последовательно через активную поддержку и участие сограждан. Постепенно все более нормальным и приемлемым считалось то, что сначала казалось бесчеловечным и недопустимым. Это наблюдение также крайне важно для объяснения преступлений и преступников.
Общественный процесс, в котором радикальная дискриминация других рассматривается во все более положительном ключе, а запрет на убийство перерождается в призыв к убийству, формирует первый круг обстоятельства дела. На этом этапе создаются рамки интерпретации событий, происходящих в обществе, диктующие нормы поведения для каждого отдельно взятого члена общества. В дальнейшем эти рамки могут меняться, адаптируя общество к изменениям в нормах. В отдельных случаях люди могут действовать не вполне в соответствии с этими рамками, переступать за них либо их игнорировать. Но они очень важны для анализа действий преступников, поскольку решения по совершению каких-либо действий принимаются не чисто ситуативно и индивидуально, а всегда в соответствии с этими более глобальными рамками. Например, мнимая легитимность расстрела евреев вписывается в контекст доминировавших в обществе антисемитизма и расизма или, еще глобальнее, в контекст национал-социалистической морали. В течение 12 лет, прошедших с 1933 по 1945 г., данный контекст очень быстро менялся, что важно для восприятия каждым отдельным человеком каждого конкретного случая – будь то ситуация, когда человек задается вопросом, может ли он позволить себе совершать покупки в еврейском магазине, или когда наблюдает за насилием в Хрустальную ночь, или получает приказ расстрелять еврейских детей. Потому что, прежде чем подумать о последствиях или принять решение о совершении (либо несовершении) конкретных действий, человек сначала интерпретирует ситуацию в целом. В таком процессе интерпретации нормы, доминирующие в обществе в целом, учитываются так же, как и ситуативно возникающие групповые нормы, общественные представления о ценностях, религиозные убеждения, прежний опыт, знания, компетенции, чувства и т. д.
Социальная ситуация и ее трактовка индивидуумом, таким образом, составляют второй, внутренний круг обстоятельств дела. Он, в свою очередь, дифференцирован в соответствии с ожиданиями и опытом, которые сопровождают человека в данной ситуации, со способами решения полученных или возникающих задач, сопутствующими им проблемами или предпринятыми корректировками заданного пути, которые влекут за собой новые решения, и т. д. Только после описания данного круга для какого-либо конкретного поступка становится возможным проанализировать поле наблюдения за третьим, более индивидуальным кругом происходящего: оценкой собственного пространства действий конкретной личностью. Такое пространство не дано объективно. Оно зависит от того, воспринимает ли его сам индивидуум, и если да, то как; от того, каких возможных последствий он ожидает от принятия того или иного решения (стрелять вместе со всеми, тайком уклониться или вообще отказаться и т. д.), прежде чем решиться на что-то[4]. Лишь на этом уровне в игру вступает психология – поскольку интерпретация пространства действий и сделанный на ее основе вывод зависят также от личных наклонностей, жизненного опыта, собственного мнения и убеждений, способности действовать и т. д.
Таким образом, один поступок разворачивается в рамках множества контекстов, в которых нужно различать общественный и индивидуальный уровни. С помощью такого различия можно описать не только то, что́ совершили данные конкретные люди, но и то, ка́к они лично воспринимали соответствующую ситуацию, какие ситуативные условия были определяющими для их действий и в каких общих социальных и нормативных рамках, лежащих за пределами субъективного, совершался данный поступок.
