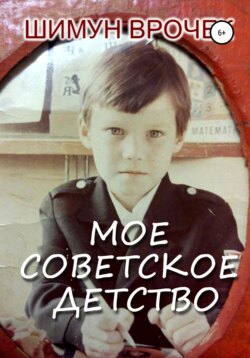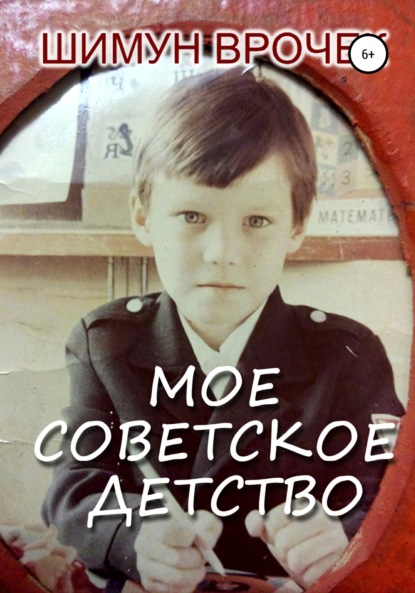***Все иллюстрации в книге – из семейного архива автора.
1. Моя боевая мечта
Когда мне было одиннадцать лет, и всяких видеомагнитофонов и видеосалонов в Нижневартовске еще в помине не было, в передаче "Вокруг света" показывали китайский фильм "Боевые искусства Шаолиня". По десять минут каждую неделю. В ожидании этой передачи я места себе не находил. И все мои друзья тоже. Это был космический фильм. Самый лучший фильм на всем белом свете.
Именно тогда я решил сбежать из дома, пройти всю Сибирь, перейти границу с Китаем и поступить в монастырь Шаолинь. Я разработал маршрут, пользуясь огромной географической картой, расстеленной на полу гостиной, и деревянной ученической линейкой. Собрал вещи. И…
Это сейчас я знаю, что фильм на самом деле назывался "Храм Шаолинь-3" и играл там совсем еще молодой Джет Ли. И что этот фильм китайское посольство предоставило Советскому Союзу (да, тогда еще Союзу) для ознакомления с китайской культурой. Ну, и для покупки прав на прокат тоже. Наши фильм покупать не спешили, зато (формально не нарушая прав) показывали его кусочками в передаче "Вокруг света" несколько месяцев подряд. Был это 1988 год.
…и не сбежал. Вскоре у нас в городе появились ксерокопии и фотокопии с книг по "кунгфу", "каратэ", "Джеткундо" и прочим стилям обезьяны. Затем, как грибы после дождя, выросли по всему городу видеосалоны, где по-кошачьи верещал Брюс Ли и уходил в самоволку Ван Дамм. В каждом дворе и при каждой школе появились секции боевых единоборств. Там отжимались на кулаках и хрипло рычали "хатжимэ!". В каждом киоске можно было купить фотографию с изложением биографии Бодхидхармы. В общем, пока я готовился и чертил маршрут, Шаолинь пришел ко мне сам. Я отжимался на кулаках, вырабатывал буддийское спокойствие духа перед лицом врага и научился с легкостью бить ногой в челюсть человеку выше себя на голову… Хорошее было время. Хотя, конечно, к настоящему Шаолиню все это имело весьма отдаленное отношение. Правда, сенсей из нашей секции утверждал, что в детстве сбежал в Шаолинь и потому знает, как машет хвостом разозлившийся дракон, и как сложить из пальцев убийственную "лапу тигра". А я смотрел на него, открыв рот, и думал, что этот человек осуществил мою мечту.
2.
Почему я не стал ювелиром
Люди исчезают, если их не помнить. Поэтому нужно просто выучить все имена и вспоминать их каждый день. Выучить как можно больше. Тогда эти люди останутся, словно они где-то рядом, рядом с тобой.
Но этого недостаточно.
Что нужно, чтобы человек остался? Нужно помнить их привычки, и как они выглядели, как говорили "привет", или улыбались, в какой позе любили сидеть и смотреть телевизор, и читать, и какая у них была походка. И какой был смех, тихий или громкий. Все эти мелочи нужно помнить и обязательно повторять каждый день. Это важно. Иначе все забывается. Наша память ненадежна, как индекс Доу Джонса. Если не повторять все это каждый день, эти люди исчезнут.
Испарятся, словно дым или туман после сырой ночи солнечным ярким утром.
Лучше всего это делать перед сном.
У Хэмингуэя есть рассказ о человеке, который страдает бессонницей, и вот, пытаясь заснуть, он вспоминает имена всех своих друзей и близких, но нужно не просто вспомнить их имена, а помолиться за них, за каждого из них, и тогда все будет хорошо, и у них все будет хорошо, и этот человек, герой рассказа, спокойно уснет. Теперь я вспоминаю этот рассказ и понимаю, что для того человека было главное не уснуть, а побороть беспокойство, которое есть у каждого хорошего честного человека, который беспокоится за других и боится их потерять. Потому это и есть его способ борьбы с бессонницей. Когда герой загадывает, что нужно успеть вспомнить имя каждого из дорогих ему людей и помолиться за их здоровье. И тогда все будет хорошо. И успокоенный, герой засыпает перед самым рассветом.
На самом деле я не помню этот рассказ, даже если читал его. Но зато я помню, как несколько раз читал об этом рассказе в книжке одного очень хорошего режиссера и человека, Анатолия Эфроса, и он там, пытаясь уснуть, вспоминает рассказ другого очень хорошего человека и великого писателя об одном хорошем человеке, что пытается уснуть.
И теперь я понимаю.
Они где-то рядом. Те люди, которых я хочу помнить. И я вспоминаю их имена. Тут, главное, все делать последовательно, по определенному ритуалу. И все получится. Сначала нужно вспомнить имена. Потом лица. Потом улыбки и смех. Потом – как они сидели за столом, смеялись и пили кофе и чай. Какой рукой держали кружку. У деда была синяя татуировка с половинкой солнца над морем и еще одна с якорем. Сколько они клали сахара. Кажется, это ерунда, мелочь, но это важно помнить.
Отец всегда клал одну ложку растворимого кофе и одну ложку сахара. Дед пил чай из маленьких кружек, потому что состарился и не мог уже выпить большую, как раньше, а сахара клал две ложки и еще брал шоколадное печенье вприкуску. Это печенье он прятал по всему дому, словно белка, делающая запасы на зиму, только он делал это на случай непредвиденной смерти. После того, как деда не стало, бабушка находила это печенье то тут, то там, и даже несколько штук нашла в туалетном шкафчике, над умывальником, словно привет от человека, который когда-то полюбил ее за белые косы. Я хочу думать, что бабушка улыбалась, когда нашла эти печенья, но, боюсь, на самом деле она заплакала.
Я помню, как дядя Юра заваривал чифирь на кухне, в маленьком эмалированном желтом ковшике и потом пил черный густой отвар. Он был когда-то в тюрьме, дядя Юра, и там пристрастился к чифирю, и пил его по ночам, чтобы не спать и работать ювелиром. Мне было десять, я тоже тогда хотел стать ювелиром, и сидел с ним ночами и смотрел, как он составляет из крошечных серебряных шариков узор, который называется скань, и прокатывает кусочки золота и серебра через маленький пресс, чтобы получились золотые и серебряные блинчики.
Я помню, как он смеялся. Я помню, как белели его ровные белые зубы, похожие на жемчужины. Он был красивым, мой дядя Юра, и знал это, а еще он был жутко талантливым, рисовал, лепил, делал украшения и занимал чужие деньги, и я хочу помнить все хорошее о нем и забыть все плохое, но не могу, потому что все хорошее и все плохое составляет человека, и если выбросить из памяти все плохое, то от человека останется только половина, а то и меньше, и скоро он сам начнет испаряться, таять, словно дым или туман после сырой ночи солнечным ярким утром.
Поэтому я буду повторять все. Главное, не терять порядок, очередность, не сбиться. Сначала имена, потом лица, потом улыбки, как люди сидят и смеются, как пьют кофе или чай, сколько кладут ложек сахара… и где прячут шоколадное печенье. Я буду помнить, как отец после бани сидел во дворе своего дома, который построил Джек, голый по пояс, с коричневой выдубленной кожей, и курил, глядя на красные розы, что посадил сам, и на деревянных медведей, которых привез с Урала, чтобы украсить двор. Я вспоминаю, как дядя Юра показывал мне, как вырезать резцом на серебре и болтал со мной, как со взрослым, а за окном молочно белел рассвет, в доме все спали, и я думал, что скоро вырасту и стану ювелиром. И еще я помню, как молодой дед шагает мне навстречу в синем замасленном комбинезоне, как у танкиста, на голове у него шерстяной берет, и он идет на завод в огромном потоке таких же людей в синих замасленных комбинезонах и беретах, потому что обед закончился и все возвращаются на работу.
Я буду вспоминать их каждый день, обещаю я себе. И однажды напишу одну книжку про деда, одну про отца и еще одну про дядю Юру. А может, это будет одна, общая книжка, про людей, которых я люблю. Там у них будут имена, лица, улыбки и смех, там они будут вместе сидеть на кухне, отец не уйдет от мамы, дядя Юра не станет занимать чужих денег, а дед будет посмеиваться, глядя на вазочку с шоколадным печеньем. Там у них все будет хорошо. И я, наконец, перестану за них бояться.
Может быть, именно поэтому я не стал ювелиром.
3. Синко Льягас
Однажды в нашей квартире зазвонил телефон…
Я снял трубку.
– Алло? – сказал я хрипло. У меня начинал ломаться голос. По телефону меня иногда принимали за отца – с его насмешливым прокуренным тенором.
– Дима? Узнал? – спросил воркующий девичий голос.
– Конечно, – мужественно ответил я. Хотя ни фига не узнал. Кто это может быть? Настя из соседнего подъезда? Ленка Полуэктова? Олька Афанасьева? Учительница музыки в полупрозрачной блузке? Джина Лоллобриджида из Фанфан-тюльпан? Хорошо бы.
– Пойдем вечером на танцы в парк? Вместе?
Вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Все коробки пластилина, похожего на тол из фильмов про войну, все миллионы слепленных солдатиков. Пластиковая модель "мига" и ледокол "Ленин" с тысячью крошечных дверей. Все взорванные в подъезде патроны и бутылки с карбидом. Пламя над забором и индийское кино "Танцор диско". Ачи, ачи, джими, джими. Классическая борьба. Все горы прочитанных книг и суровые слезы капитана Блада по Арабелле. Несчастная, но дико привлекательная еврейка из Айвенго. "Три орешка для Золушки" и эротические переживания на снегу. Смеющиеся девчонки у магазина и взгляды искоса. Хи-хи. Тонкие руки. Деревянные мечи и стрелы Робин Гуда. Любовь, сжигающая все.
Все предшествующие годы я ждал этой фразы.
С этого момента начиналась моя взрослая жизнь, полная приключений и подвигов.
– Ладно, – сказал я. – Пойдем.
Воркующий голос продолжал:
– Зайдешь тогда за мной в шесть?
Мгновенное головокружение. Зайти куда? Наваждение спало. Кто это? Где живет?
Как узнать?!
Нужно принять решение.
– Нет, – сказал я.
В трубке замолчали. Я слышал только дыхание.
– Нет?! – голос вдруг на мгновение показался знакомым. – Почему нет?!
– Я передумал. Не хочу на танцы.
Израненный капитан Блад стоял в изрубленной кирасе и смотрел, как верный "Синко Льягас" уходит на дно. Французские ядра свистели над его головой. Голубые глаза капитана были спокойны…
– Но… подожди! – взмолились там.
Я положил трубку.
Пузыри вырвались на поверхность, вода взбурлила… и только уцелевшая фок-мачта все еще возвышалась над гладью залива. Вскоре исчезла и она.
Капитан Блад вздохнул.
Погнутая, окровавленная шпага выпала из его усталой руки.
Бум.
Тишина. Мужское одиночество.
Подошел Скарамуш и похлопал меня по плечу. Обычная саркастическая улыбка была полна печали. Издалека, сквозь пары гашиша, на меня отрешенно смотрел граф Монте-Кристо, возлежа на подушках. Пан Заглоба, Д'Артаньян и Анжей Кмициц молчали, но я чувствовал их поддержку. Восставший раб Спартак кивнул мне.
– Женщины, – произнес гладиатор, словно это было ответом на все вопросы.
Женщины. Загадочные создания, ради которых только и стоит совершать подвиги. Я вздохнул.
Почему они, блин, не могут говорить нормальным голосом?!
4. Солдатики
Чтобы не забыть. Мне было три года, когда родители уехали покорять Север, в Нижневартовск. Я остался в Кунгуре (Урал) с бабушкой и дедушкой. Так я прожил полгода.
Когда я плакал и ночью не спал, дед брал меня на руки и выходил на улицу. Он выводил из гаража мотоцикл ИЖ-Юпитер 3, сажал меня в коляску и катал, не заводя двигателя, мотоцикл по двору, возле дома. Двигатель не заводил, чтобы не будить людей. И я катался и, наконец, спокойно засыпал. Три или четыре часа утра, уже светало, воздух был пронизан мягким невесомым светом, словно вода.
А когда меня привезли к родителям (дед? мама приехала? не помню) в Нижневартовск, им как раз дали половинку балка (это вагоны такие, снятые с колес). Пока ехали, я смотрел с верхней полки, как в черноте за окном поезда вспыхивают факелы. Это попутный газ сжигали на месторождениях. Мерный перестук колес, черная тайга и факелы.
Я когда приехал, игрушек в балке не было. Совсем. Я лег спать. А потом с работы пришла мама и принесла сорок или пятьдесят одинаковых пластмассовых солдатиков – в зеленой форме, руки по швам, ноги на ширине шага. А через час пришел отец и принес… 50 таких же солдатиков. Только оттенок зеленого чуть темнее. Так я эти два войска и отличал. Больше никаких солдатиков в магазине не было, а машинки я не любил. Вартовск в 1979 еще только строился.
Вот я сидел в балке и играл этими двумя войсками. А командиру мама повязала красную шерстяную нитку на шею. Другому тоже нитку, но я забыл цвет. Удивительно. Я могу придумать цвет нитки, но почему-то не хочу.
Хочу вспомнить, но не могу.
Сундук, застеленный тканевой салфеткой, был горой. И солдаты штурмовали крепость.
5. Рок-звезда
У отца был высокий чистый тенор. Он брал такие высокие ноты, какие не всякое женское сопрано осилит.
Он пел в группе. Их было два солиста.
Забыл, как группа называлась. ВИА какая-нибудь.
Они ездили по деревням и колхозам, давали концерты. Гитары, барабаны, девушка на подпевке и для красоты. Все, как положено. Аппаратура была самопальная, усилитель отец собрал сам, а фабричные микрофоны постоянно ломались, поэтому в группе было два солиста – отец и еще один.
Во время песни отец спрыгивал со сцены и пел из зала, а второй солист – со сцены. Иногда наоборот. Стереозвук по-русски. И тут уже плевать, даже если оба микрофона откажут.
Песни у людей разные
А моя одна на века
Звездочка моя ясная
Как ты от меня далекааааа*
– лились два чистых тенора в унисон.
И зал деревенского клуба заводился и подпевал.
Успех турне был сокрушительный. Такого успеха не знали в кунгурской глуши даже роллинг-стоунзы.

====
* "Звездочка моя ясная" – знаменитая песня ВИА "Цветы" 1973. Одна из любимых песен моего отца.
На фото отец третий слева, в модной жилетке. Это свадьба друга. Как понимаю, парень с правого края, в очках и в такой же жилетке, как у отца – тоже из группы.
6. Голубая краска
голова обвязана, кровь на рукаве
след кровавый стелется по сырой траве
эээээ, э-э, по сырой траве
Чьи вы, хлопцы, будете,
кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем
раненый идет?
Дед в ощущениях был белый, седой и надежный.
С сильным насмешливым голосом.
И чем хуже шли дела, тем бодрее звучал голос деда.
Алексей поморщился, перевернулся на бок. Чертово одеяло опять сползло, холод забрался и жег кожу на плече. Как ледяным языком облизывал. Котяра инеистый. Сволочь.
Хорошо бы сейчас взять трубку и позвонить.
Дед бы сказал: "Здорово, внук!" и еще одну, заготовленную фразу. Разговор у него был отрепетирован до пауз и интонаций. Не сразу можно было сообразить, что собеседник ни черта не слышит, кроме звука твоего голоса и отвечает себе сам. Но в первую секунду это звучало убедительно.
Когда-то дед был молод, силен, крепок и уверен в себе. Красавец, русоволосый, типажа Крючкова из "Трактористов". Даже голос и интонации похожи. У Алексея до сих пор сохранилась где-то фотокарточка, где дед, молодой и красивый, как советская кинозвезда, снят у полкового знамени. Гимнастерка, ППШ в руках, пилотка и все при нем. Девки, наверное, по деду сохли вагонами. Штабелями. Лесосплавами.
С глухотой и телесной слабостью пришла к деду неуверенность.
Неуверенность привела в некогда каменный бастион – старость, от которой крепкий и сильный дед отбивался раньше кулаками. Он вообще в обиду себя не давал.
А тут был – чужой город, чужая квартира, хотя и купленная сыновьями специально для деда с бабкой. Чтобы были поближе к внукам. Хотели как лучше. И никакого выматывающего силы огорода…
Заботливые дети и внуки не понимали одного. Выматывающая работа и резкий ветер в лицо позволяли деду держать марку. А теперь все стало ненужным. Весь его форс. И грудь колесом. И начищенные до блеска сапоги. И наградная фотокарточка у полкового знамени. Не с чем сражаться. Не за что. Не надо.
Ты становишься ненужным.
Так приходит старость.
Тебя больше не слушают. Никто не слушает. Словно ты пустое место. Малый ребенок.
Бабка обижалась сначала… да и потом обижалась. "Рюмочку деду-то налей", говорила она высоковатым, просяще-требовательным голосом. А потом пыталась рассказывать о войне, о голоде, о работе с утра до вечера, об отце, пришедшем с фронта в сорок третьем – с ногами, издырявленными мелкими осколками снаряда в решето, о том, как ему, инвалиду, после войны не давали пенсию по ранению, потому что не было бумажки, что он ранен. Как он пошел за ней, этой бумажкой – почему-то ночью, и пропал. Искали все. Нашли его через три дня какие-то прохожие – замерзшего на холме, недалеко от деревни. Поскользнулся и упал. И встань не смог. Бабка рассказывала и плакала. Ее не слушали. Иногда, ради вежливости кивали. А потом и кивать перестали. Зубоскалили.
Она уже не умела дать отпор. Раньше перепалки с невесткой, женой среднего сына – острой на язык бабой, которая легко отбривала самого отпетого мужика – переходили в обиды, но жар от сражения все обиды стирал рано или поздно. А сейчас обиды накапливались. Множились.
Игра в одни ворота.
Трудно быть стариком.
А они, молодые, этого не понимали. Да и не хотели понимать. У них были свои заботы. Важные и повседневные, их нужно было решать.
А стариков можно было послушать и позже. Как-нибудь в другой раз. Но не сейчас, желательно. И – не завтра.
Потом.
Дед давно перестал пытаться. Больше не пробовал. Он был гордый. Теперь он тарабанил свою бодрую заготовку, смеялся на всякий случай и все, отдавал трубку бабке, которая еще не смирилась.
Старость делает нас неслышными. Выключает звук.
А потом тебе даже не говорят, когда умирает твой сын. Чего-то ждут.
Словно еще день неизвестности воскресит его.
Впрочем, так оно и было. Для деда Юрка был живой еще целых два дня.
Чего уж обижаться. Грех. Могли вообще не сказать.
И от этого "могли не сказать" внутри все скручивает, как в узел.
Кладбище здесь было новым. Отвели место, когда заполнилось на старом кладбище. Могилок всего ничего. Ровная песчаная земля. На Урале кладбище было старое, огромное, от земли, травы и аккуратно выкрашенных оградок шло ощущение умиротворения и покоя. Здесь, на севере, кладбище было маленькое и непутевое.
Как и Юрка, младший сын.
Нервное. Без густой и прозрачной тишины, покоя, деловитой жизни, привычной там, на древнем и красивом уральском склоне.
Здесь кладбище было коротким отрезком в песке, дорогой к концу.
Ветер дул и теребил редкие кустики зелени и пожухлые цветы в вазах.
И дед вдруг понял, что это все.
Сорок дней прошло со смерти младшенького. Бабку тогда отхаживали, успокаивали, но бабам проще. Бабы могу рыдать и плакать…
Дед же молчал и внутри него умирал, бился, корчился чудовищный вой.
Словно еще живой Юрка умирал там, в этой пустоте, сейчас. И кричал от боли. И ему было не помочь.
Тоска. Он встал тогда и пошел. В сердце гнулась и торчала длиннющая, с полнеба, стальная игла.
Юрка, непутевый. Юрка.
Младшенький. Любимый.
Вызвали скорую. Сделали укол от сердца. Живи, дед. Как?! Живи, как хочешь.
И теперь это кладбище. Свежепокрашенная железная оградка, застывшие наплывы голубой краски. Земляной холмик. Не уральская земля, коричневая. Не сладкая. Не родная. Стакан с водкой. Черный хлеб. Памятник, выкрашенный голубой краской.
И фотография в овальной рамке.
Юрка на ней был какой-то другой. Не ту выбрали, подумал дед. Непохожий на себя он здесь был. Словно человек на фотке знал, что уже умер.
Дед повернул голову к старшему внуку – молодому, красивому.
"Вот, Лешка, пришел я к сыну, а он смотрит на меня и не встает", – сказал он внуку. Без всякого надрыва, просто. Алексей передернулся. Эх, дед. Ну что ты…
И дед замолчал.
* * *
Раньше ты выбирал ему машинку – вот эту, синюю! И чтоб большие колесики.
А сегодня выбираешь ему гроб.
Юрка. Эх, Юрка.
Мы сыны батрацкие, мы за новый мир
Щорс идет под знаменем
красный командир
В голоде и в холоде
жизнь его прошла
но недаром пролита
кровь его была
эээээ, э-э, кровь его была*
===
* «Песня о Щорсе», музыка Матвей Блантер, слова Михаил Голодный.
7. Наш звездолет
"Стажеры", Стругацкие. Что делает мир Полдня таким реальным? Работа. Вот это ощущение, что пока люди вокруг едят, шутят, выясняют отношения, носят свои пиджаки, где-то там, за кадром, идет гигантская, мощная, неумолимая работа всего человечества; работа, направленная вперед, сквозь парсеки и препятствия, сквозь боль, тернии и даже самих творцов, сквозь километры и километры ледяной космической пустоты, сквозь астероидные пояса, галактики и туманности, туда – в глубину космоса. К далеким и ярким звездам. К сияющей и великой цели, ради которой стоит жертвовать жизнью и здоровьем, и душевным спокойствием, и сном, и отдельной человеческой мечтой, и чем-то еще.
На первый взгляд работа эта незаметна, ее словно нет. Читаю сейчас Стажеров. В кадре опять кто-то шутит, читает книги, охмуряет девушку или ловит ворон, ничего явного, но все время пятками, мышцами, всем телом ощущается вибрация, настолько гулкая, что отдается в кость. Эта вибрация живет в тебе. В каждой частичке твоего тела.
Ты и есть эта вибрация.
Словно все люди находятся на палубах огромного космического лайнера, и где-то далеко за стеной и переборками работает мощный тысячереакторный двигатель. Это идет работа будущего. Наш космолет вперед летит. Время – вперед. Интересно. В детстве у меня тоже было такое ощущение. Только не в книге, а наяву. Я ощущал эту работу, эту палубу пятками и всей душой…
Шли восьмидесятые годы. Мое детство.
Кто-то тогда жил в "совке". Мучился от дефицита и мечтал свалить в Америку. Я нет.
Я жил в корабле, летящем в будущее.
Я не дергался и не торопился.
Я рос и умнел. Читал книги и занимался спортом. Играл с друзьями и один. Ел манную кашу с комками, мандарины раз в год, холодные макароны в школьной столовой, больше похожие на трубопрокат, чем на еду. Я знал: все трудности временны.
Однажды придет мое время встать в ряды экипажа. Занять свое место по штатному расписанию. Перенять рычаги и штурвалы из умирающих рук.
И когда придет это время, я буду достоин великой чести.
О, капитан, мой капитан.
Я как-то даже в этом и не сомневался…
Наш звездолет вперед летит.
Иногда этого ощущения мне очень сильно не хватает.