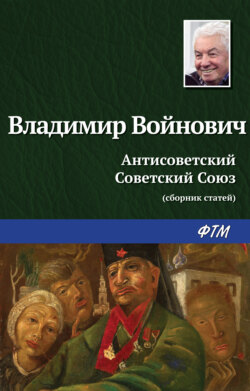ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Мир бочкообразен
Однажды я провел лето на подмосковной даче и, кроме того, что что-то писал и безуспешно пытался вырастить такой нехитрый овощ, как редиска, занимался еще праздными наблюдениями над различными формами жизни.
На нашем дачном участке стояла железная бочка, наполовину наполненная давно уже протухшей водой, уровень которой был почти постоянным благодаря смене солнечных и дождливых дней. Летом в этой тухлой воде расплодились какие-то водоплавающие жуки, которые стремительно передвигались по поверхности и глубоко ныряли, охотясь за чем-то мне невидимым. Существование этих жуков казалось мне весьма загадочным. Чем все они питались? Как выживали они сами или их личинки, если зимой бочка промерзала насквозь? Однако как-то они выживали, как-то плодились и размножались и чем-то питались. И я подумал, а что если предположить, что эти жуки обладают способностью мыслить? Какое представление они могут иметь об окружающем мире? Примерно вот какое. Мир – бочкообразен и наполовину заполнен тухлой водой. Тухлая вода гораздо лучше свежей (свежая иногда течет сверху), потому что представляет собой идеальную среду для передвижения, сохраняет тепло и содержит разные питательные вещества. Границы мира легко достижимы, имеют круглое сечение и сотворены из чего-то твердого. Но за пределами этого устойчивого и понятного мира есть, очевидно, и другие миры, в которых не все так устойчиво. Там то светло, то темно. Там, когда светло, плавает что-то круглое и жаркое, а когда темно, выползают какие-то светящиеся жуки. Тот мир гораздо хуже этого, потому что от того мира поступает иногда жара, иногда холод. Там иногда что-то сверкает и громыхает.
И глядя на этих природных диогенов, я подумал: да это же мы, советские люди!
Мы рождаемся, живем и умираем в бочке. Мы не знаем, что происходит за пределами бочки, и не помним, как сами в ней оказались. Как бы различно ни было наше происхождение, но за годы сидения в бочке у всех развилось общее представление о мире – бочкообразное. У жителей бочки есть свои представления о добре и зле, среди них есть свои святые и свои негодяи. Самые умные подозревают, что, вероятно, где-то существуют другие миры, возможно, много таких же бочек, в которых жизнь устроена как-то иначе. Самые свободолюбивые рвутся из бочки, ползут по ее ржавой стенке, падают и снова ползут. Самые упорные или гибнут, или доползают до края. И вдруг перед ними открывается новый, совершенно невиданный разноцветный мир: трава, цветы, звери, рыбы, птицы, бабочки и стрекозы. Есть вода, есть твердь, есть воздух, и в этих трех средах каждый передвигается, как может: кто летит, кто плывет, кто ползет и – никаких ограничений. Но каждый сам себе добывает пищу и каждый сам должен заботиться, чтобы его не растоптали, не проглотили и не склевали. Боже, да что же это творится?! Скорей назад, в бочку!
Там никаких цветов, никакой травы, там затхлая вода, там скудная пища, но там спокойно. Прибился к стенке и дремлешь, зная, что никто на тебя не наступит, никто тебя не склюет.
Да здравствует бочка!
Как вы могли так жить?
Попав на Запад, я вовсе не собирался выступать здесь в роли пропагандиста. Но куда бы я ни попал, люди, узнав, что я русский, задают вопросы. Они хотят знать, что представляет собой супердержава, которая в состоянии уничтожить весь мир. Какие люди там живут и чем живут? Меня спрашивают, я отвечаю. Но каждый ответ вызывает новый вопрос. Оказывается, наша повседневная жизнь кажется западным людям загадочной и непонятной, как жизнь жуков в бочке. Иногда я никак не могу понять, почему? Иногда раздражаюсь. Иногда объясняю терпеливо, что мы такие же люди, как они. Мы так же рождаемся, живем, стремимся к счастью, любим, ненавидим, радуемся, страдаем, болеем и умираем. Общее это объяснение возражений не вызывает, но, когда доходит до деталей, опять ничего не понятно.
Как-то, во время нашего пребывания в Америке, решили мы с женой навестить знакомую художницу. С мужем-инженером и одиннадцатью детьми она живет на ферме, потому что в городе снять дом или большую квартиру им не по карману, а жить в небольшой квартире они не хотят: американцы – люди избалованные, Я когда-то в молодости снимал в Москве комнату у такой же семьи. Им на тринадцать человек государство отвалило четырехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Одну из этих комнат они сдавали. «А вам-то всем в трех комнатах не тесно?» – спросил я у них. «Да что вы, – сказала хозяйка. – Нам и двух много. Мы после коммуналки все в одну норовим забиться».
Но вернемся к американцам. Собрались мы в гости к художнице, взяли такси, по дороге с шофером о том о сем разговариваем. (Таксисты везде разговорчивы, что у нас, что в Америке). Услышав наше произношение, шофер, естественно, поинтересовался, откуда мы. Мы сказали. «О, Раша! – говорит он с почтением. – Ну, и как там, в России, жить?» – "Да как вам сказать? Все хуже и хуже". – «Как у нас, – говорит водитель. – Жизнь, что ни год, дорожает. Десять лет назад такая машина стоила четыре тысячи, а сейчас девять тысяч долларов стоит. А я в месяц и трех тысяч не всегда могу заработать». – «Ну, это, – я говорю, – да, это, конечно. А мясо вы по карточкам получаете или по блату где достаете?» Он мой вопрос даже не очень-то понял, а когда понял, сказал, что мясо, как и все остальные продукты, он в ближайшем супермаркете покупает. «Ну, вот представьте себе, – сказал я, – что ни в вашем супермаркете, ни в следующем, ни в соседнем городе нет ни мяса, ни консервов, ни колбасы, ни сосисок». – «Да, говорит шофер, я слышал, что у русских с мясом не очень. Это неприятно, но, в конце концов, можно есть цыплят». Тут мы с женой стали смеяться, потому что он почти слово в слово повторил высказывание французской королевы Марии-Антуанетты, которая за двести лет до него удивилась: «А чего это народ бунтует? Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Таксист наш рассердился и сказал, что, в отличие от королевы, он еще не очень оторвался от жизни, а чикенов этих, то есть цыплят, можно выращивать сколько угодно. Производство это очень простое, чикены сами из яиц вылупляются и сами растут, только корм подсыпай. Я пытался ему рассказать о социадиетической системе хозяйства, где ничего не бывает очень простым, но он даже и слушать не хотел. «Да что вы мне говорите, да при чем тут система, да эти птицефермы вообще ничего не стоят, их можно при любой системе сколько хочешь построить». И так он убедительно говорил, что я ему почти совершенно поверил.
Доехали мы до места, встретила нас хозяйка, дом показала. Огромный двухэтажный дом она перестроила по причудливому своему проекту, и получилось много всяких углов, закруглений и ответвлений. И, само собой, невероятное количество комнат. У каждого из одиннадцати детей по комнате. У нее и у мужа по кабинету. А еще спальня, а еще гостиная и столовая, и еще что-то, и одних только ванных комнат не то пять, не то шесть. А для детей всякие спортивные снаряды и какая-то индейская хижина, и живой пони, и еще всякие вещи. А качели прикреплены к ветке высокого дуба, и когда мы на террасе чай пили, дети на этих качелях со свистом над нашими головами летали.
Сидели мы на этой террасе, чай пили, о жизни разговаривали, я такие простые разговоры предпочитаю всяким интеллектуальным беседам. Я спросил хозяев, не трудно ли им живется. Они сказали, что, в общем-то, нелегко. Такой дом, столько детей, столько забот, а они не миллионеры какие-то, обыкновенные люди, средний, как говорят в Америке, класс. А потом они стали нас расспрашивать, и как-то так получилось, рассказал я им вкратце всю свою жизнь, которой вовсе не собирался их удивить, потому что биография у меня по советским понятиям почти заурядная. Мне не было четырех лет, когда моего отца посадили по идиотскому политическому обвинению. И просидел он по советским понятиям тоже совсем немного – пять лет. Ну, а потом война, с которой он вернулся инвалидом. И не то, чтоб совсем уж калекой, а так – одна рука не разгибалась, А я (тоже как миллионы других) ребенком пошел работать в колхоз. Потом ремесленное училище, завод, вечерняя школа, армия – тоже дело обыкновенное. Потом, правда, стал писателем, и дальше судьба развивалась не совсем обычно. Стал я описывать в книгах то, что видел в реальной жизни, и пошли у меня неприятности, чем дальше, тем больше. А потом еще стал за других людей заступаться, да не с кулаками, а на бумаге, письма писал и протесты. За это меня исключили из Союза писателей, не печатали, не давали заработать на кусок хлеба и при этом пытались объявить тунеядцем, отключили телефон, угрожали убийством (и однажды, подсунув отравленные сигареты, показали один из возможных способов), инсценировали нападение хулиганов, прокалывали шины автомобиля, устраивали всякие другие провокации (вплоть до того, что моим престарелым родителям объявили однажды, что я погиб). Но все же не посадили, не убили, а только выгнали за границу, к чему некоторые люди даже очень стремятся. Так что мою биографию можно считать вполне благополучной. Но хозяйка дома мою биографию благополучной не посчитала. Она сказала:
– Как же вы так могли жить? Почему вы не обратились к вашему правительству?
Ее старшие дочери, студентки, стали смеяться, им, как это бывает в их возрасте, стало неудобно, что мама такая глупая.
А я не смеялся. Я считал ее вопрос вполне резонным и объяснил, какое у нас правительство и как оно отвечает на подобные обращения.
– А вы бы подали на них в суд! Дочери и вовсе ее засмеяли.
– Хорошо, я понимаю, может быть, суд такой же. Но ведь можно же было написать в газету, обратиться к общественному мнению! Что вы надо мной смеетесь? Не перебивайте меня. Пусть я старая, глупая, пусть я ничего не понимаю. Я никогда не видала таких правителей, не читала таких газет, не знала, что бывают такие судьбы. Но если к ним ко всем обращаться бессмысленно, то ведь можно же в конце концов просто выйти на улицу и крикнуть: «Люди, посмотрите, ну что же это происходит?»
Нам, воспитанникам советской системы, такие высказывания западных людей иногда кажутся смешными, иногда раздражают: как же можно быть такими наивными?! Но я не понимаю, зачем нужно сердиться. Ну да, ну наивные, ну не могут себе представить нашей жизни, даже когда честно стараются.
Но есть такие, которые и не стараются.
Пиво для русских танкистов
В один из первых вечеров своего пребывания в Германии я попал в компанию, где разговор очень быстро свернул на советскую военную угрозу, на то, что сюда скоро-скоро придут советские танки. Мои новые знакомые всерьез обсуждали, что они будут в этом случае делать. Один торговец лошадьми сказал, что надо уже сегодня, не дожидаясь танков, бежать в Австралию. Другой, владелец пивного завода, спрашивал меня, любят ли русские пиво, он надеялся, что прибытие любящих пиво советских танкистов может способствовать расширению его бизнеса. Молодой философ непонятным образом сочетал страх перед советскими танками с верой в то, что в Советском Союзе торжествуют законность, социальная справедливость и всеобщее равенство. Мои возражения он выслушивал с усмешкой, словно зная заранее, что мое мнение пристрастно. Он, конечно, читал о советских лагерях и сталинском терроре, но призывал меня признать, что за годы советской власти Россия ушла далеко вперед, стала мощной индустриальной державой и ее успехи в космосе говорят сами за себя.
Я втянулся в спор, и философ объяснил мне дальше, что все-таки советская власть освободила трудящихся от капиталистической эксплуатации, от страха за завтрашний день. Я усомнился в его компетенции, когда он сказал мне, что во всяком случае советские люди никогда не знали голода. Я спросил его, слышал ли он что-нибудь о голоде на Украине, стоившем жизни нескольким миллионам людей, или о блокадном Ленинграде. Я рассказал ему, как умирали люди от голода (да я и сам чуть не умер) под Куйбышевым зимой 43-го и в Запорожье три года спустя. Он пропустил сказанное мною мимо ушей и продолжал спорить. Парируя какой-то мой аргумент, он сказал: «Ну да, ведь Россия сама по себе страна маленькая, не больше Баварии». И в ответ на мой ошеломленный взгляд пояснил: «Я имею в виду не весь Советский Союз, а только Россию». Когда я сказал, что считать можно по-разному, но и сама Россия простирается примерно от Смоленска до Владивостока, кто-то уже другой спросил, а где находится Владивосток.
В другой раз меня спросили, хорошо ли русские люди понимают языки других народов СССР, например, хорошо ли я понимаю грузинский язык? Еще меня спрашивали, есть ли в Москве отели и такси и зачем вообще русским деньги, если на них все равно ничего нельзя купить?
Мои русские читатели, прочтя эти строки, охотно закивают головами. Не знают нас люди на Западе, скажут они, не знают и не понимают. Но я хочу прибавить к этому следующее: не только они нас не знают, но мы и сами себя не знаем. Среди русских людей из старой эмиграции я встречал здесь таких, которые абсолютно уверены, что в Политбюро, Генеральном штабе и КГБ сидят одни евреи. Переубедить их невозможно. Недавно я был на выступлении одного старого русского писателя, который в своей лекции рассказывал, что сейчас в России нет ни одного цыгана (все уничтожены). Я встречал людей новой эмиграции, которые только на Западе впервые услышали имя Сахарова. В самом Советском Союзе миллионы людей ничего не знают о коллективизации, сталинских чистках и о том, что происходит сегодня, в начале 80-х годов.
Это незнание объясняется многими причинами. Корреспонденты, которые работали в Москве, отмечают, что советское общество закрыто для иностранцев. Но все дело в том, что оно закрыто не только для иностранцев. Все дело в том, что оно закрыто для самих советских людей, особенно для тех, кто не слушает иностранное радио. Любая, часто простейшая информация является у нас секретной. Секретны отдельные предприятия, целые острова и города, туда не имеют доступа не только иностранцы, но и советские граждане. Секретны эпидемии, стихийные бедствия, крушения поездов и самолетов. Секретны истинные цифры урожая и вообще производственные показатели. Секретно число больных-алкоголиков и наркоманов. Секретны имена выгнанных из страны писателей и, конечно, их книги. Секретны даже имена наиболее отличившихся деятелей революции, гражданской войны и недавних советских руководителей. В энциклопедии, например, есть слово «троцкизм», но нет фамилии «Троцкий».
Советских людей с детства пугают иностранными шпионами и отечественным КГБ, призывают к бдительности, приучают помалкивать. (Даже старая русская пословица говорит: «Слово – серебро, молчание – золото»).
Еще есть перегородки сословные. В Советском Союзе рабочие живут отдельно, артисты – отдельно, спортсмены тоже отдельно. Партийные бюрократы, дипломаты, кагебешники и высшие военные окружены заборами, за которые человеку другого круга вообще невозможно проникнуть. Отдельно от всех живут и писатели. Время от времени они «для изучения жизни» ездят в так называемые «творческие» командировки, иногда индивидуально, а чаще всего бригадами, посещают «передовые» колхозы или заводы, где им показывают парадную или, точнее сказать, фиктивную сторону жизни и обманывают, как иностранцев. Подавляющее большинство писателей (а их в СССР больше 8000) совершенно не знают жизни собственного народа, а тех редких, которые знают и пытаются правдиво ее изобразить, власти преследуют, обвиняют в пособничестве иностранным разведкам и наказывают иногда даже очень жестоко.
В Советском Союзе есть много всяких секретов, но, как я уж сказал, главной и тщательно оберегаемой тайной этого государства является реальная, повседневная жизнь советских людей.
Раскрытию этой тайны и посвящена моя книга. Я беру разные стороны советской жизни, рассматриваю их под разными углами зрения, рассказываю истории из жизни разных людей – крестьян, рабочих, военных, партийных бюрократов от низших до высших, писателей – и из своей собственной жизни. Из всех этих кусочков, которые я называю картинками советской жизни, кажется мне, должна сложиться общая цельная картина.
Понятия «советский народ» или «советские люди», произведенные от формы правления, выглядят несколько противоестественно. Так же противоестественно было бы назвать какой-нибудь народ монархическим или парламентским или все народы стран общего рынка объединить названием обще рыночного народа. Но все же я часто пользуюсь прилагательным «советский», потому что другого общего названия для населяющих СССР людей самых разных национальностей не знаю. А оно необходимо, потому что действующие на протяжении жизни вот уже нескольких поколений общие законы, правила поведения и условия существования, не уничтожая полностью национальных различий, вырабатывают общие для всех традиции и привычки. Никакого отрицательного смысла в слово «советский» в данном случае не вкладываю. Среди советских людей, как и среди всяких других, есть много умных, глупых, талантливых, бездарных, благородных и негодяев. Но попробуйте посадить в одну и ту же тюремную камеру русского, американца, эскимоса и таиландца, продержите их в этой камере достаточное количество лет и вы увидите, что у всех у них, при всех их национальных и личностных различиях, появятся одни и те же наклонности и привычки, они все будут писать мелким почерком, неприязненно относиться к яркому солнечному свету и все будут страдать клаустрофобией. А если в этой же камере вырастут их дети и внуки, то они уже с самого раннего детства научатся обманывать надзирателей, прятать мелкие вещи в складках одежды, а хлеб – под подушкой и, даже выпущенные на волю и в благополучную жизнь, еще очень долго будут сохранять эти привычки и, может быть, передавать их по наследству.
Я уклоняюсь от употребления модного ныне термина «гомо советикус», потому что считаю его крайне неправильным и несправедливым. Это презренное существо, которое обладает двойным или даже тройным сознанием (думает одно, говорит другое и делает третье), в Советском Союзе, конечно, водится, но и среди западных людей его можно встретить довольно часто. Впрочем, об этом где-нибудь ниже.
СОВЕТСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Молоткастый-серпастый
Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!»
Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтобы завидовать, это, пожалуй, слишком.
Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том горбатом, который, по1 уверению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на Запорожце-968", более новой конструкции. Он, конечно, покрасивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее, мы на нем всю Прибалтику исколесили.
Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились. «К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как в афишу коза. Ну, а что касается советского паспорта, то к нему, молоткастому-серпастому, отношение и правда самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортиной к окошечку даже и не сунется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.
Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев». Вылез гражданин несолоно хлебавши из очереди и говорит мне – шепотом, разумеется: «Я, – говорит, – здесь в Минске во время немецкой оккупации был и на этой же гостинице было написано: „Только для немцев“. И сейчас, выходит, только для немцев. Кто ж кого победил?»
Ну, я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, ко достаточно. Много дашь – себя обидишь, мало дашь – администратор обидится, и скандал подымет, и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки – это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета – это совсем другое. В этом смысле хорошо быть Героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значится, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.
В Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом – какой марки. А я по свойственному мне простодушию говорю – «Запорожец». Администратор даже вздрогнул от нанесенного ему оскорбления, вижу, рука у него застыла само слово это «Запорожец» выводить не хочет.
Жена поняла мою оплошность и, приникнув к окошку «Новый, – кричит, – »Запорожец", новый!"
А администратору, конечно, все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше, чем на «Жигулях», не ездят.
Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выписан, и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня волком, пока я, как бы извиняясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.
Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей власти к маркам автомобилей. Каждый "милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обращаться повежливей, владелец «Волги» может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «Чайкам» и «Зилам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.
Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и прошел к своим дружкам безо всяких препятствий. Ну, посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой, без закуски, почесали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Метрополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает. Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запихивают в серый автомобиль.
– Что? – кричит Рабинович. – Кто вы такие и по какому праву?
– А вот это мы тебе скоро как раз и объясним, – обещают молодцы многозначительно.
Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так мол и так, захвачен доставленный гражданин с поличным при посещении в гостинице „Метрополь“ американских туристов».
– Ага, – говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. – Как твоя фамилия?
Рабинович говорит: «Рабинович». Само собой, от подобного обращения немного струхнув.
– Ах, Рабинович! – говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.
– Да ты что, – говорит, – Рабинович! Да кто тебе разрешил Рабинович? Да я тебя, Рабинович!
И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой усмирил и прежде, чем в морду заехать; «Паспорт, – говорит, – предъяви!»
Рабинович сам не свой, руки дрожат – достает из не очень широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненная птица, вроде орла.
Начальник взял это в руки, ну точно, по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. И само собой, как гремучую в двадцать жал, змею двухметроворостую.
– А, так вы, стало быть Рабинович, – говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. – Господин Рабинович! – делает он ударение на слове «господин» и краснеет под цвет советского паспорта. – Извините, – говорит, – господин Рабинович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин, Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.
Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.
– Нет, – говорит с облегчением. – Слава Богу, я не ваш Рабинович. Я – их Рабинович.
Советский паспорт, советское гражданство… Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В советских тюрьмах и лагерях помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый, писатель Гелий Снегирев в середине 70-х годов послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжело больной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.
На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не своей воле оказались за пределами своего отечества. Не буду сейчас касаться темы, почему так много оказалось их на Западе, почему мало кто захотел вернуться. Многие из оставшихся уже состарились, у них здесь родились дети и внуки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А советское государство их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между теми, кто действительно когда-то совершал преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином страны Советов.
И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что этому наказанию были подвергнуты такие знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных гражданства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И приходящим к нему гостям говорит:
– Читайте, завидуйте, я – не гражданин Советского Союза.