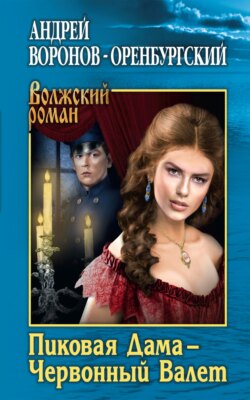Помните, что Отечество земное
с его Церковью есть преддверие
Отечества Небесного,
потому любите его горячо и будьте готовы
душу свою за него положить…
Господь вверил нам русским
великий спасительный талант
Православной веры…
Восстань же русский человек!
Перестань безумствовать! Довольно!
Довольно пить горькую,
полную яда чашу – и вам, и России.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
© Воронов-Оренбургский А.Л., 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
Часть 1. «Течет река Волга…»
Глава 1
Мещанское гнездо Кречетовых находилось в двадцати минутах ходьбы от старого Троицкого собора[1]. В то время центр губернского города значился именно там. Впрочем, золото православных крестов и куполов радовало глаз коренного жителя и заезжего варяга с любой стороны: тут тебе и Преображение Господне на горах за Глебучевым буераком, что на берегу Волги, далее храм Казанской Божьей Матери, где ежегодно в мае гремела ярмарка с продажей фаянсовой и хрустальной посуды, а равно и глиняной, и прочих товаров, как-то: холстов, полотна, шелка, ниток, мыла и преразличных пряностей. Товары эти сплавлялись по Волге из верховых губерний на судах (дощаниках) крепкими на копейку и купеческое слово промышленниками. Старожилы сказывают, что в те времена важные купцы, соперничая меж собою, изо всей мочи старались сооружать на личное иждивение храмы Божии или возле своих домов, иль непременно неподалеку от них, чтобы со своей семьей и со всеми служащими быть на божественной литургии обязательно в собственной церкви, а не другим кем сооруженной. Этот отголосок старины и вправду заслуживает вероятия, оттого что в этих местах отродясь не было, да и теперь нет ни единого дома, который принадлежал бы помещику либо чиновному лицу, а все купеческие, большого размера, каменные двух-трехэтажные; и вблизи почти каждого обширного дома и расположена церковь.
Увы, Кречетовы о «золотых крышах» мечтать не могли. Жили, как говорится, «с медным рублем в кармане». Семья росла, и забота о куске хлеба не отпускала ни на минуту. И хотя подчас хомут судьбы гнул к земле, заставляя жить в долг, цели у главы семьи были большие, с дальним прицелом: Иван Платонович – жилы вон – пытался доказать всему миру свое благородное происхождение, пожалуй, как задумывался сам Алексей, скорее всего, мнимое… Батюшка решительно хватался за дело на любом поприще, во что бы то ни стало пытаясь сделать карьеру, и… разбивал лоб. Но самое обидное, самое прискорбное в этих композициях было то, что Иван Платонович не обладал ни деловой хваткой, ни практичной житейской жилкой. Разубедить же его в их отсутствии так никто и не смог.
Отпущенную Господом энергию и силу он потратил на куриные хлопоты и бестолковую прыть. Домашние до горьких слез помнили, сколь высок был градус его напряжения в этих «воздушных» делах.
Что делать? Иван Платонович, право дело, до последней черты не терял надежды обивать пороги судебных и гражданских палат, ломая в отчаянье гусиные перья, едва ли не еженедельно подавая и отсылая все новые прошения.
Злые языки соседей по этому поводу втыкали занозы в трактирах: дескать, при появлении «многострадального» Платоныча в сортире мухи, и те неодобрительно жужжат, потом, рассевшись на стенах, глазеют на сего фрукта… А он, бедовый, все в толк не возьмет – что лишний он тут, что мешает мухам. «И то верно, смешон отец, – невесело заключал Кречетов. – Ей-богу, что пес старый – кусает одних блох… выставляя нас на посмешище…» – «Окстись, Алешенька, радость моя! Что говоришь? Он ведь родитель твой!» – испуганно повышала голос мать.
– Что думаю… – уходя прочь, обрывал он.
Между тем Ивану Платоновичу, от природы человеку упрямому и склочному, так и случилось прозябать в мещанском сословии. Нетерпимый, до края вспыльчивый норов помешал ему прийтись ко двору и сделать приличную карьеру.
Не сумев прибиться ни к одному берегу, по сути, не владея толково никаким должным ремеслом, хозяин семейства честил и винил всех подряд, кроме собственной персоны, и нередко, когда заливал за ворот, срывал свои обиды на родных.
Иван Платонович мучительно, как библейский Иов, переносил неизбежно сыпавшиеся на его лысеющую голову камни унижения и крепко стал заглядывать в стакан, жалобно оплакивая свою пропащую жизнь.
– Ну-с, обмарался я кругом, – нервно булькая водкой, стонал он, – так что ж теперь? Прикажете сдохнуть? Ну-с?! Скажете, господин Кречетов… для общества скушный субъект? Никчемность? Враки! Это мир для Кречетова скушный и полная ерунда-с! Да ежели хотите знать, к моей натуре надо еще суметь ключи подобрать! То-то-с! А то ишь заладили: «Эх, Егор, наехал на косогор, вечно у тебя так…» Знаю я этих умников в жилетах! У самих в доме пожар, а они изволют в чистый родник-с плевать. Эй, Алешка, уважь отца! Подойди, налей родителю рюмку-с! Я тебе за то… дам мое наказанье! Знаешь ли, сын? – расправляя сложенные крылья пьяной души, наливался жаром Иван Платонович, тяжело подбирая слова. – Ну-с, скажем, что жить спокойно, не живя разумно и честно, никак не возможно-с. Мм? Ладно, изволь другое: лечить тело – трудно-с, а лечить душу… тем паче ответственно. Что воды в рот набрал? Не хочешь к отцовскому костру сесть, все думаешь свой развести? – Старший Кречетов бросил на Алексея презрительно-удивленный взгляд и, приметив, что в его руках таки блеснул пузатый графин, сухо заметил: – Одумался? Это дело.
– Да уймись ты, Ванечка! Ради всего святого! – Людмила Алексеевна, ломая в отчаянье пальцы, вступилась за молчавшего сына. Из ее прежде красивых, значительных глаз катились горячие слезы. Она – во всем благоговевшая перед неудачником мужем и признававшая его своим повелителем – нынче, за последние год-два, решилась не мысленно, а вслух осудить его. – Он же сын твой! Не тронь Алешеньку своей проклятой водкой!
– Лексевна! Цыть! Труба ерехонская! – Сухой, что грецкий орех, кулак отца сотряс на столе посуду. Мятое выпитым лицо задрожало. На минуту он стих, пугая тяжелым вздошьем, оцепенел. Ровно какая-то тень внезапно прошла над ним и сковала льдом речь. Опустив голову, он пребывал в безмолвии, а затем изрек: – Да, он сын мой, как и старший болван Дмитрий! Но я им и отец! Гляди-ка, страстотерпцев[2] нашла… Да им впору самим в дом деньги нести, а не на шее моей сиживать! Не позволю! Хватит меня кормить вашими фокусами да правдами! Посмотри, как живем, мать? Крысам в подвале, и то краше! Из прислуги остались кухарка да нянька, что даром мой дом объедают…
Такие «дивертисменты» отца стали не редкостью. Оба брата – старший Митя и младший Алексей – из резвых, шустрых сорвиголов превратились в безмолвные тени, и право, их звонкие, бойкие голоса боле не откликались на призывный щебет соседских мальчишек. Эх, а ведь раньше!.. И Ва́ловая, и Пеший базар, и все как есть переулки в пять-шесть сажен шириной, вплоть до площадей Соборной и Театральной[3], знали их резвые ноги и пытливые глаза… Но с неудачами отца, с его черными запоями – все кануло в Лету, все стало недосягаемым. И если Митя, будучи старше на три года, теперь с рассвета до сумерек в летнее время пропадал в булочной лавке купца Лопаткина, зарабатывая копейку, то семилетний Алеша сидел дома при матушке, выслушивая брань отца и оханья няни. О, как мечтал он ночами быстрее вырасти, быстрее окунуться в кипучую жизнь, что грохотала за окнами ненавистного дома. «То-то счастлив Митя!» – закрывая глаза, едва сдерживая близкие слезы, шептал он детскими губами. Он до мелочей представлял двухэтажный особняк Лопаткина, что, казалось, от веку прижился на Москворецкой улице, рядом с домом Малеевского[4]. Булочная завсегда была полна покупателей. В дальнем углу, возле не остывших еще, дышащих жаром железных ящиков, гудела последними сплетнями толпа, жаловавшая знаменитые лопаткинские кулебяки с мясом, пирожки с яйцом, рисом, капустой, творогом и изюмом. Публика там собиралась – в глазах рябило – от учащейся молодежи до убеленных сединой чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до худо и бедно одетых рабочих баб. На славном сливочном масле, со свежим фаршем пятачковый пирог «Саратов-град» был столь велик, что даже парой ртов возможно было сытно поесть.
«Хлебушко черненький труженику первое пропитание!»[5] – любил повторять «словесные запуски» своего хозяина Дмитрий.
– Отчего у вас хлеб на Москворецкой завсегда так хорош? – интересовались вновь пришлые, покупая фунтиками хлеб черный и ситный.
– А потому, сударь, что хлебушко заботу да ласку любит. Выпечка выпечкой, а вся сила в муке, братец. У Лопаткина покупной муки отродясь нет… Как есть – вся своя! И рожь, и пшеницу отборную берем-с на местах… На мельницах опять же свои «глаза» поставлены, чтобы ни соринки, ни пылинки… Чтобы жучка… не дай бог! Вот этак, сударь. Все вельми просто. Эх, калачи на отрубях, сайки на соломе! – всегда радостно заканчивал речь Лопаткин своей любимой поговоркой.
Однако, несмотря на все старания семьи вынырнуть из омута нищеты, дела шли из рук вон плохо… Маленький Алексей не раз становился невольным свидетелем «негласных», при поздней свече разговоров родителей; отец все крепче подумывал переехать в Санкт-Петербург, где второй десяток лет коренилось хозяйство его свояка.
– Там, бог даст, поддержат на первых порах и угол справят, Лексевна. Мы ведь, чай, не чужие им? Оно-с, конечно, в провинции по всему-с дешевле, так ить, увы, душа моя, перспектив для твоего обожателя тут – никаких! Одно верно-с: стыдно, право, перебираться в столицу ни с чем, – убивался Иван Платонович. При этом он по обыкновению нервно поправлял измятый за день воротничок белой сорочки, приглаживал редкие, невнятные волосы и плакал в ладони своей единственной. Маменька – кроткая, тихая женщина, слепо любящая мужа, неизменная заступница детей, тоже плакала. Ее безмолвное движение губ от неслышного, но выразительного шепота согревало горячей молитвой.
– Ах, ты сердечушко мое доброе, – мелко дергаясь каждой морщинкой лица, всхлипывал супруг, виновато целуя ее пальцы. – Алешка такое же унаследовал от тебя. Добрый… даром, что молчун. А Митенька нет… не тот. Хоть и все из одного куска теста слеплены. Вот-с ить как, голубушка, вот-с…
Так они сиживали порой до утра в редкие минуты согласия и откровения, прислушивались к тягучим глухим ударам своих сердец, словно каждый стук их был, право, последним.
Шло время, но надежды на скорый переезд так и остались несбыточными. Иван Платонович последовательно, как лесоруб на делянке, продолжал пропивать нажитое добро и все чаще возвращался со службы через трактир под «крупнейшей мухой». Повзрослевшие за четыре года сыновья теперь острее ощущали пугающую раздражительность родителя, терявшего почву под ногами, и не раз за неделю познавали на себе его мстительную руку.
Все это не могло положительно сказаться на детях. Шестнадцатилетний Дмитрий, этим годом заканчивающий гимназию и мысливший подать документы в Мариинский институт[6], на пьяные окрики папаши отныне отвечал презрительным холодным молчанием, и лишь углы его губ подергивались всякий раз от страстного желания оскалить зубы.
– Глянь, Лексевна, какого волчонка вырастили на свою голову! Ах, как смотрит, стервец, на родного отца – чистый зверь!
В Алексее играли другие ноты. Задумчивый, мечтательный, чаще грустный, худой не в пример братцу, он в штыковые атаки не шел. Мир, которым был полон младший Кречетов, был закрыт даже для сердобольной маменьки. И все же цепкий сторонний взгляд обращали на себя внимание большие карие, не по-детски серьезные глаза, жившие какой-то особенной жизнью на бледном нервном лице. И если в Дмитрии от года к году копилась злость и, в противоположность дряхлеющему отцу, наливались тяжестью кулаки, то в Алексее происходили духовные метаморфозы. «Мир, сыне, не потому уцелел, что живот набивал, а оттого, что смеялся и помнил о Боге… Не хлебом единым жив человек. Помни, главное – пища духовная, данная нам Отцом Небесным…» – крепко держал Алексей подо лбом слова местного батюшки.
Внутренний мир Алеши и вправду имел иные, яркие цвета. Еще с детства Людмила Алексеевна, няня, да и сам Иван Платонович узрели в младшем пружину артистической души.
– Экий ты лицедей, братец! – хлопая звонко в ладоши, морщил от смеха лицо отец. – Да кыш ты… язвить тебя… воду всю взбаламутил! Ты ж только погляди, мамочка, каких типов выводит Алешка-то наш! То гусем пройдет, то свиньей хрюкнет… ни дать ни взять, все почетные фамилии Саратова по полочкам разложил. Тут тебе и Бахметов, и Железнов, тут тебе Еремеевы и Угрюмовы! А как вирши декламирует, плут! Э-э, братец, да ты талант у меня! Уж на что же лучше.
Такие минуты окрыляли мальчика. Он еще не осознавал, что за таинственная великая сила влекла его к чуду, имя которому было театр, но чувствовал сердцем, чувствовал всем естеством, что всегда любил его, любил больше, чем все свои детские «сокровища», больше своего дома, решительно больше, чем все остальное. В такие мгновения, в окружении улыбок домашних, полный недоумения и неясной тревоги, непонятного терпкого восторга, он шепотом обращался к небесам:
– Милый Боже, помоги мне! Милый Боже, даруй мне счастье осуществить мечту…
Глава 2
В один из знойных июльских дней, когда нестерпимый жар заставляет, оставив дела и заботы, броситься в Волгу, валдайский колоколец на дверях плеснул настойчивым, властным звоном.
Василий Саввич Злакоманов – рослый, громогласный и толстый, представляющий на торговом горизонте Саратова весьма завидную фигуру, сотряс сирое бытие Кречетовых.
– Здравие дому! Сам-то где? Воюет поди, ха-ха! Государеву волю исполняет? – с порогу взорвался сиплым смехом Злакоманов, не на шутку испугав остолбеневшую няньку Степаниду. – Эх, Платоныч забавник… Так-то он дорогих гостей встречает. Ладныть… Обождем покуда, а вот кабы стравить его с медведем, тогда б и глянули, каков он забавник. Ну, что стоишь, старая? – Злакоманов с напускной грозой в глазах воззрился на прикрывшую полураскрытый рот Степаниду и цыкнул: – Живо сыщи хозяина! Скажи, Василий Саввич пожаловал. Да шевели ногами, мать. У Злакоманова каждый час на рупь поставлен… Н-ну!
Степанида, доселе укоризненно вытянувшаяся под градом словес, лишь охнула и, придерживая темный сарафан, заковыляла исполнять приказ. При этом застиранный желтый платок сполз с ее головы, открыв на затылке алтынную лысинку среди грязно-серых волос.
Злакоманов, довольный собой, заложив крупные пальцы за парчовый в снежинку жилет, воссел на приглянувшийся стул и, вытянув ноги в хромовых сапогах, деловито огляделся окрест.
– Да уж… на серебре тут давно не едят… да и чай по всему «жидок» подают… – не стесняясь стен кречетовского дома, вслух заключил купец. Он недовольно, ровно мучаясь изжогой, оценивающе глянул на старый турецкий диван с оторванными кистями, на круглый стол, что по обедам собирал всю семью, на испуганно задвинутые под него стулья, на молчаливый, красного дерева резной буфет, за мутным рифленым стеклом которого стояли щербатые шеренги бокалов и рюмок, и сделал вывод, что единственная стоящая вещь в горнице – это на славу разросшаяся пальма, жившая в дюжей кадке у трехстворчатого окна.
– Помилуй бог! Помилуй бог, кого вижу-с! Василий Саввич – вот-с радость-то! И какими дорогами-с! – с куриной поспешностью поправляя служебный синий сюртук, вынырнул из-за дверей хозяин. На его казенном лице, словно прихваченная сургучом, расцвела угодливо-приветливая улыбка. – Ужли не забыли-с моей малости? Ужли не забыли, красавец вы наш, Василь Саввич? – дрожал всем телом Кречетов, в подобострастном поклоне протягивая руку.
– Ну что за глупости! Стыдно, Платоныч! Ну ужо я тебя… Да полно, полно! – сурово и строго отрезал гость, насилу высвобождаясь из двойного рукопожатия.
– Эй, Степанида! Как есть все на стол! Василь Саввич! Сам Злакоманов нас посетили-с!
– И ребрышки копченые, батюшка, подавать? Сами давеча велели на Петра и Павла сберечь…
– Дура-а! Я же сказал – все! О Господи Иисусе Христе, ради всего святого простите, голубчик Василь Саввич, кругом, знаете ли, непроходимая тупость! Тьфу, утка хромая! Просто жуть берет, да и только… гиперборейские дебри-с…
– Какие? – Набыченный из-под кустистых бровей взгляд Злакоманова тотчас насторожился, поймав для своих ушей незнакомое слово.
Но хозяин, не слыша вопроса, уже метнулся к буфету, распахнул дверцы и, сноровисто подхватив ближайшие рюмки и графин, принялся их устраивать на столе.
– Сие опохмел, батенька, уж не забидьте товарища… прошу-с, прошу-с покорно, без сантиментов, легче-с будет…
– Кому? – снова свел темные брови Злакоманов.
– И мне-с, пардоньте, и вам-с, Василь Саввич. Долбит-то и знобит как, точно на дворе январь.
– Думаешь? – недоверчиво, глядя на поднесенную к его носу водку, буркнул купец.
– Уверен! Ну-с, ну-с… – ласково пропел Кречетов и, дзинькнув стекло о стекло, высоко опрокинул рюмку. Крякнув, мелко перекрестив рот, Иван Платонович с готовностью громыхнул оседланным стулом и, в предвкушении задушевного разговора, потер взявшиеся теплом ладони. Не обращая внимания на хлопотавшую наседкой вокруг стола Степаниду, нырнув вилкой в квашеную капусту, Кречетов не преминул наполнить рюмки. Неожиданно, как-то сама собой вышла заминка. Оба молчали, глядя в тарелки, прислушивались к заливистому голосу хозяйского петуха, к мерному чаканью подков; закупка соли для солонины была в разгаре, из окрестностей Саратова и гнилых окраин – откуда взяться – понаехали извозчики, и медные бубенцы на шее их низкорослых, брюхатых лошаденок наполняли воздух улиц гремливым жужжанием.
– Вот ты рассуди, Василь Саввич, – шумно выдохнул хозяин. – Что ни говори, а русский барин нонче круглый дурак… думает одним днем. И сам нищает, а того понять не желает, что народишку копейку тоже в ладонь бросить след, чай, люди, не свиньи… Ох, доиграются, боюсь, кроворубка в России грядет…
– А у нас без нее никак невозможно-с, Платоныч, без крови-то, – смачно обгладывая бараний хрящик, в тон прогудел Злакоманов. – Любить меньше будем. Землица наша издревле кровушки жаждет. Но ты брось сердцем багроветь, брат. Главное – есть у нас Церковь Святая, – гость наложил широкий крест на свою необъятную грудь, глядя на лик Богородицы, – что готова врачевать наши грешные души… вразумлять и пестовать нас, православных, с материнской любовью и отеческой строгостью. Так-то. Ладныть… ты мне кисель тут не разводи… Ишь, о России заботы заимел. Да за такую блажь в трактире порой и тышшу отдать сподручно. Я ведь не затем к тебе в дверь постучал. Помню твою мольбу на Никольской в мае… Думал… думал по сему, не скрою. И похоже, знаю, что тебе надо.
– Тогда, Василь Саввич, вы по всему знаете, как с нами договориться. – Хозяин осекся, придержав вилку с грибком у рта.
– Хм, а в этом есть смысл.
– Изволите, батенька, еще водочки? – Кречетов нетерпеливо зажурчал содержимым графина.
– Ишь, Бахус как тебя раззадорил, Платоныч. Нет, уволь, купидон, оставь стрелы – мы уже не целы. Довольно «огневку» дуть, дела еще есть… уж по шестой приговорили… Да и тебе, Иван Платонович, довольно-с. Небось твоя половина за эти «свечки» по голове не погладит?
– Лексевна, что ли? Э-ээ, бросьте, сударь… – Кречетов отмахнулся при этих словах, как от мухи. – Да что ты, государь мой, помилуй бог. Моя жена вовсе как будто и не жена мне…
– А кто ж? – через сытую отрыжку удивленно гоготнул купец.
– Да так… вроде что-то… чего-то… Ай, Василь Саввич, давай начистоту! Человек, – хозяин красноречиво ткнул себя пальцем в грудь, – может быть, при твоем приходе впервые по-человечьи жить начал! Хочешь правду? А что: я свою жизнь, пардоньте, сладко прожил: водку пил-с и баб любил-с.
– Ой ли, ой ли? – еще далее отодвигая рюмку, покачал головой Злакоманов. – Вот так так, брат. Весело живешь… Ты мне эти песни брось! Эх, кабы ваш теляти нашего волка сожрал. Сгинешь без нее! Узда она тебе и ангел-хранитель. Знаешь ли?
– Я-то знаю, а ты-то знаешь? – пьяно взвыл Платоныч.
– Ну-с, хватит! Сыт! Этих слез у каждого кабака лужа. Я ведь, собственно, по твоей просьбе тут.
– То ясно… – У Кречетова екнуло сердце, когда он узрел перед собою налитое недовольством лицо важного гостя.
– Так какого черта время тянешь? У Злакоманова каждый час на рупь поставлен. Смотри, отступлюсь.
– Не приведи господь! Виноват-с, Василь Саввич, – смиренно потупив темные глаза на пустую рюмку, едва слышно выдохнул отец Алексея. – Виноват-с. Дурной тон. – И уж совсем жалко добавил: – Выпить, поговорить не с кем… вот-с и…
– Ну вот что. – Злакоманов, уверенно притянув за грудки собеседника, сыро дыхнул ему в лоб. – Слушай сюда: младший твой дома?
– Не могу знать, – честно мотнул головой хозяин и, продолжая преданно смотреть пьяными глазами в глаза почетному гостю, с готовностью изрек: – Но ежели надо, Василь Саввич, один мумент… я его так выпорю, через четверть часа, помилуй бог, себя потеряет.
– Глупый, я ж не о том… А еще управляющим, поверенным в делах моих прежде был. Ты ж сам глаголил, у мальца талант к лицедейству есть? Так ли?
– Так-с, отец родной, – с дрожью в голосе прозвучал ответ.
– Говорил, что твой молодец на ярмарке похлеще заезжих «петрушек» штуки выдает… Так?
– Так-с и есть.
– Так зови же его, дурья твоя башка. Взглянуть на него желаю и, ежели убедит он меня своей выдумкой, искрой Божьей, кто знает, определю в театр. А то и до самого антрепренера Соколова[7] дойду. Энти господа на моих дворах частые гости. Деньги, брат ты мой, всем о-о как нужны, и столоначальникам, и нищим. Жаль Переверзев Федор Лукич[8] нонче в отъезде. С ым-то я на короткой ноге… Душа человек, доложу я тебе, Платоныч… до самых краев наш, уважает брата купца. – Злакоманов мечтательно закатил глаза под потолок, вспоминая былые картины утех в губернаторском доме, и, с хрустом почесывая сивую, лопатой бороду, разродился: – Что я тебе порасскажу сейчас, братец. Ты токмо наперед накажи своей Степаниде, чтобы сынка сыскала.
После того как нянька, хлебнув очередную порцию страха, бросилась исполнять приказ, купец аппетитно хрустнул малосольным огурчиком и натужно засипел:
– Ты ж пораскинь умом, Платоныч! Скажем, кутеж… Э-э, это дело тонкое, требующее не только деньжат, но и куража. А Переверзев Федор Лукич любит… эх, как-с любит грешным делом покуражиться, знает в сем толк, не мы… Жалует он крылья расправить, покутить с избранными и близкими к нему физиями. Скажем, опосля того, как оканчивается в собрании бал и разъезжаются разные там розовые пуховки, тут кутят, будьте-нате, как душе вспорхнется, скинув с себя фраки и прочую обузу… Сиживали-с и на полу, и на персидских коврах… как полагается, в знатном хороводе бутылок и рюмок. Замечу, при сем непременно бывает и наш столоначальник Чекмарев, Федор Лукич крепко любит и уважает его. Кстати, брат, губернатор наш пьет одно-с шампанское, прочих вин и вовсе не терпит… Нет, вру! – Злакоманов на секунду озадачился, кусая губы, точно винился на исповеди. – Только по утрам и вечерам… его организм принимает еще кизлярку и водку кавказского изделия. Вот ее-то, родимую, он пьет стаканами… Где тут угнаться! Помню, на обедах иль ужинах, вот те крест, подле его прибора уже потела ожиданьем бутылка шампанского и знатный фужер, в коий кулак входил, и частенько эта бутылка сменялась новой. «Убрать! Убрать немедля покойницу! Ни уму ни сердцу ей тут стоячиться! Вон!» – любит говаривать он и мизинчиком так брезгливо тыкат на пустую посудину, ровно она и вправду, стерва, смердит. И веришь, Платоныч, чем крепче он вздергивает водкой себя, тем умнее делатся и на язык теплее. Опять же анекдоты, как из того лукошка, один за другим… так и сыплет, будь я неладен! Но вот закавыка: как бы ни был он пьян, по приезде домой Федор Лукич, ровно в нем черт сидит, – идет в кабинеты, вынимает из портфелей бумаги-с, что подготовила канцелярия за день, тут же бумаги и по губернаторскому правлению… и нате, пожалуйста, не заснет, пока их все не рассмотрит. Вот это-с я понимаю! – не скрывая слез восторга, воскликнул Злакоманов, беря для себя передышку. Живо подставил забытую было рюмку, хватил ее без остатку и, взявшись крупной испариной, с сосредоточенным видом навалился на сало.
Иван Платонович – весь внимание – тоже не упустил момент – обжег горло водкой и мечтательно почесал за ухом. «Эх, кабы хоть единым глазком взглянуть на ваше гулянье!» Увы, такое случалось с ним только в снах. Однако при действующем губернаторе и вправду наступил «золотой век» для Саратова. Кречетов наморщил лоб: «При Переверзеве был открыт немецкий клуб для среднего класса саратовского общества, где участвовали чиновники всех ведомств, мелкое дворянство со своими семействами, купеческие сынки, которым недоступно было участие в благородном собрании». В немецкий клуб хотел определить младшего сына и сам Иван Платонович, однако держал до поры про запас злакомановское «даст бог, подсоблю». Нет, что ни говори, а при Федоре Лукиче не было стеснения чиновникам по службе, особых каких-либо налогов на жителей всех сословий и крестьян; в губернии все шло своим чередом; к тому же были благоприятные урожаи хлеба. В народе, что важно, не замечалось крайней нужды, да и цены, что Бога гневить, на провизию были щадящие. Дворянство, купечество и служащие не могли нарадоваться на губернатора. Кречетов по слухам, по разговорам, доподлинно знал: акцизные не отрешались и не удалялись от должностей; но если на кого были жалобы, то личные взыски Федора Лукича были выше уголовного суда. Всякий чиновник, как черт ладана, боялся быть лишенным внимания и милости губернатора, а посему держал себя по службе строго и не допускал на свою персону никаких жалоб, стараясь уж как-нибудь уладить дело с недовольными лицами. Пожалуй, только один председатель палаты уголовного суда господин Шушерин точил зуб на Переверзева и по ночам опускал перо в склянку для доносов в столицу. Причина недовольства, собственно, заключалась в том, что губернатор не отрешал от должностей городничих, исправников и других чиновников и не отдавал их под суд палаты уголовного суда, то бишь в руки Шушерина. Тем самым губернатор лишал главного судью взяток. Шушерин часто «подливал яда», дескать, Переверзев слабо держит чиновничью рать, не делает с нее должного взыска, что в течение двух-трех лет не снял ни единого чиновника, тогда как в Казани, откуда он прибыл в Саратов, губернатор каждый месяц отдавал по пяти и более мздоимцев под суд. «Конечно, – рассуждал Кречетов, – может, оно и так, может, и следовало бы с кого шкуру содрать, но одно то, что Переверзев замечал бедного чиновника, коий не в состоянии был прилично одеваться, и приказывал при сем правителю канцелярии помочь ему, да к тому же и сам многим давал деньги, говоря: “Это за труды“, – снимало с него все нападки».
Злакоманов с не сходящей серьезностью, в душном молчании одолел принесенную Степанидой крупно нарезанную телятину, скупо похвалил и уставился на свои сапоги, которые с утра усердно ваксила щетка Прохора. Затем вытянул за жирную золотую цепь увесистый брегет, щелкнул крышкой и недовольно надул заросшие волосом щеки.
– Ну-с, братец, засиделся я у тебя. Засим прощай, видно, не судьба мне была увидеть твоего акробата.
Стали подниматься. Иван Платонович в отчаянье по-бабьи всплеснул руками, поджимая бледные губы. Его осоловевшие глаза безвинно обиженного человека были устремлены на Василия Саввича.
– Да ты никак сердиться на меня вздумал, Платоныч?
– Что ж, судите, как вам будет угодно-с. Может, и сержусь… имею право. Слабого человека завсегда-с обидеть возможно-с. А на посошок?.. – Кречетов заплакал.
- Последний рейс «Фултона»
- Караван в Хиву
- Демидовский бунт
- Над Самарой звонят колокола
- Ивушка неплакучая
- Сарматы. Рать порубежная
- Гул
- Вишневый омут
- Золотой Трон
- Самарская вольница
- Разбитое зеркало (сборник)
- Беглая княжна Мышецкая
- Христоверы
- Секрет опричника; Преступление в слободе
- Исчезнувшее свидетельство
- Живица. Исход
- Живица: Жизнь без праздников; Колодец
- Ушедшие в никуда
- Когда куковала кукушка
- Ордынский волк. Самаркандский лев
- Плаха да колокола
- Дубовый дым
- Перекати-моё-поле
- Агнцы Божьи
- Жил отважный генерал
- Пиковая Дама – Червонный Валет
- Поймать тишину
- Река играет
- Кандалы
- Охота на Церковь