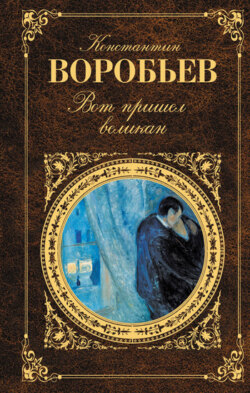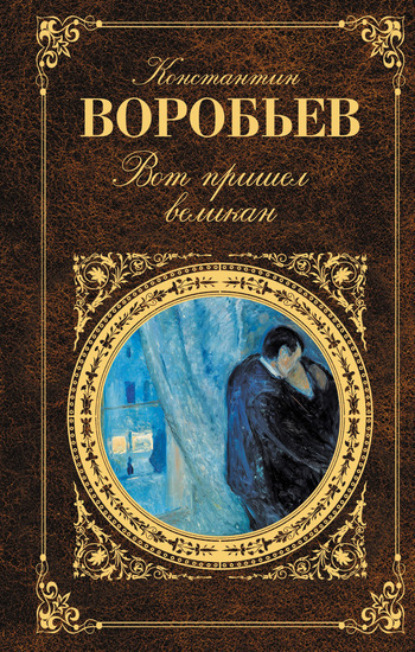ЖИВОЙ
В 2008 году на одном из сетевых форумов кипела бурная дискуссия о повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (1963). Военные историки с потрясающим апломбом и пафосом ловили Воробьева, участника обороны Москвы в ноябре 1941 года, на вранье и некомпетентности. Сетевые историки вообще безапелляционные ребята. Им лучше очевидцев известно, как рота шла на фронт, чем была вооружена, как немцы выставляли боевое охранение и какой был звук у немецкого миномета. Они потрясают штатными расписаниями и ТТХ (тактико-техническими характеристиками) тогдашних вооружений. Суд над Воробьевым вершится скорый и единогласный: очернитель, а быть может, и провокатор! Как хотите, в шестьдесят третьем до такого не доходило. О неразберихе и катастрофических потерях первых месяцев войны тогда помнили. Даже официальная критика, топча «Убиты под Москвой» и «Крик», не упрекала Воробьева во лжи – а ведь живы были миллионы очевидцев. Больше того: фронтовики мгновенно опознали беспримесную правду во всех военных сочинениях Воробьева, как впоследствии те, кто уцелел в плену, увидели такую же мучительную достоверность в первом его сочинении – «Это мы, Господи!». Некоторые теперь, на тех же форумах, сомневаются: как мог Воробьев сразу после побега, отсиживаясь на чердаке, за месяц написать повесть о плене? Ему что, делать больше было нечего? Но в одном из лучших его автобиографических рассказов «Картины души» описана страшная, уже послевоенная, угроза безвестной гибели: художнику, тонущему в бурю посреди озера, страшнее всего, что никто ничего не узнает. И, видя случайного шофера на берегу, он находит в себе силы, выгребает, спасает дырявую лодку и себя – а тут и спасительный плавучий островок. Воробьев был такой писатель – рассказать свое было ему необходимо физиологически. Ведь не узнают!
Эти упреки во лжи, вымысле, очернительстве, фактической и психологической недостоверности сопровождали тогда – и сопровождают ныне, в дни очередных массовых вспышек самодовольства и паранойи, – всю честную русскую литературу, начиная с Астафьева, который первым из собратьев оценил Воробьева, и кончая Окуджавой, постоянно выслушивавшего от высокопоставленных военных, что «такого на фронте не было». На фронте было все, включая такое, чего не выдумает никакое очернительское воображение, – но только слепоглухой и деревянный не почувствует той абсолютной подлинности, которая у Воробьева в каждой детали; не ощутит узнаваемости состояния – поверх визуальных и разговорных мелочей, которых тоже не выдумаешь; не увидит сновидческой точности картин боя, отступления, курсантских похорон – это много раз было увидено в подробных кошмарах, прежде чем записано. Воробьев умер в 1975 году от опухоли мозга, частого последствия фронтовой контузии; но и теперь одно животное, не найду другого слова, в Интернете усомнилось – что это его переводили из лагеря в лагерь, недострелили сразу, после первого побега? Может, он был у немцев осведомителем – их же берегли?
Уж подлинно советская власть, со всеми своими орудиями растления, не растлила Россию так, как двадцать лет безвременья, после которых никто не верит ничему.
Но потом думаешь: вот, 90 лет со дня рождения исполнилось 24 сентября 2009 года, – а насколько живее всех живых! Истинная мера бессмертия – ненависть. Кто сейчас ненавидит Бубеннова, Бабаевского, Симонова – простите, что поставил настоящего писателя рядом с титанами соцреализма? Даже Трифонова для приличия хвалят, хотя втайне, конечно, чуют классово-чуждость. А Окуджава, Воробьев, Астафьев, Василь Быков, Солженицын – сплошь очернители и прихвостни, вдобавок недостаточно повоевавшие. Чистая логика военкомов: те, кто пишут правду о войне, кому плохо на ней, – плохие солдаты.
Ребята, это же бессмертие! Вот так оно выглядит, а вы как себе представляли? Это же кем надо быть, чтобы в авторе нежнейших и мощнейших текстов в русской послевоенной прозе, в создателе «Моего друга Момича», «Крика», «Великана» – увидеть потенциально возможного осведомителя и вруна?! Ведь в текстах Воробьева каждое слово кричит о человечности, о достоинстве, о силе и милосердии, – но эти-то качества и неприемлемы для стратегов всех мастей. Им желательно видеть народ тупой массой, радостно ложащейся под серп; безгласным орудием для осуществления их глобальных бездарных замыслов. А потому Воробьев им – нож вострый, даже через 34 года после смерти. О чем бы он ни писал – о коллективизации, о фронте, о плене, о советском издательстве, о прибалтийском санатории, – он мгновенно вычисляет, люто ненавидит и прицельно изображает всех, кто может подняться только за счет чужого унижения. Всех трусливых демагогов, фарисеев, лицемеров, всех, кто ищет и жаждет доминирования, – тогда как герой Воробьева жаждет одного только понимания, и от этого понимания расцветает. Воробьев, может быть, и есть тот идеальный русский человек, каким он был задуман («Я не требовал наград, потому что был настоящим русским» – записные книжки, и ведь правда): рослый, сильный, выносливый красавец, рыбак, плотник, стрелок, партизан, писатель от Бога, с врожденным чувством слова. И такая жизнь – он словно притягивал громы, да и мог ли такой человек вызывать любовь у разнообразных упырей? Упыри ведь тоже обладают чутьем на талант и силу. Им невыносим Воробьев – с его изобразительной мощью, пластическим даром (вспомните описание церкви в «Момиче», портрет Маринки в «Крике»), с его влюбчивостью, избытком таланта, с вечной его вольной усмешечкой – как ненавязчиво и точно он шутит! Каким комизмом пронизан «Великан», самая мирная из его вещей, – но и ее топтали, даром что в ней-то никакого военного очернительства. Просто герои уж очень свободны – помню некоторый шок от чтения этой вещи в отрочестве, в старых дачных «Современниках». Я тогда хорошо запомнил Воробьева, и когда лет пятнадцать спустя познакомился с чудесным прозаиком и сценаристом Валерием Залотухой, в какой-то связи упомянул «Великана». «Любишь Воробьева?! – восхитился Залотуха. – Нас мало, но мы тайное общество!» Может быть, именно сочетание независимости и нежности – по крайней мере на уровне стремлений – объединяет всех этих людей, к которым так хочется причислить и себя.
Парадоксальную вещь сейчас скажу, но ничего сенсационного в ней, если вдуматься, нет: Воробьев был самым американским из русских писателей, странным сочетанием Хемингуэя и Капоте (Хемингуэя страстно любил, хотя не подражал, и дал ему самую точную характеристику: «Вы видели его последний снимок? С таким предсмертно-виноватым выражением? Как выдержать свое естественное поведение, если оно непонятно тому, другому? Приходится подлаживаться, и тогда на лице человека появляется вот такое хемингуэевское выражение…»). Хемингуэй чувствуется в военных его вещах, а явно не читанная (хотя кто знает?) «Луговая арфа» Капоте – в «Момиче», в образе тетки Егорихи, в авторском «мы», объединяющем тетку и полусумасшедшего Ивана… Дело, вероятно, в том, что Воробьев долго жил в Литве – против воли, ибо осел там после войны: здесь он воевал в партизанском отряде, потом работал в магазине, потом – в газете… а в Россию возвращаться было некуда. Близость Запада сказалась – Прибалтика была «дозволенной Европой»; здесь не так въелась в кровь рабская оглядка. Хотя и своего рабства хватало, и прорабатывали здесь Воробьева по полной программе. Может, идеальное русское и невозможно без прививки западного, без этого легчайшего налета независимости – эта примесь так видна у Пушкина, Толстого, Блока, у всех лучших наших, вот и у Воробьева, русского Хемингуэя, прожившего так трудно и мало.
Его пятитомник вышел в родном Курске год назад. Главную свою вещь – «…И всему роду твоему» – он не закончил, жилья и работы в Москве не получил, половину написанного напечатанным не увидел, государственных наград, кроме грамот от военкомата за поездки в воинские части, не имел. В 2001 году Солженицын наградил его своей премией – посмертно.
Есть, однако, и в этой судьбе высшая логика. Захваленных и чтимых – забывают, а вина перед теми, кому недодано, саднит долго. Со всех сторон получается – живой.
ДМИТРИЙ БЫКОВ
ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ
Машину я оставил на улице под липами – они сильно выросли, – а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа – красного кирпича стена потребсоюзовского склада, слева – пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора – уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха – оранжевого, смирного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место – то под левую, то под правую мышку, – это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву…
Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, – тут должны обитать люди пожилые, – и постучал, прислушиваясь к тому, что выделывало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.
Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.
– А он только что уехал на речку, – хлопотливо сказала она. – Нешто вы не встретились?
Она обозналась – в коридоре был сумрак и чад.
– Я не к нему. Я к вам, – сказал я.
– Ах ты господи прости, а я подумала – Виктор…
Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, – в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накренясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.
Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще, – тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:
– В тридцать седьмом году в вашем дворе я… украл петуха. Красный такой… Случайно не знаете, чей он был?
Я только потом понял, что так нельзя было говорить, – можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:
– Да это небось дядин Васин… Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное… А вы что ж, с нужды али так на что… взяли-то?
Я объяснил.
– А кочеток ничего себе был? Справный?
– По-моему, ничего… Веселый такой, – сказал я.
– Дядин Васин. Один он держал тут… А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж…
Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.
– Я думал… может, заплатить кому-нибудь… или вообще как-то уладить все, – сказал я.
– Бог знает, что вы буровите! – суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. – Это кто ж от вас примет деньги… заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдась кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..
Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасливо – как бы нас не услыхали – советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.
У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» – новую, роскошно-небесную, черт бы ее взял! Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:
– Не стыдись. Мы люди свои… Садись и поезжай куда тебе надо!..
Я ехал в Ракитное – большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов – величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.
Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:
Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту…
Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.
Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин – это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?… В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда – потом, когда напишу – свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:
– Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»
Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, – лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее – плотно-тугую, тяжко-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой…»
Все лучшее в этой моей ненаписанной книге – радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли – пришло ко мне на рассветах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом – прошлом, темном и нелюбимом – и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, – я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, уводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскулья…» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик – мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилищем. Он приходил всегда одинаково – одной рукой поддерживая трусы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.
– Ну? Когда теперь получишь?
Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, – Кузилище терял веру в меня.
– Теперь уже скоро, – обещал я.
– А какую? Красненькую?
Вслед за этим наступала минута немого ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник – гибкий и вибрирующий, как пила.
В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:
– Ну, гляди не свисти! Чтоб получил!..
Речь шла о машине напрокат, – мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку – емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее…
«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство – посох, с которым человек входит в жизнь. Свой – сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы – я потерял вместе с именем «Кузьма»…
На третий день я поехал в Ракитное.
…Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, – это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на Пасху наш ракитянский дед Мишуня – перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши – первый в моей жизни подарок! – я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.
Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки… Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, – это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его…
Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первозданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни…
Я давно слышал нарастающий гул – со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, – в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.
– Эй! Ты чего?
Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубахе и разбитых кирзовых сапогах.
– Ничего, – сказал я. – А что?
– Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли?
– Да нет, – сказал я.
– А чего ж?
– Извини, – попросил я.
– Сперва напугал, а потом извини… Ну, пока!
Медведовку – наш райцентр – я увидел издалека с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине – сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утоптан, что казался асфальтом.
Я помнил все медведовские вывески – метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и просигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, – вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет…
Косьянкин… Ему тогда было под тридцать, а мне четырнадцать. Стихотворение, которое я послал в редакцию, начиналось так:
Фураж колхозники воруют,
Останков смотрит – наплевать!
Ему ведь что! Пускай таскают.
Весна идет, хотится спать.
Это я написал о председателе своего колхоза, – у нас в Ракитном почти все Останковы, и стишок напечатали, исправив «колхозники» на «воры» и «хотится» на «хочется». Мое ликование за себя, поэта, граничило тогда с болезнью, и на второй день после опубликования стишка я сочинил поэму о плохом ремонте сельхозинвентаря. Поэму редакция передала в подвальную статью, и с этого времени я стал бичом родного колхоза, – на муки и горе его становления газета то и дело призывала через меня десницу прокурора и меч райотдела милиции…
– Ох и трудным же оказался для Ракитного тот, тридцать седьмой год! Главное – хлеба не было ни у кого, и его пекли… из чего только не пекли! Мы с матерью тоже голодали, но я все не унимался и «критиковал», потому что о «положительном» писать еще не умел. То несчастье, которое выбило меня из Ракитного, случилось в метельный день конца февраля. Я брел по выгону из школы, и у обрыва Черного лога на меня напоролся мирошник колхозного ветряка Мирон Останков – мой родной дядя по отцу. Это он сам так сказал «напоролся», сгибаясь под тяжестью мешка. Мы долго стояли молча, – от непонятного страха я не мог сдвинуться с места, и тогда дядя сказал:
– Жмыхи несу… У свата Сергеича разжился…
Мешок лежал поперек дядиных плеч, налезая на голову, и дядина шапка съехала набок, закрыв правый глаз. Весь залепленный снегом, бородатый, с оголенными малиновыми руками, вцепившимися в концы мешка, дядя глядел на меня одним глазом, и глаз был неправдоподобно велик и белый-белый, как смерть.
Я побежал к селу вдоль обрыва, а дядя крикнул мне вдогон со слезой и злобой в голосе:
– Не губи! Свой я тебе!..
Зря он это крикнул – я не думал о чем-нибудь худом, я только испугался его глаза, и больше ничего. Дома мать подала мне мякинную лепешку, похожую на засушенный коровьяк, и письмо из редакции. То был «вопросник селькору», отпечатанный в типографии. Я стал читать его и есть лепешку, а мать всхлипнула и сказала:
– Ходила к Миронихе, думала добыть хоть махотку мучицы…
– Проживем и так, – сказал я, поняв, что тетка ничего не дала.
– Да глядеть-то на тебя мочи нету. Аж позеленел весь…
– Ну и пускай, – сказал я. – А ты больше не лазь туда!
– И Мирониха теми же словами проводила меня… А сами гречишные чибрики пополам с тертыми картохами пекут. Окунают в конопляное масло и трескают… Нешто ж ты им чужой!
«Вопросник селькору» призывал разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов. Вечером я отнес к сельсовету и бросил в почтовый ящик самодельный конверт. А через неделю в Ракитное пришла газета с моей заметкой «Мирошник поймался» и карикатурой на дядю Мирона. Он не был там похож, и мешок тащил раза в четыре больше себя. Мать долго и не без тайной гордости разглядывала подпись под заметкой – «К. Останков», – потом заголосила, как по покойнику:
– Сиротинушка ты моя несча-астная, что же ты натворил-наде-елал!..
На том месте, где когда-то стоял редакционный домишко, плотники возводили стропила на новом срубе, и мне не пришлось сигналить и вылезать из машины. Тот домишко сгорел, видать, недавно, – в венцах сруба кое-где виднелись обгорелые кряжи-вставки, и к весенне-чистому духу оголенных осин примешивалась угарная горечь остывшего пепла. «Плохо горел, – подумал я, – надо бы до конца…» В восковом свечении сруба я старался не замечать отвратительные черные заплаты, – в конце концов они ведь закрасятся и не будут видны, но все же на кой черт понадобилось это старье плотникам? Из-за нехватки новых бревен? Вон же их сколько в неразобранном штабеле!
Плотников было двое. Они сидели наверху сруба и мерно, безостановочно тюкали там топорами, прорубая пазы для крокв. Как говорят у нас в Ракитном, работали они «спрохвала», будто зачарованные: тюкнут – и подождут какую-то секунду, пока эхо не ударится в стенку соседнего сарая и не отскочит мячиком назад, к срубу. Глядеть со стороны на такую неторопливо-согласную работу хорошо и одновременно трудно: вас начинает обволакивать какое-то покойное и вместе с тем обезволивающее оцепенение. Я сидел в машине и смотрел на плотников, прислушиваясь к тому, как в левой стороне груди впервые за многие годы у меня без валидола затихает «зубная боль». Особенно замечателен был старый плотник. На его большой лысой голове против всяких законов естества держалась маленькая, василькового цвета, энкавэдэвская фуражка – и каким только чудом-лихом занесло ее к нему на голову! Когда старик ударял топором, фуражка подпрыгивала и повисала то на правом, то на левом ухе, и каждый раз он водворял ее на макушку привычным и каким-то незаметно спорым поддевом ручки топора. Гладкое, до бубличного глянца отполированное топорище сверкало тогда зеркальным блеском, и старик успевал переложить на нем руки и тюкнуть топором вовремя, когда это и нужно было, чтобы не спутать лада ударов обоих топоров. На той же стороне венца, лицом к старику, сидел молодой плотник в теплой солдатской венгерке и кортовой кепке с матерчатой пуговкой на макушке. От обуха до седловины новая ручка его топора была окрашена фиолетовыми чернилами, – сам постарался, а топорище выстрогал, конечно, старик. Он тюкал и все время стерегуще заглядывал вниз, и вдруг с силой вонзил в бревно топор, ударил руками по коленям и сообщил старику с восхищенной завистью:
– Семую, дядь Саш! Ну, что ты скажешь, а?!
У подножия сруба, разгребая щепу, бродили куры – разомлевшие, круглые, красномордые, и на одной из них яро трепетал и бился огнисто-вороной петух.
– Эть, дурак головастый, – сказал старик, не прекращая работу, – у тебя только одно на уме…
– Так семую же за каких-нибудь полчаса, чуешь? И хоть бы хны ему!.. Ты давай погляди, погляди, что он выкаблучивает!
– Ай позавидовал? – усмехнулся старик. – Вроде бы не вовремя…
Искоса он все же заглянул вниз и сразу же переместил себя на другую сторону венца, а топор прижал к животу.
– Опять приперлись? – сказал он кому-то внутрь сруба. – А ежели, храни бог, топор сорвется вам на головы? Что тогда?
Я различил глуховатый мальчишеский голос, но не расслышал слов, а старик выпрямился и сказал напарнику осерженно и недоуменно:
– Нет, ты погляди-ка! «Брешет, – говорит, – топор не вырвется». Вот же согрешение!..
Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:
– Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и…
Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они – мальчик и девочка лет по шести – показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча – девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям…
Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пятачки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.
И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках…
Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке – изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть… от грозы, например. Или во время войны… Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом… Он же как на ладони тут!..
Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, – в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы – кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты – может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал: