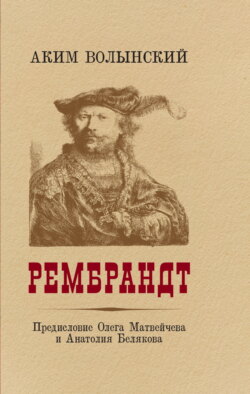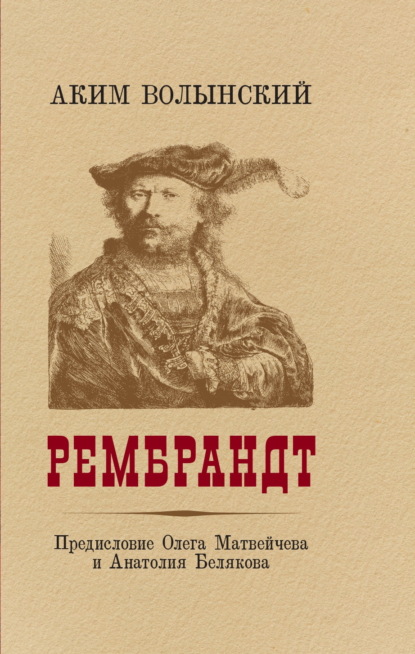Специальная благодарность выражается Киселеву Семену за неоценимую помощь по подготовке книги к изданию.

© Волынский А.Л., 2023
© Книжный мир, 2023
© ИП Лобанова О.В., 2023
Аким Волынский: Дон Кихот русской культуры
Олег Матвейчев. Анатолий Беляков
Общее отношение столичной богемы к Волынскому высказал его приятель Федор Фидлер, в мае 1899 года заявивший немецкой писательнице русского происхождения Лу Саломе, которая интересовалась адресом критика: «во всём литературном Петербурге нет человека, более для всех ненавистного, чем Флексер»[1]. По родовой фамилии Флексер Акима Волынского называли тоже не от особого дружелюбия, но, как правило, чтобы напомнить уроженцу Житомира о его еврейском происхождении. А Чехов вообще исковеркал её до «Филлоксеры» – по названию мелкого пакостного жучка – вредителя винограда.
Мотивы ненавидеть Волынского у каждого были свои. Прямой и бескомпромиссный, критик не стеснялся в оценках и в выражениях. Того же Чехова он уличал в кондовом материализме в духе Фохта и Молешотта. А с народником Николаем Михайловским вел настоящую войну в рамках ещё более широкой войны с социологизмом и утилитаризмом русской литературной критики XIX века во главе с Белинским и Писаревым. Можно не сомневаться, что если бы в литературоведении победила линия Михайловского, то светилами и «нашим всем» мы считали бы Глеба Успенского и Салтыкова-Щедрина, чьи произведения просто распирало от общественной пользы. Только за одно можно поставить Волынскому памятник – за то, что главными русскими писателями у нас всё же оказались Достоевский и Толстой.
Кстати, вот откуда многим известна фамилия Волынского, совершенно забытая в советское время – из романа Набокова «Дар»: свою критику Чернышевского писатель-эмигрант построил на выкладках Волынского и не раз упомянул его в тексте. Впрочем, многим известны мемуары Константина Федина, Корнея Чуковского и Мариэтты Шагинян, где также фигурирует имя критика. Или, скажем, письма Чехова.
Статьи о критиках-шестидесятниках и их предтечах Волынский регулярно публиковал в «Северном вестнике», которым фактически руководил с 1891 года. Усилиями Волынского журнал задал русской культуре новую идейную и эстетическую парадигму и поставил перед интеллигенцией новую задачу – возврат к религиозным поискам, ориентация на высшие духовные ценности. «Бог – наша последняя и притом труднейшая задача, цель всех наших стремлений, заключительное слово человеческого понимания, – писал Волынский. – Наука, ставшая философией, философия, ставшая религией, – дальше, выше просвещение не идет»[2].
В те времена для прогрессивной отечественной интеллигенции это выглядело сущим анахронизмом и ретроградством: на дворе конец XIX века, везде прогресс и сплошное электричество, а нам тут рассказывают о каком-то Боге!
По словам одного из центральных персонажей Серебряного века поэта Сергея Маковского, «умственная атмосфера русского конца века “изошла” в известной степени от этого писателя, – он первый восстал на нашу радикальную критику и взял под свою защиту литературный “модернизм” в годы, непосредственно предшествовавшие журналу “Мир искусства”»[3]. Приоритет Волынского в этой области подчеркивал и Максим Горький: «в сущности, это он является первой ласточкой возродившегося идеализма и романтизма, и он основоположник того направления, коему столь усердно служат ныне Минские, Мережковский и т. д. Это – его ученики, что б они ни говорили и как бы он ни отрекался от них»[4]. Став предтечей русского религиознофилософского возрождения начала XX века, Волынский как минимум на десятилетие опередил богоискательство Мережковского, Бердяева, Сергея Булгакова.
Тональность статей Волынского, впоследствии объединенных в книгу «Русские критики» (1896), импонировала не всем. Так, несогласный с критикой трибунов демократической интеллигенции, с журналом прекратил сотрудничать Владимир Соловьев, в своё время самим Волынским туда и приглашенный. Тот же Горький презрительно охарактеризовал злоязычного Флексера как «малюсенького Соловья-разбойника», что засел в «Северном вестнике» и «во всю мочь оттуда свищет»[5]. Георгий Валентинович Плеханов обрушился на Волынского за то, что тот учинил над своими предшественниками «философский трибунал», сиречь суд и расправу[6]. Не смог промолчать даже молодой Владимир Ульянов (тогда ещё даже и не Ленин), заявивший, что язвительный критик набрасывается в своей полемике не только на народничество, но и на самое просвещение[7].
Напротив, Василий Розанов в буквальном смысле слова расцеловал автора «Русских критиков» за его книгу. Не скрывал восхищения и Лев Толстой: «Я только теперь, благодаря статьям Волынского о русских критиках, – говорил он, – начинаю вполне ясно представлять себе, чем жила русская интеллигенция за все эти последние десятилетия. И как мне это чуждо»[8].
В то время патриарх русской литературы, как это дико не звучит сегодня, не имел возможности публиковаться в журналах, став неинтересным широкому читателю после своего религиозного перерождения. Свои новые произведения Толстой мог напечатать лишь в «Северном вестнике». Он состоял с Волынским в плотной переписке и не раз привечал того в Ясной Поляне.
В свою очередь, работы Волынского о Льве Толстом оказались глубокими и новаторскими. А книги о Достоевском активно публиковались на Западе, пробудив интерес к русскому гению, превратив его в писателя номер один и задав новую парадигму интерпретации его произведений, которая стала нормативной у зарубежных ученых.
Если либеральная демократия устроила Волынскому форменный бойкот, то его пока немногочисленные соратники по «борьбе за идеализм» нашли в «Северном вестнике» приют и столованье. Журнал стал первым в России модернистским изданием, он дал дорогу литераторам и философам, которые станут суперзвездами нарождающегося Серебряного века и заполучат все лавры рыцарей идеализма.
На страницах «Северного вестника» публиковались и первые статьи о Фридрихе Ницше, идейном вожде символистов. Надо сказать, что сам Волынский Ницше не жаловал – ему претили имморализм, крайний индивидуализм и безбожие немецкого мыслителя. Отношение к его философии стало одним из поводов для разлада Волынского и с Мережковским, и с символистами, на союз с которыми он рассчитывал в своей «борьбе за идеализм». По словам литературоведа Д.Е. Максимова, он «связывал с их появлением надежды на возникновение чисто идеалистического искусства. Но вскоре окончательно определилось, что символисты не есть эстетически нейтральные последователи идеалистической философии… Стало ясно также, что идеализм их не помещался в рамках учения Канта или Гегеля, и что они чувствуют себя гораздо более склонными к восприятию идей Ницше, в котором Волынский видел силу чуждую и враждебную себе»[9]. Один из важнейших представителей символизма Николай Минский писал по этому поводу: «Читающая публика и даже критика… представляли себе г. Волынского как теоретика русского символизма. Это неверно. Г. Волынский той же книгою Канта, которой он прежде побивал Белинского и Чернышевского, теперь намерен сокрушить Ницше и всех его последователей»[10].
Декадентство, знаменем которого стал в России Ницше, Волынский атаковал не только за бездуховность, манерность, надрывность и пессимизм, но и за ту же философскую слабосильность, в которой прежде обвинял социал-демократическую публицистику Волынский беспощадно критиковал Сологуба[11] за «внутреннюю бедность» и «нравственные извращения», Гиппиус – за фальшивость и кокетливость, подозревал Бальмонта в демонизме, изобличал Брюсова как эротомана и лицемера («Брюсов хочет быть декадентом во что бы то ни стало – и не только в области поэтического импрессионизма, но и в области ницшеанских дерзновений. Он хочет трубить в трубу сверхчеловека, хочет казаться каким-то львом, будучи в действительности только средним человеком в литературе»[12]).
Впрочем, доставалось не только народникам и декадентам. Волынский мог безжалостно пройтись и по Лескову за его якобы беспринципность, безыдейность и скоморошье извращение языка в угоду общественному вкусу. А ведь именно благодаря ведущему критику «Северного вестника» автор «Соборян», опальный и полузабытый, ошельмованный шестидесятниками как религиозный мракобес, был возвращен читающей публике и получил всеобщее признание как русский классик. В общем, как пела одна народная артистка, «бей своих, чтоб другие боялись».
И это мы ещё молчим про отношение Волынского к Вячеславу Иванову, его коллеге и сопернику, двойнику и антиподу, «маниаку Диониса»!..
В общем, «друзей» у него хватало. Если бы не тщедушная конституция Флексера, то дело не раз могло бы дойти и до драки. (А подобные случаи не были редкостью среди русских литераторов – взять хоть знаменитое кровавое побоище Есенина с Пастернаком в редакции «Красной нови» из-за разных взглядов на существо поэзии. Кто победил в нём – непонятно: свидетель инцидента Валентин Катаев описал лишь сам процесс. Будем надеяться, что Есенин.)
Недовольные «Северным вестником» и лично его идеологом, которого было жалко бить, символисты задумаются о создании собственного издания. В ноябре 1898 года выйдет первый номер легендарного журнала «Мир искусства». Это будет не первое и не последнее явление, появившееся на свет назло Волынскому.
Чуть ранее разойдутся пути Волынского и его университетского товарища Дмитрия Мережковского, который, кстати, в своё время поспоспешествовал приглашению молодого критика в редакцию «Северного вестника». Волынский, бывший в его доме частым гостем, даже завел роман с его женой Зинаидой Гиппиус, о чём с большим удовольствием судачил весь литературный Петербург.
В 1896 году Волынский отправился в Италию в компании с четой Мережковских – Дмитрий Сергеевич собирался написать книгу о Леонардо да Винчи и опубликовать её в «Северном вестнике». На тот момент Волынский ещё не умел, по словам Гиппиус, «отличать статую от картины»[13], однако уже вскоре, опередив своего друга, он опубликовал в своём журнале собственное исследование об итальянском гении, а в 1900 году издал его отдельным изданием. Мережковские расценили это как предательство и окончательно порвали со старым приятелем.
Кстати, эту свою книгу Волынский писал летом 1897 года в Баварских Альпах – в гостях у Лу Саломе, ближайшей подруги и свидетеля жизни Ницше. В это же время в доме писательницы проживал и молодой поэт Райнер Мария Рильке, без памяти в неё влюбленный. Именно он стал прототипом опекаемого Старым Энтузиастом Юноши в книге Волынского о Леонардо.
Тяжелый характер Волынского, а возможно, и ревность к Рильке, не позволили ему продлить завязавшиеся было отношения с немецкой писательницей. Видимо, в отместку он обрисовал её в книге о Леонардо как некую молодую обворожительную особу, в которую угораздило влюбиться Юноше – любовью, «которая более похожа на ядовитую болезнь»: тот «ошибочно принял явное душевное разложение, без внутренней красоты, без святости, без мягкой и человечной правды, которая одна не банальна, за смелую новую свободу». В этой коварной женщине, по повадкам явно ницшеанке «с болезненными ощущениями современной эпохи», Старый Энтузиаст узнал демонические черты Леонардовой Джоконды[14].
Сама писательница не осталась в долгу и позднее представляла несколько месяцев совместного проживания в Вольфратсхаузене как незначительный эпизод, едва достойный внимания: мол, бывало, «захаживал приехавший из Петербурга один русский (правда, недоброй памяти), который давал мне уроки русского языка»[15].
В книге о Леонардо да Винчи Волынский апробировал свой новый метод интерпретации художественных произведений путем дешифровки языка пластики, поз, мимики. Таким манером он разгадал и загадку знаменитой «Джоконды».
Анализируя портрет, Волынский не упускает ни одной, даже самой, казалось бы, незначительной детали – ни тончайших лиловатых жилок на веках, ни пульсирующих вен на шее, переданных с невероятной, просто волшебной искусностью – как живые! Как важную «неженственную» подробность Волынский отмечает чрезмерно высокий, выпуклый и несколько сдавленный около висков лоб модели, а также отсутствие бровей над глазами («чем-то болезненно вырождающимся веет от этого лица, и чувствуется, что эта женщина обладает скрытыми недугами»[16]). «Тонкий, постепенно расширяющийся нос с нервными, трепетными крыльями – нежно-розовыми ноздрями» говорит, по мнению Волынского, о том, что у его обладательницы тонкое обоняние, но «не очень хороший слух, иначе уши её не были бы закрыты ниспадающими волосами, она больше бы дорожила слуховыми впечатлениями… Её чувственно волнуют запахи, но она не отзывчива на страдания живых существ. Чтобы сострадать, нужно отчетливо видеть и чутко слышать… Всё лицо, в общем, при его интеллигентности, изысканных ощущениях в области обоняния и признаках болезненного разложения, отдает бессилием темперамента и нравственным безволием»[17].
Психологический портрет Джоконды дополняют её руки. «Длинные, постепенно утончающиеся пальцы с круглыми ногтями… мягкие, с чуть заметными тенями в суставах, пальцы, под кожею которых чувствуется нежная жировая ткань… Они кажутся не природно-аристократическими, а выхоленными. Её вялому чувственному темпераменту подобают именно такие руки, способные на поверхностную ласку, которая выражает не нежность сердца, а любовь к эгоистическим нервным ощущениям»[18].
Как «выражение душевного бессилия» интерпретирует Волынский и пресловутую улыбку Джоконды. Все отмечают, что с ней явно что-то не то. «Улыбка может быть началом веселого смеха или отблеском замирающего смеха, но это не та улыбка: Джоконда не способна к жизнерадостному смеху. Улыбка может выражать возвращение души от глубокой скорби к невинным радостям жизни. Но это не та улыбка, потому что Джоконда не умеет глубоко воспринимать в душу мир человеческих страданий, потому что она нравственно слепа и глуха. Она не способна к светлому и радостному перерождению и возрождению. Она никогда не выходит из своей собственной внутренней смуты… Эта улыбка, во всяком случае, не заключает в себе никакой веселости, которая требовалась по историческим задачам ренессанса. Это неподвижная гримаса, неприятная, раздражающая, придающая всему лицу Джоконды, при его общей некрасивости, оттенок какого-то особенного уродства, невиданного в искусстве ни до, ни после Леонардо да Винчи. Улыбка Джоконды кажется загадочной только потому, что она не может быть объяснена ни одним из понятных нам божественно-человечных чувств»[19].
В результате манипуляций Леонардо создается впечатление, что перед нами не двадцатипятилетняя девушка – жена известного аристократа, краса Флоренции, а чуть ли не старуха (присмотритесь – а ведь так и есть!). «Вы не видите красоты именно потому, что это старая женщина, хотя на лице её нет ни одной морщинки»[20], – уверяет Волынский. Он напоминает, что улыбаться натурщицу Леонардо заставлял с помощью специально нанятых шутов и музыкантов – обыкновенное её выражение лица его не устраивало. Но в таком случае это уже не портрет – это эксперимент над человеческой душой, а вернее сказать, насилие над натурой (Волынский неспроста называет да Винчи предшественником Фрэнсиса Бэкона), адское творение темного мага. «Можно себе представить, – восклицает Волынский, – какое впечатление должна была произвести эта Джоконда на толпу веселых, болтливых флорентийцев, которые, несмотря на ученые тенденции эпохи, сохраняли в себе всю свежесть и беспечность цветущей Тосканы. Джоконда должна была глубоко поразить их тонко чувствительные нервы… Мрачный гений витает над этим портретом. Несмотря на светлые, весенние тона пейзажа, Джоконда кажется вышедшей из темного подземелья. А над Флоренцией никогда не переставало светить теплое южное солнце!»[21]
Главный тезис «Леонардо» Волынского – ложность и без-благодатность искусства, не вдохновленного божественным началом; именно так он характеризует «кудесничество» да Винчи, имеющее темную природу. Величайший художник итальянского Чинквеченто предстает у него в роли демона-искусителя, да и сам Ренессанс у него трактуется отнюдь не в принятом ключе, как возрождение классической красоты, но – как движение антихристианское, демоническое, реставрация темных языческих начал.
В определенном смысле трактат Волынского можно рассматривать как памфлет, в котором автор в иносказательной форме (а иногда и напрямую) бичует ненавистное ему декаденство с его культом Ренессанса, ожиданием Третьего Возрождения и энтузиазмом по поводу ницшеанского язычества. Достается и лично Ницше – по словам критика, от него и после смерти «струится ядовитое веяние, холодное веяние, от которого чахнут побеги молодой жизни. Это то же веяние, которое владело могучею душою Леонардо да Винчи. Оно создало теперь тысячи маленьких, болезненных, чахоточных Джоконд, которыми гипнотизируются неокрепшие птенцы»[22](в этом пассаже опять-таки очевидны намеки на отношения Саломе и Рильке, никак не дающие Волынскому покоя).
Интенции автора не прошли мимо внимания его современников. Николай Минский назвал труды Волынского о Леонардо «подземной миной, которая должна взорвать на воздух современный символизм»[23]. В целом трактат об итальянском художнике вызвал в среде российской интеллигенции скорее неприятие. Общественность была шокирована, например, гипотезой Волынского о бисексуальности да Винчи, которая, между тем, уже вскоре будет акцептирована австрийским философом Отто Вейнингером, а ещё через некоторое время станет едва ли не общим местом в европейском искусствоведении.
В отличие от своего отечества, за границей книга Волынского была воспринята с восторгом. Автор даже получил за неё звание почетного гражданина города Милана.
Семиотика телесности как метод была использована Волынским и для анализа произведений Достоевского. Известно, что Мережковский характеризовал Льва Толстого как «тайновидца плоти» – в отличие от Достоевского, «тайновидца духа» («один – стремящийся к одухотворению плоти; другой – к воплощению духа»)[24]. По указанию израильского филолога Елены Толстой, в этих формулировках может содержаться след «вначале совместных увлечений» Мережковского и Волынского. Однако последний «рисует именно Достоевского тайновидцем плоти, блестяще дешифруя загадочные места его писаний именно как символизм тела»[25].
Подробнейшим образом выписанные портреты князя Мышкина, Рогожина, Настасьи Филиповны, Дмитрия Карамазова, Грушеньки, их жесты, позы, повадки, элементы одежды Волынский рассматривает как символический шифр, ключ к их характерам, духовной жизни и знаки будущих перипетий в их судьбах.
Вот, например, как Волынский «дешифрует» Рогожина на основе текста романа:
«Молодой человек, “лет двадцати семи, небольшого роста, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами” – таков Рогожин. “Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое. Тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица”. Каждый анатомический признак имеет здесь психологическое значение. В небольшом, невысоком теле сдавлена огромная сила характера и страстей. Эти курчавые, почти черные волосы, в противоположность белокурым волосам Мышкина, дают чувствовать яркую индивидуальность, замкнутую для широкой мировой жизни. Серые, но огненные, маленькие глаза тоже выражают суровое одиночество души, скупость в общении с жизнью и людьми: подобно небольшим и редким окнам его дома, они как бы пропускают мало световых и красочных впечатлений. Но зато полученные впечатления приобретают у Рогожина огненный характер, переходят в страсть. Высокий, хорошо сформированный лоб, представляющий контраст с грубой и некрасивой нижней частью лица, указывает на мощный природный ум, непреодолимый, упорный и ясный в применении к обычным обстоятельствами жизни, сектантстки-суровый в вопросах внутреннего убеждения.
В Рогожине сразу чувствуется личность, высоко стоящая над толпой. Его улыбка – наглая, насмешливая и злая – является как бы выражением его молчаливой, но неустанной критики всего окружающего. Её наглость – это бессознательное, но дерзко-откровенное высокомерие Рогожина. Насмешка и злость – это его отвращение от всякой жизненной пошлости, от всего мелкого и своекорыстного и конвульсия его сатанинских страстей. Но в первой же странице романа видишь его в намеках, но целиком. Одно и то же лицо, одна и та же характерная маска стоит перед нами от начала до конца. Он является перед нами уже захваченным бешеною страстью к Настасье Филипповне, и эта страсть накладывает свою неподвижную печать на её наружность. “Особенно была приметна в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания”. Эта мертвая бледность, может быть, более, чем что-либо другое, дает нам чувствовать серьезность и глубину натуры Рогожина. В своих страстях он доходит до страдания, и потому самые эти страсти являются великим делом его жизни. Поистине демонская любовь его к Настасье Филипповне стоит в его душе палящим зноем на протяжении всего романа, и самая неподвижность его экспрессии – злой, наглой и конвульсивно- страдальческой – служит выражением “односоставности” его настроений. Везде, где бы ни появлялся Рогожин, Достоевский показывает нам его с теми же неизменными признаками его напряженной внутренней жизни. При этом Рогожин “ужасно молчалив”, как говорит о нём Ипполит. Говоря об его любви в письме к Аглае, Настасья Филипповна пишет: “Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет передо мною. Эти глаза теперь молчат (они все молчат), но я знаю их тайну… Он все молчит”. Можно сказать, что этими данными Рогожин обрисован весь, до конца. Простая натура, цельное стихийное существо, он естественно делается героем в трагической истории Настасьи Филипповны. Его демон встречается с её демоном, и трагедия доходит до своих глубочайших глубин, потому что в обоих, под яркою, бешеною жизнью страстей, живет и ропщет божество. Мы уже знаем, какая борьба между демонской и божеской стихией происходит в душе Настасьи Филипповны. Она не может утаить своих страданий и, с чисто женским исступлением, заливает свою жизнь слезами и прорывается в криках отчаяния и самообличения. Рогожин молчит, “ужасно молчит”. Божество терзает его в глубине души, но борьба двух стихий не развертывается в нём со всею полнотою, не захватывает его внимания, потому что его очаровал, загипнотизировал другой демон, бесовская красота Настасьи Филипповны. Его великий ум как бы не вовлечен в жизнь его души, он любит слепо, без размышлений, без оглядки, одною только неодухотворенною, необожеств ленною страстью, и потому его любовь к Настасье Филипповне, во всех её проявлениях, имеет характер разрушительной злобы. Он взял в душу свою только демонскую красоту её, и эта красота бросила вызов на смертельную борьбу его демонским силам. Такая борьба, при таких натурах, неукротимых и рвущихся к пределам всего возможного в жизни, неизбежно должна была привести к смерти»[26].
Или вот просто ошеломляющий по глубине и точности портрет Грушеньки, наказанья семьи Карамазовых: «Она не поражает своим внешним видом, но есть в ней какая-то страшная отрава, от которой люди становятся, как чумные. “Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинце на левой ножке отозвался”. Это – инфернальный изгиб всего её существа.
Это “самое фантастическое из фантастических созданий”, наконец, появляется перед читателем в тихом обаянии своей зловещей красоты. В небольшой сцене свидания Грушеньки с Катей, освещенной поистине инфернальным огнем, она выступает во всех своих существенных чертах. Сначала слышится из-за занавески её голос, нежный, несколько слащавый. Потом она выходит, “смеясь и радуясь”. Это “довольно высокого роста женщина, полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными, до какой-то особенной, слащавой выделки, как и голос её”. Она подходит к Катерине Ивановне плавной, неслышной походкой. “Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем, и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль”. Ещё не представляешь себе лица Грушеньки, но порода этой женщины, хищная, кошачья, с горячею кровью плотоядного зверя, уже чувствуется в полной своей силе. Эта неслышная крадущаяся походка, в противоположность иной, мощной, бодрой походке, говорит о какой-то особенной внутренней самоуверенности, о притаившейся жестокости, которая ласково заигрывает со своей жертвой, чтобы потом внезапно ошеломить её. При своей молодости – Грушеньке всего двадцать два года – она уже находится во всём своём цвету. У неё мощное тело, высокая грудь, широкие плечи, полная шея, белая, как кипящая пена. Такова эта чисто русская красота, “многими до страсти любимая”. Лицо у неё тоже белое, с “высоким, бледно-розовым оттенком румянца”. Очертания его были как бы слишком широки, а нижняя челюсть несколько выдавалась вперед. “Верхняя губа была тонка, а нижняя была вдвое полнее и как бы припухла”. У Грушеньки чудесные, густые, темно-русые волосы, темные соболиные брови и “прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами”. Ручка у ней маленькая, пухленькая. Она смеется маленьким, нервным, звонким смешком. В её улыбке мелькает по временам “какая-то жестокая черточка”. Вот и вся Грушенька, взятая извне, как будто бы только извне, а между тем очерченная уже вся целиком, как только это мог сделать художник с талантом Достоевского. Даны в линиях и красках материальные формы, в которых острые черты соединяются с мягкими, несколько расплывчатыми. Светлые, нежные краски лица и шеи выступают в зловеще-черной роскошной раме шуршащего дорогого платья. И всё это, все эти данные – не более как живая человеческая психология в намеках, во внешних символах. Чего стоят одни эти губы, тонкая, злая верхняя губа и плотоядная, капризная нижняя, выступающая вперед и припухлая. Материал, необходимый для живописного изображения Грушеньки – весь налицо, и притом – с волнующею яркостью, как это бывает только у Достоевского. В этом истинном волшебстве идеалистического искусства материя начинает говорить живым языком души, становится какою-то особенною речью понятных для человека идей, нарушает своё молчание, вырывается из своей немоты. Линии и краски становятся как бы словами. Вот почему внешний облик Грушеньки как-то гипнотически приковывает к себе внимание: через этот облик говорит сфинкс, двойственность человеческой природы, единой только в своих метафизических глубинах. Разгадывая Грушеньку в её тихой хищной красоте, мы открываем её внутреннее демонское неистовство, её сатанинскую злобу, которая дает ей крылья и для самообороны, и для страстных фантастических капризов. Мы проникаем в таинство борений добра и зла, Бога и красоты и начинаем созерцать загадочное соприкосновение земли и неба»[27].
Метод интерпретации художественных произведений через обращение к вопросам телесности, пластики, материальности станет визитной карточкой Волынского и будут перенят многими исследователями. Каким же образом Волынский пришел к этому методу? По нашей гипотезе, истоки его метода нужно искать в его давнем увлечении философией Спинозы.
Изучать её Хаим Флексер начал ещё во время учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Его первая научная работа «Теолого-политическое учение Спинозы» (1885) посвящалась доказательству родства философии Спинозы с иудаизмом («Мы думаем, что связь свою с иудаизмом Спиноза увековечил в своей “Этике”, этом замечательном истолковании идеи единобожия. По духу монотеизма мир пребывает и всегда пребывал в Боге. Это монотеистическое начало есть также основной принцип пантеизма Спинозы»[28]).
Опубликовав статью в еврейском ежемесячнике «Восход», автор впервые подписал ее псевдонимом «Волынский». Этот труд Флексеру пообещали зачесть в качестве диссертации с тем, чтобы после выпуска он остался при кафедре государственного права, однако тот заявил, что видит себя не в науке, а в литературе.
Позднее Волынский практически не возвращался в своих текстах к философии Спинозы, однако начала её были хорошо им усвоены и давали о себе знать на протяжении всей его творческой биографии.
В чём, в нескольких простых словах, заключается спинозовская философия? Спиноза был картезианцем, решал проблемы, поставленные Декартом. У Декарта две субстанции – мыслящая и протяженная, примирить их не представлялось возможным. Другие картезианцы, типа Николя Мальбранша, даже ввели такое понятие, как окказионализм. То есть совпадение мыслящей и протяженной субстанции – это лишь случай, случайность, оказия.
Как же разрешить это противоречие? Как мы помним, у Декарта любая математическая задача может быть решена двояко: либо через систему уравнений, либо через поиск точки пересечения двух кривых, построенных в пространстве. То есть либо через алгебру – мысленным, вычислительным путем, либо через геометрию – пространство.
По Спинозе это возможно, потому что бог – это одна субстанция, причина самой себя, единая сущность (здесь можно увидеть отражение иудейского принципа монизма, единобожия). А протяжение и мышление являются модусами одной субстанции, и между ними существует взаимнооднозначное соответствие. Или, как гласит знаменитая формула Спинозы, «порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей, и наоборот, порядок и связь вещей те же, что и порядок и связь идей»[29]. По словам выдающегося советского философа Эвальда Ильенкова, «спинозизм… связывает феномен мышления вообще с реальной деятельностью мыслящего тела (а не с понятием бестелесной души), и в этом мыслящем теле предполагает активность – и опять-таки вполне телесную»[30]. Применительно к концепции художественной критики Волынского это означает: ключ к духу – материя, телесность, и, наоборот, ключ к материи – дух.
Очевидно, что сам Волынский до известной степени отождествлял себя со Спинозой – одиночкой, изгоем, обвиненным в ереси и изгнанным из иудейской общины Амстердама, но не отрекшимся от веры своих отцов. Он явно восхищался образом голландского мыслителя, и это видно из его слов: «Из своего небольшого и бедного рабочего кабинета Спиноза видел мир во всей его бесконечности. В этом худом и физически непрочном человеке таилась такая творческая энергия, такая мощь понимания, пред которой отступали все затруднения научной мысли и как бы рассеивались все загадки мироздания»[31].