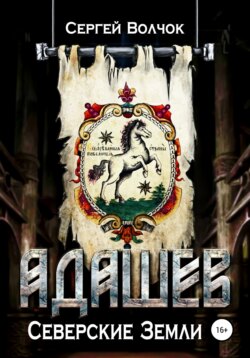Длинное вступление
(неизвестно где, неизвестно когда)
Боярин князя Воротынского Семён Адашев был изрядно пьян.
Это, казалось бы, совершенно незначительное событие тем не менее стало сенсацией – слуги только об этом и чесали языками. И немудрёно – все они, сколько бы не служили, пьяным барина видели впервые. Большинство из них совершенно искренне полагали, что одержимый воинскими искусствами и закалкой тела барин ничего крепче молока не употребляет.
И вдруг на тебе! Набрался. Да ещё в такой момент – когда барыня на сносях и вот-вот разродится.
Да и с кем набрался-то!
С побирушкой! С нищим, со слепым каликой-перехожим, которого и имени то христианского не было – кличка воровская, пустая котомка да полна голова вшей, вот и всё владение убогого.
***
Побирушка пришёл в усадьбу утром, встал на колени у крыльца и трудолюбиво гундел про «хлебца бы, люди добрые, Христом-богом заклинаю и матерью его, богородицей, хлебца бы мне…».
Никто на него особого внимания не обращал – в прошлом году был неурожай и по дорогам нынче много христарадников слонялось. Да и побирушка был не талантливый – на бандуре не играл, песен не пел, былин не читал и даже не матерился яростно. Ничего стоящего внимания, разве что страшные шрамы на лице. Да и сам побирушка просто скучно гундел. И никто его не слушал…
Кроме барина.
Тот как раз возвращался после традиционной утренней разминки с саблей – шёл голым по пояс, смущая дворовых девок чеканностью бронзовых от раннего загара мышц. Мимо побирушки он прошёл, не повернув головы.
И вдруг остановился, как обухом стукнутый.
Барин медленно повернулся, вперился взглядом в нищего и неверящим голосом спросил:
– Голобок? Голобок, это ты? Это же ты – голос твой!
– …хлебца бы… Ась? Кто здесь?
– Голобок!!! – барин схватил вшивого побирушку за лохмотья, и встряхнул как мешок. – Голобок, ты что – не помнишь меня?
– Голос помню. – равнодушно ответил тот. – Чей – не помню. Хлебца бы мне – мабуть, и вспомнил бы. Брюхо у меня подвело, мил человек, два дня не жрамши.
– Эй вы! – бросив побирушку, барин повернулся в сторону наблюдавших за сценкой дворовых, и скомандовал: – Сейчас перекусить гостю, потом в баню его, а после бани – к столу ведите. Стол богатый накрыть. Всё, бегом!
Дворня кинулась врассыпную заполошными курами – когда барин говорил таким тоном, ни медлить, ни задавать вопросы не стоило. А барин наклонился к нищему и тихо сказал:
– Голобок, это я – Молок.
– Молок? – тупое и забитое выражение лица побирушки на миг исчезло, и губы скривились в высокомерной усмешке. – Надо же. Выжил, значит?
И тут побирушка сделал такое, что учини это кто из дворни, уже через миг бы кровью харкал и зубы сплёвывал. Он положил барину на лицо свою грязную ладонь и быстро, но чутко ощупал. После чего сплюнул и сказал:
– А ты заматерел, пацан.
И боярин это стерпел!
***
Вот с этим-то вшиварём барин и пил второй час. Что там происходило за закрытыми дверями – всем было неведомо. Собутыльники говорили негромко, а подслушивать дураков не было – нрав у барина был крут, а чутьё на подгляд да подслух – как у зверя дикого.
Меж тем в комнате ничего необычного не было. Два мужика сидели за уже порядком растерзанным столом и вели размеренную беседу. Даже языки заплетались не сильно, и лишь красные рожи свидетельствовали о том, что мужчины не только едят.
Вот и сейчас хозяин в очередной раз разлил по кубкам, собутыльники молча кивнули друг другу, и, не чокаясь, опрокинули содержимое внутрь.
Слепой, явно изучивший уже, где что на столе стоит, зацепил квашеной капусты, захрумкал и изрёк, наконец, с невесть откуда взявшимся достоинством:
– Хороша капустка у тебя, хозяин. Так, значит, сыскным меня не сдашь?
– Сыскным не сдам, – хозяин жевал расстегай, и оттого говорил невнятно. – А вот в рожу, пожалуй, дам. Как не дать гостю дорогому, если он ещё раз разговор про это заведёт? Не сдам я тебя, Голобок, не сдам! Не так много нас под небом ходит, чтобы ещё прореживать.
– Одиннадцать. – сказал нищий и ухмыльнулся нехорошей, волчьей усмешкой.
– – Чего? – боярин посмотрел на гостя мутноватым взором.
– Одиннадцать, говорю, нас осталось. Тех, кто жив или может быть жив. Если, конечно, твой приятель из мёртвых не воскрес.
– Не воскрес. – мрачно ответил Семён. – Не довезли тогда Василия Семёновича. В дороге богу душу отдал. Давай помянем его, что ли?
И хозяин опять разлил.
– А и помянем, – согласился нищий, цапнув серебряный кубок. – Хоть и пёс был Швих, а стойкий. Помин души заслужил. А что до лекарни его не довезли – неудивительно. Вас обоих тогда на телегу загрузили – ну трупы трупами. Ей богу, в гроб краше людей кладут. Мы и тебя за мёртвого держали.
Выпили, заели.
– В общем, одиннадцатый ты. Волк, Рубец и Крапива всё ещё в Диком Поле и даже воюют ещё, говорят. До чего всё-таки человек живучая скотина – прямо удивляюсь я ему. Черёмный через полгода к татарам в плен угодил, жив или нет – не ведаю, но на всякий случай среди живых числю. Вихор пять лет назад выкуп выслужил, документы себе выправил, сейчас, говорят, в Москве осел, школу сабельного боя держит. Псов драться учит, гнида! Он всегда гниловат был.
Голобок зло сплюнул на пол, растёр плевок драным лаптем и продолжил:
– Азат, татарин наш, что единственный живым тогда остался, сразу после этого из джигитов выписался к чертям собачьим. Он ведь на калым к тому времени собрал уже, ну и мы с ребятами ему скинулись – он хоть и бусурманин, а свой, как-никак. Побратим. В общем, не нищим Азатулла ушёл. В Степи кочует, разбогател, баем стал, третью жену, говорят, недавно взял. А все остальные в земле уже, червей кормят. Сам знаешь, Молок, тумаки долго не живут.
Побирушка замолчал.
– Ты сказал – одиннадцать – напомнил боярин.
Нищий молча сунул хозяину кубок, тот, не спрашивая, набулькал ему и себе. Выпили.
– Ну а что одиннадцать? Мы со Стригой и Двойным через три года после этого в побег с Засечной Черты ушли. Не выдал нас тогда Господь – гость размашисто перекрестился – все до Руси живыми добрались, никого тогда псы по дороге не приняли. Здесь, на Руси – сразу разбежались, где они, и что с ними, про то не ведаю.
Слепой помолчал, хозяин не перебивал.
– Мне, сам видишь, не повезло. Сыскные меня в норе обложили после дела одного громкого. Я через дальний отнорок выскочить хотел, да у них, видать, свой человечек в нашей ватаге был, и все им про мою нору обсказал. В общем, прямо на чароплёта я тогда выпрыгнул. Да и чароплёт не простой меня ждал, я никогда такой быстрой волшбы не видел. В общем, успел он мне, гнида, огненным шаром очи выжечь, прежде чем я его кончил. Я тогда водой ушёл, но на том моя война и кончилась. У меня Дар хоть и не из простых, а глаза заново отрастить не позволяет. Вот и христарадничаю третий год уже. А что делать? В землю не хочу, не нажился ещё.
Помолчали. Вдруг лицо бывшего разбойника озарила усмешка.
– Кстати, знаешь что, Молок? Люди бают, что Стрига в наших краях объявился. Да не один, а банду собрал из тумаков, натаскал молодняк. Может, и встретитесь ещё, а? Чем чёрт не шутит, когда бог спит. Стригу-то помнишь?
– Помню, – глухо уронил Адашев, и замолчал. Давно забытые, казалось, картины вновь всплыли в памяти как живые…
***
Это было семь лет назад, когда нынешний матёрый боярин был самым что ни на есть зелёным пацаном – чистый жеребёнок-стригунок пятнадцати годов от роду. И именно Стрига тогда превратил жизнь молодых недорослей в ад.
На Засечной Черте юный сын боярский Семён Адашев и его сосед и лучший друг, молодой князь Василий Семёнович Одоевский по прозвищу Швих оказались случайно. Им просто не повезло.
Отец Швиха, старый князь Семён Одоевский был на ножах со своим соседом – князем Дмитрием Петровичем Лопатой из рода Пожарских. Вражда между ними возникла ещё в молодости и с годами только множилась и накалялась. Пару раз дело доходило до сабель и раз десять – до кулаков. До убийства, правда, не дошло, другие князья их растаскивали – благо, соседи сталкивались только на воинских сборах, да в Думе. Зуб, правда, каждый из них заимел на другого – как у зверя моржа, что живёт в Студёном море. Рано или поздно этот раздор должен был закончиться плохо.
Так оно и случилось.
За несколько лет до того, когда дружки Сенька Адашев и Васька Одоевский должны были впервые выехать в полк и начать свою воинскую службу, царь Шуйский издал указ, запрещавший ставить дворянских недорослей командовать людьми без прохождения испытания.
Испытание надлежало сдавать местному воеводе, и оно включало в себя, помимо демонстрации Дара и воинской выучки, месячную службу в войсках в специально введённом чине «соискателя». И лишь по истечении четырёх недель и после того, как воинский начальник в чине не ниже пятисотенного головы признает «пробную службу» недорослей зачтённой, соискатель получал чин «десятника» и первых людей в подчинение. И начиналась нормальная воинская служба.
Но друзьям не повезло.
Воеводой в тот год был князь Дмитрий Петрович Лопата. Который, узрев сына злейшего врага, ажно заржал от радости. И, вместо того, чтобы отправить отрока, как всех остальных, в местную дружину, выписал ему грамоту на прохождение соискательства на Засечной Черте. И приятеля его отправил туда же – за компанию.
Парни, по молодости и глупости, просто плечами пожали – в Черту ехать, так в Черту, какая разница, где месяц службы мыкать? И даже не обратили внимания на взгляд, которым их проводил древний плешивый подьячий, выписавший подорожную.
А смотрел старый бывалый дядька на них – с соболезнованием.
***
Что такое Черта – им доходчиво объяснили уже на месте.
На Засечной тамошние командиры долго разглядывали грамоту и подорожную – чуть не на просвет. Потом шушукались и крутили пальцами у виска. Потом определили наконец в полк левой руки. Потом непосредственный начальник отвёл соискателей в какой-то сарай, велел натаскать сюда сена, сидеть тихо и нос из сарая не высовывать. Разве что раз в день вышмыгнуть как мышка – за стряпнёй горячей на кухню сходить, ну и оправиться по дороге.
Княжич не выдержал, и поинтересовался, за что им такую странную службу определили.
– Так ведь здесь ублюдки на соседней позиции стоят, – охотно пояснил им воевода полка левой руки, матёрый воин с выбитым глазом и страшным шрамом через всё лицо. – Если вы им в руки попадёте – живьём на ремни порежут. Они дворян люто ненавидят и «псами» кличут. Нет, если я, допустим, вовремя про то прознаю, я вас, конечно, отбить попытаюсь, раз уж вы у меня в полку числитесь. Но я ведь могу и не успеть. И вообще поймите – вы пока никто, и звать вас никак. Вы – мясо.
На недоумевающие взгляды воевода только хмыкнул:
– Это Черта, дураки. Здесь Смерть рядом ходит – только руку протяни. А перед Смертью, сукой старой, все равны. Ей поровну – князь ты или холоп. А жить всем охота, потому народ здесь бережётся, и без нужды никуда не лезет. А уж за тех, кто никто, никто и не встанет.
Ублюдки это понимают – у них-то порядки ещё суровее, у них там вообще Ад Опричный. Поэтому старослужащих они трогать боятся – за тех побратимы сабли из ножен вытянут и мстить пойдут, и никакие приказы никого не остановят. А вот такие птенцы желторотые, как вы, за кого встать ещё некому– любимая их добыча. Поэтому не множьте мои хлопоты – сидите здесь и не отсвечивайте. Если бы вас ко мне нормально служить прислали – я бы, конечно, из вас нормальных воинов делать начал. Но вы ко мне только на четыре недели, а это вообще ни о чём. Поймите, вы вообще – хер знает кто такие, таких, как вы, здесь отродясь не водилось. Поэтому сидите в сарае как мыши, если живы останетесь – через четыре недели выпишу я вам грамоту и отправлю домой восвояси. Какой дурень вас вообще сюда прислал? Это ж надо удумать – соискателей на Черту!
И, глядя на вытянувшиеся лица друзей, добавил:
– А вы как хотели? Это Засечная Черта, здесь князь, не князь – всем насрать. Здесь у всех первое время задача одна единая – выжить. Когда месяца три здесь проживёшь – можно начинать аккуратно башкой вертеть. А до этого – даже моргать опасайтесь.
***
Отсидеться у друзей не получилось – сначала почти все дворянские полки сдёрнули затыкать прорыв, который татары учинили под Белоколодском. А на следующий день воевода лично явился в их сарай, снял шапку, как при покойнике, и сказал:
– Не повезло вам, говнюки. Приказ мне сверху пришёл – срочно гонцов отрядить, грамоту надо воеводе в Коротояк доставить. А мне, окромя вас, и послать-то некого – сами видите, лагерь как метёлкой вымели. Сами вы нипочём не дойдёте, а единственная оказия – в Коротояк сотню ублюдков перебрасывают. Придётся вам с ублюдками идти, они через час выступают. Времени нет, собирайтесь, пошли туда, а я пока вам по дороге обскажу подробно, как себя с ублюдками вести, чтобы живыми остаться. Да не дрейфьте вы так. Ну помрёте, и что? Все мы рано или поздно сдохнем, а идти до Коротояка всего два дня. Может, и пронесёт Господь.
***
И ведь почти пронёс! Ублюдки хоть и были злые в предвкушении передовой, но к дворянским недорослям особо не цеплялись. Судя по всему, сработало выступление воеводы. Старый вояка в последний момент всё-таки пожалел пацанов и выступил перед ублюдками с программной речью. Очень короткой:
– Вы меня знаете, тупаки. Уже полтора года знаете. Это мои люди, я за них вписываюсь. Если они живыми не дойдут, я найду – кто – и порву. Вы меня знаете.
– Не пугай, пёс! – крикнул кто-то из толпы. – Пёс волкам зубы не показывает!
Но воевода, не обращая на крики внимания, подтолкнул недорослей к ублюдочному сотнику, повернулся и ушёл, не оглядываясь.
Сотник мазнул по отрокам безразличным взглядом, и склонился над грамотой.
– Так… Сотник – один, урядников – пять, бойцов – девяносто восемь. Все оружные. Теперь приданных сочтём. Лекарей четверо, неоружные, обозный один – неоружный, три посыльных джигита из татар, оружные. Курьеры, двое – короткий взгляд на сабли – оружные. Все на месте.
Он поставил галку и, повысив голос, заорал:
– Выступаем! Шевелим ходулями, раньше выйдем – раньше придём!
Идти вместе с ублюдками было тяжко. Одной из веток семёновского Дара было Чутьё, и сын боярский когда-то вбросил туда пару очков. Поэтому сейчас внутри его головы безостановочно визжал сигнал тревоги, сообщая, что вся эта разношёрстная гомонящая толпа, больше всего напоминающая скоморохов, обряженных в разноцветные тряпки – очень, очень, очень опасные люди. С очень неблагоприятными намерениями.
Но истерику Чутья ещё можно было пережить. Хуже было другое – один желающий стать рваньём для воеводы всё-таки нашёлся. Его звали Стрига и на первый взгляд он был серым и неприметный парнем.
Но лишь на первый взгляд.
К вечеру первого дня Семён выучил каждую морщинку на неприметном лице Стриги – так ему мечталось разбить эту харю в кровь. На марше Стрига тенью следовал за «пёсиками», возникая то справа, то слева, и безостановочно сыпал оскорблениями.
И не было в мире такой мерзости, которую, если верить Стриге, не проделали бы матери наших героев с ослом и козлом.
И хотя воевода загодя предупредил отроков о подобной тактике, ровно как и о последствиях нарушения принципа «на слово отвечать словом, на дело – делом», всё равно ближе к вечеру Оболенский не выдержал. Сыну князя было особенно тяжело переносить льющийся поток грязи, ведь фантазия Стриги казалась неистощимой, а процессы он сочно описывал во всех деталях.
Выхватив саблю, Василий кинулся было на ублюдка, но был мгновенно скручен и обезоружен сослуживцами Стриги.
Сам охальник смотрел на бьющегося в захвате Ваську спокойно и, пожалуй, даже равнодушно.
– Ты покойник, княжич. – Стрига говорил совершенно ровно, он не угрожал, а именно что информировал. – Всё будет по уставу, сразу после марша я стребую с тебя «дело за дело», свидетелей достаточно. Так что от поединка тебе не отвертеться.
Он повернулся к Адашеву.
– Ты следующий, пёс. Хотя какой ты пёс? Ты щенок слепой, молокосос. Хотя даже молокосос для тебя слишком щедро. Ты – Молок.
И щедрый поток грязи полился снова, но теперь – в одно лицо.
***
К обеду следующего дня Адашеву казалось, что он сходит с ума. Стрига был неутомим и вездесущ, как дьявол-искуситель в рассказах их сурового деревенского батюшки. Он то шептал в ухо, то, напротив, отъезжал на коне подальше и громогласно сообщал всем детали тайных привычек дворянского недоросля. Народ ржал аки конь и бился об заклад – когда щенок сломается. В том, что сломается, никто не сомневался – Стрига при всех пообещал дожать его до прибытия в Коротояк, а неприметный ублюдок был, как выяснилось, местной знаменитостью. Подобными вещами он промышлял давно и осечек ещё ни разу не давал. В общем, на Адашева все смотрели с живейшим интересом, а на Оболенского – как на живого покойника.
Однако на сей раз Стрига как никогда был близок к фиско. До Коротояка оставалось чуть больше часа пути, а Семён всё ещё держался. Давление было непомерно тяжёлым, и Адашев готов был голову заложить – Стрига при прокачке Дара каким-то образом умудрился развить запретную ветку воздействия на чужой разум. Подросток понимал, что вот-вот сорвётся, и держался только на своём легендарном упрямстве, за которое мать лет с пяти звала его «поперечиной».
Всё изменило появление дозорного, который скакал так, как будто за ним гнались все демоны ада. Хотя никто за ним не гнался – отряд как раз шёл по степи в промежутке между двумя лесами, и всё вокруг прекрасно просматривалось.
– Татары в лесу!!! – орал дозорный. – Много, не меньше тумена! Наших всех положили, я один утёк!
***
После этого крика события сорвались в какой-то совсем немыслимый галоп, и память Адашева хранила только какие-то обрывки происходящего.
Вот сотник, привстав на стременах, смотрит, как из ближнего леса выскакивают низкорослые татарские лошади, а сидящие на них всадники в овечьих шапках ликующе кричат.
Вот заполошная суета и крики:
– В лес! В лес бечь надо!
– Да какой лес, у нас только треть конных. Не добежим, по дороге всех вырежут!
– Только что справа ложбинка была! Неглубокая, но хоть что-то!
– Точно! Ложбинка!
– Кому стоим? Бегом! Бегом!!!
Вот заполошный, безоглядный бег, в который сорвалась вся сотня, в едином порыве рванувшая в сторону неприметной ложбинки.
Вот жалобные, отчаянные крики лошадей, которым резали горло, едва соскочив со спины. Трупы коней спешно укладывали по верху неглубокой ложбинки – это был единственный способ хоть как-то уберечься от стрел кочевников и огненных шаров татарских чароплётов.
– Лекарей! Лекарей в середину прячьте! Урядник! Кобылыч, твою мать! Твои два десятка за них отвечают. Надо будет – телами своим закроете, нам без них полный карачун сразу настанет.
Вот они с Васькой лежат за чьей-то буланой кобылкой, наблюдая страшное зрелище – как безбрежная татарская конная лава разливается по степи. От топота копыт земля начала дрожать, как испуганная девчонка, и казалось, нет в мире силы, способной остановить этот порыв.
– Кажись, добегались мы. – весело сообщил Стрига, падая рядом с Адашевым. – Что, пёсик, страшно? Татар тысячи две, не меньше. Набег это, щенки, полноценный набег, а мы у них на пути оказались. Сейчас нас в землю вобьют, и дальше поскачут. Если сумеют, конечно.
И, повернувшись назад, ублюдок заорал:
– Голобок! Голобок, блуднин сын! Где ты там со своим луком ходишь? Бить пора.
И впрямь – со всех сторон застучала спускаемая тетива, да с негромким шмелиным гудением уносились в полёт огненные шары, запускаемые чароплётами ублюдков…
Вот третий или пятый приступ татар. Визжащие кочевники бегут, переваливаясь на кривых ногах, и размахивая кривыми же саблями. Самые ушлые держались за спинами товарищей и пытались выдернуть русских арканами. Выхваченным мгновенно отрезали голову – хан Гирей придерживался принципа строгой отчётности, не предъявив голову кяфыра, нечего было и рассчитывать на вознаграждение.
Именно в третий (или пятый?) приступ Семён отсёк лысоватому татарину руку с пикой, которая в следующий миг должна была проткнуть замешкавшегося Стригу. Ушлый ублюдок всё углядел, но вместо того, чтобы поблагодарить, крикнул:
– Я тебя за это, Молок, на час позже убью. Извини, но не люблю я ваше собачье племя. Не люблю.
Потом, когда они в перерывах между приступами лежали, отдыхиваясь, на истоптанной и скользкой от крови траве, Стрига вдруг спросил:
– А вы в ратном деле шарите, Молок. Что ты, что приятель твой покойный. Откуда бы? Вы ж сосунки.
Васька бы непременно полез выяснять отношения, но уже дважды раненый к тому времени Оболенский как раз забылся в тревожном беспамятстве. А Семён слишком устал, чтобы ругаться.
– Я Адашев, – просто ответил он ублюдку. – Если ты такой любитель подраться, про наш род должен был слышать.
– Слышал, и не раз. – спокойно кивнул тот. – А покойник?
– А Швих князя Семёна Оболенского старший сын. Дядька Семён – мужик вредный и упрямый, поэтому врагов у их дома – как у сучки блох. – сам не зная почему, разоткровенничался соискатель. – Вот он наследника с малолетства воинскому бою и учил, лучших учителей брал. А за малейшую промашку – драл как Сидорову козу, и орал на всю усадьбу: «Или ты, или тебя, понял, сына? По-другому в этой жизни не бывает!».
– Смотри ты, – цокнул языком ублюдок. – Князь, а шарит. Так и есть. Чему-то вас и впрямь обучили, только это ничего не меняет. Я вас всё равно обоих кончу. Именно потому, что или ты – или тебя.
Семён не стал спорить – за это время у него было немало случаев увидеть, чего стоит Стрига в бою. Ни он, ни тем более Васька, ублюдку были не соперники.
К рассвету Стрига стал командиром – бредивший всю ночь сотник наконец-то отдал богу душу. Власть перешла к первому уряднику, то есть к Стриге.
– Слушайте меня, тупаки! – сразу сказал он. – Расклад у нас хреновый. Подмоги из Коротояка не будет, раз до сих пор не прислали – тот фейерверк, что мы здесь устроили, слепой бы заметил. Это раз. Ещё один день мы в этой ложбинке не усидим – без воды сдохнем. Это два. Выход один – идём в Коротояк сами.
– Как сами? – ахнул кто-то.
– А так! – волком ощерился Стрига. – Обыкновенно. Строимся в каре, и идём, от татар отбиваясь. Здесь недалече – может, и дотопаем.
– А раненные? – степенно поинтересовался какой-то пожилой ублюдок.
– Раненых, кто ходить может – в середину. Лекарей с ними. – ответил урядник. – Лежачих…
Он помедлил секунду.
– Лежачих сами добьём, чтобы без мук отошли, и здесь бросим, – безжалостно пояснил он. – Иначе мёртвые живых за собой утянут.
***
Того страшного марша по степи до Коротояка Адашев почти не помнил – почти в самом начале он получил по голове татарской саблей, только крепкий череп и спас. Поэтому сознание мутилось, и видения смешались с явью. Семён к раненым не ушёл, шёл в каре, рубил и колол, но совершенно не помнил себя.
Потом, в лекарне, когда он малость оклемался, ему рассказали, что из сотни живыми до Коротояка дошли 36 человек – все раненые, многие – многократно. Легли бы и они, но коротоякский гарнизон спас. Когда те узрели этот «марш живых мертвецов» – высыпали на вылазку из ворот, не слушая осторожного начальства. Отбили остатки сотни у татар, и затащили в город, а без того – не дошли бы.
Но этого Семён уже совсем мне помнил – возле города его всё-таки приложило до беспамятства.
Как шепнул ему потом лекарь-ублюдок – дотащил его до города Стрига.
***
Боярин князя Воротынского Семён Адашев тряхнул головой, прогоняя воспоминания.
Нет больше того пацана, потерявшего лучшего друга, и повзрослевшего за неделю на десять лет. Есть матёрый воитель Семён Адашев, видевший с тех пор десятки, если не сотни стычек и боёв.
– Стригу помню. – повторил боярин.
Потом посмотрел на гостя и спросил:
– Тебе как, по дорогам таскаться ещё не надоело? Может, у меня останешься, поживёшь спокойно? А, Голобок? Что я тебе – миску щей и кусок хлеба не найду?
Но слепой, не прекращая жевать, помотал головой. Потом выбрался из-за стола, и отвесил поясной поклон хозяину.
– Спасибо тебе за хлеб, за соль, Молок. Но остаться – не останусь. Волк псу не служит.
Адашев неловко пожал плечами, позабыв, что гость этого не видит. А Голобок сказал:
– Пойду я. До ворот доведёшь?
Прощание получилось скомканным, но быстрым. Голобок дружески толкнул хозяина кулаком в плечо, повернулся и пошёл по дороге, постукивая перед собой посохом.
А Адашев замер в воротах, и лишь растерянно крикнул вслед:
– Ты заходи, ежли что…
И тут же повернулся на голос:
– Барин! Барин! – от усадьбы к воротам бежал дворовой парень, которого звали так же, как и хозяина – Сенька.
– Чего тебе? – сурово спросил боярин.
– Боярыня рожает! Повитуха сказала – началось!