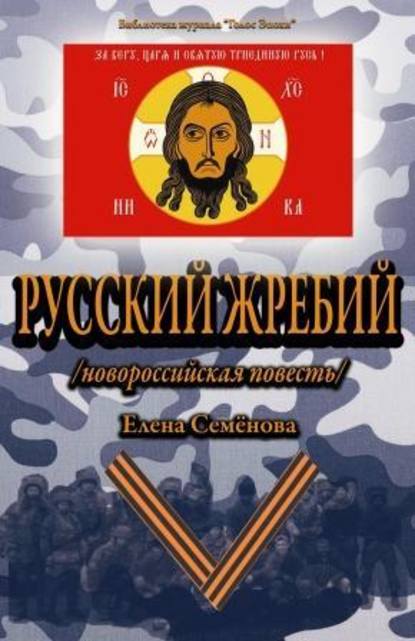Защитникам Новороссии посвящается…
Мой черный грач, простимся, брат.
Я – ополченец, я – солдат.
И может жизнь в момент любой
Позвать меня на смертный бой.
И мать опять не спит моя,
Ночами господа моля
О том, чтоб сын ее родной
Живым с войны пришел домой.
Скажи мне, грач, какой же толк
В словах про память и про долг,
Когда не сможем мы сберечь
Ни нашу честь, ни нашу речь.
И плачет женщина моя, ночами господа моля,
Чтоб, хоть изранен, но живой с войны вернулся я домой.
Мой грач, о, как бы я хотел,
Устав от скорбных ратных дел,
Прижать к груди жену и мать
И просто жить – не воевать.
Но плачет родина моя
Меня о помощи моля
И я иду опять, мой грач,
На этот зов, на этот плач».
Юрий Юрченко
Пролог
Эту запись он пересматривал уже не в первый раз, снова и снова разворачивая незаживающую рану, задавая вопросы, ответы на которые давно знал, но облегчения это знание не приносило.
На этой записи Город ещё был жив. Уже растревоженный первыми выстрелами, он ещё без страха смотрел в завтрашний день, ещё верил в то, что всё закончится хорошо, ещё бодрился, показывая решимость стоять до конца и в душе надеясь, что стоять-то придётся недолго, потому что вот-вот придёт помощь, как было это только что в Крыму. Крым – мечта, надежда, великий соблазн Юго-Запада России, отторгнутого от неё великим предательством безо всякой войны…
Совсем недавно Город сделал свой выбор, следуя примеру крымчан. Такой же сделали другие города и веси… Позже умные головы обратят внимание, что и вопрос-то на референдуме поставлен был как-то лукаво, неточно, оставляя возможность для трактовок, и наблюдателей-то не было даже от России, а значит юридическая легитимность народного волеизъявления остаётся под большим вопросом. Но кто об этом думал тогда? И кто разбирал эти нюансы?
А вскоре после этого Город отмечал Победу. Ту, без малого 70-летней давности, и грядущую, в которой многие ли из запрудивших площадь нарядных и радостных людей в тот день сомневались? В этот день в Городе даже прошёл парад – снятый с пьедестала танк «Иосиф Сталин», несколько бронемашин, «отжатых» у неосмотрительно заскочивших в Город «укров». Как радостно приветствовали эту «колонну техники сепаратистов»! Вон, поймал брошенный букет широко улыбающийся парнишка, сидящий на танке. Андрюха… Вот, он машет рукой – словно бы тем, кто видит его на экране, а на самом деле – своей невесте Катьке. Где-то есть и она в толпе, но на записи её не видно. Жениться на Катьке Андрюха так и не успеет. Через месяц после импровизированного парада снайперская пуля оборвёт его казавшуюся ему вечной жизнь…
Люди машут руками своим героям, развиваются флаги Республики и России. Родители дают маленькие флажки детям, и те весело машут ими и радостно цепляют на одежду георгиевские ленточки – самый желанный «сувенир» в эти дни. Большей части этих детей теперь в Городе нет. Многих будут вывозить из него уже под огнём, с риском для жизни. Некоторые останутся в нём навсегда, как та девочка с пышным бантом, цепляющаяся за руку матери – она погибнет в собственном дворе под очередным обстрелом, а мать, бежавшая к ней и застигнутая взрывом в дверях подъезда, останется калекой…
Но на этой записи никто ещё не знает, что будет именно так, никто не верит в возможность подобного. И, кажется, даже собаки, которых граждане, конечно, взяли с собой, разделяют их радость, не зная, что скоро станут искать пропитание за пределами Города, сбившись в стаи, потому что хозяева не смогут взять их с собой, убегая в неизвестность…
Город будет жить надеждой ещё долго. Ведь все слышали Крымскую Речь! Россия не допустит!.. Если Россия увидит!.. Россия оставляет за собой право!.. Россия защитит!.. Боже, для чего были все эти обеты, если не собирались защищать?.. Конечно, всё всегда знающие «мудрецы» найдут обоснование. Хитрый план, например… На худой конец, разведут руками и скажут, что весной наш лидер был одним человеком, а спустя несколько месяцев стал другим. Много мелкой лжи будет сказано в обоснование первой Большой Лжи, а знающие Правду за редким исключением предпочтут оставить это знание при себе. Ибо правда всегда куда менее затейлива, чем ложь, но куда более неприглядна и опасна для говорящих её.
В 19-м веке на пике могущества Империи её самый могущественный и рыцарственный Царь вынужден был изменить своё решение о лишении доходов с имений бежавшего в Англию для ведения подрывной работы против Империи Герцена оттого лишь, что этого потребовал… Ротшильд. А что теперь? Когда «Ротшильды» держат в своих липких лапах правящие антиэлиты всего мира, включая нашу? Держат тем, что все их капиталы, добытые, само собой, исключительно непосильным трудом на благо своих народов, находятся в банках этих самых «Ротшильдов»… Глядя, как извиваются европейские лидеры, повинуясь вышестоящей указке, требующей новых санкций против России, как они, зная, что санкции эти бумерангом ударят по экономикам их стран, по ним самим, противясь им остатками здравого смысла, всё же покорно голосуют «за», и самый не верящий конспирологии человек убедится в наличии Мирового Правительства, чьи цели противоположны интересам всех без исключения народов.
Чего же ждать от антиэлиты российской? Да и не ждали бы, если бы не Крым! А ещё ведь раньше и осетин защитили от Грузии… Так неужто же своих, русских, и не защитят? Забыли, забыли мечтатели, что русских у нас не защищают уже без малого век (да и прежде-то не так чтобы…). Не учли, что крохотная периферийная Грузия, не имеющая никаких ресурсов, не могла стать причиной для всемирного гевалта, а определённый ритуальный «наезд» с избытком компенсировался взрывом народной любви, столь нужного на фоне проведения в жизнь вредительских законов и грядущих выборов. Не учли, что Крым – это иное территориальное положение, наша морская база, престиж и, наконец, большой «навар» в перспективе. А, впрочем, может, и Крым бы не взяли, когда бы ни скоротечность событий, не давшая просчитать потенциальные «убытки» и «доходы». А как просчитали бы, как снеслись бы с «Ротшильдами» (и те-то в этой горячке промедлили на все рычаги разом надавить), так и устранились?
А после в эйфории этой и сказалась та самая пресловутая Крымская Речь, послужившая детонатором для оккупированного русского Юго-Запада. А когда спохватились, что наговорили лишнего, уже и поздно было, заполыхало зарево, уверовали желавшие верить Долгожданному Слову и никаких намёков, идущих вразрез ему, уже не слышали, не видели. И сомневающихся клеймили, не допуская сомнений. И в заверти этой лишь немногие головы трезвы остались. Как тот Батюшка из бывших десантников, что наперекор политике своего церковного начальства благословлял ополченцев сражаться за Родину, а о Крымском Триумфаторе высказался, уравняв его, словно пророча, со свергнутым Киевским Вором: «Висеть бы им на одной верёвке, только на разных её концах…» Что ж, законная участь всех предателей, тем более, тех, чья измена оплачивается такой великой кровью…
То, что его предали, Город поймёт после двух месяцев бомбёжек, и тогда, умирающий, полуразрушенный, истекающий кровью, начнёт проклинать вслед за Киевским Потрошителем и его бандами столь прославляемого недавно Крымского Триумфатора, пообещавшего, обнадёжившего и бросившего на растерзание вандалам…
На этих кадрах этого ещё ничто не предвещает… Лица, лица, лица… Многие из них до боли знакомы – всё это соседи, друзья, знакомые… Кого-то из них уже нет в живых, кто-то пропал, другие бежали на «большую землю», третьи остались на родных руинах, а четвёртые продолжают битву. И среди них он – Олег Тарусевич. Эту любительскую запись своего погибшего друга Борьки Головатого он теперь всегда возит с собой, потому что в ней – вся его память, всё, что он любил и за что сражается…
На экране появились трое: стройная русоволосая красавица в светлом платье, скрюченная в инвалидном кресле девушка, в крохотной, слабой руке сжимающая маленький российский флаг, пожилая женщина в огромных очках и с длинной тростью. На этом капитан Тарусевич всегда выключал запись, не имея сил смотреть дальше, и ещё долго сидел в каком-то оцепенении, разговаривая со своей памятью, ища ненаходимые ответы на сжигавшие сердце вопросы.
Глава 1.
На чёрной от копоти стене явственно различался отпечаток чьей-то ладони. Ладонь какое-то время держалась, а затем поползла, поползла вниз, и след оборвался вместе с чьей-то задохнувшейся в ядовитом дыму жизнью…
Когда осенью на майдане начала «скакать», Роберт не обратил на это ровным счётом никакого внимания. Начинающий юрист, только что закончивший институт, он был занят совсем другими проблемами. Да нешто всякий раз оборачиваться, когда на этом дебильном киевском танцполе очередная дискотека развернётся? Сколько их уже за последние годы было! «Геть» да «геть»! Да не быдло мы, да не козлы. Насчёт быдла и козлов можно, конечно, дебатировать, а, вот, что бездельники стопудовые – факт. Ибо только бездельник может позволить себе роскошь месяцами скакать в центре любимой столицы, питаясь халявными печенюшками. Впрочем, самые большие мастера по части скакания – это именно козлы, так что зря открестились от родства.
В феврале месяце казавшиеся ритуальными «скачки» вдруг обернулись кровью и беспределом. Будучи человеком дотошным и натасканным на поиск фактов, Роберт внимательно разбирал, что же всё-таки происходило в сатанеющей столице. А происходило нечто похабное и жуткое.
Сперва сукин сын Янок не изволил дать оружия парням из «Беркута». У Роберта в «Беркуте» приятель хороший был, Пашка, приезжал потом, уже уволясь, рассказывал, трясясь от негодования, как кинули их с дубинками – считай безоружных – против молодчиков с «коктейлями Молотова», битами и прочим добром, как те заживо жгли их, а им и ответить было нечем. Даже водомётов не дали – как же! Це ж дети, помэрзнут на февральской холодрыге!
Оружие лишь в последний день применять дозволили – да поздно! Уже и те оружием бряцали! И, презрев договорённости с властью, пошли толпой бить небольшой митинг «регионалов» (старичков и старух так отходили битами, что добро б всем выжить), а затем – палить офис правящей партии. Нет, само собой, большей части этой партии, начиная с Янока, место на нарах – в этом правовед Роберт был убеждён. Но прийти, забить до смерти вышедшего из офиса клерка, а затем спалить здание с ещё двумя сотрудниками, находящимися внутри… Даже и не верилось. Но Пашка настаивал, что было именно так.
С этого-то и покатило колесо по человечьему насту, позвонками похрустывая… Стычка, другая… И, вот, снайперы заработали – чьи, откуда? Леший знает! Пашка божился, что не их. Да и как могли быть их, коли и по ним же стреляли, как и по той стороне? Из одной точки по обеим сторонам, провоцируя! И ведь ни одна пуля не попала в какого-нибудь бешеного молодчика из «ПСов» или «Свободовцев». Так, в массовку, ни шиша не понимающую… В девчонку-медсестру, прибежавшую на помощь раненому, которой горло пробило насквозь…
Раненые… Это, вообще, отдельная страшная страница. Если раненый «беркутовец» оставался «на территории противника», был утащен туда, «взят в плен» – пиши «пропало». Врагам поборники демократических ценностей помощи не оказывают. А иные ещё и истязают беспомощную жертву. Одному пленнику выкололи глаз прямо перед камерой, и никто, ничто не дрогнуло в опьяневшей от крови и вседозволенности стае.
В конце концов, раненых затащили в Дом Профсоюзов, а затем этот дом… загорелся… Случайно или нет, вряд ли узнать когда. И сколько людей там погибло – не узнать также. Пашка знал точно, что именно в этом «крематории» нашёл свою смерть его сослуживец.
Кстати, о крематориях. Это раньше захватывали телефоны и телеграфы. Новые революционеры захватили крематорий. И тот работал сутками на фоне бушующего безудержного грабежа, насилия, беспредела.
Янока, конечно, в тот момент в Киеве уже не было. Этот похититель меховых шапок в общественных сортирах, избранный украинским народом своим президентом, благополучно бежал, пока истекающий кровью «Беркут» ещё защищал легитимность его презираемой без исключения всеми власти…
После победы Майдана Пашка не раздумывал – прихватил табельное оружие и, пока суть да дело, рванул в Крым, зная наперёд, что этот анклав не позволит прийти восторжествовавшей в Киеве мега-мрази на свою землю.
Пашка оказался прав. В Крыму и прежде-то не давали «баловать», даже флот НАТОвский на свою территорию не пустили, а уж «поезда дружбы» от товарищей Яроша, Фарион, Тягнибока и прочих, звавших омыть русской кровью украинскую незалежность, и подавно.
Народ в Крыму поднялся быстро и массово. Заполнилась площадь Севастополя русскими флагами, и раздалось забытое, столько времени к забвению принуждаемое, а с той поры рефреном звучавшее, в единый глас народный слившееся: «Мы – Русские!» И, кажется, замерло всё в ожидании – чья переважит, да какой кровью станет, да в какой срок?..
А прошло всё неожиданно быстро, без сучка и задоринки. Референдум, возвращение в Россию, торжественная встреча в Кремле и ставшая знаменитой речь российского президента… Пашка звонил из Севастополя счастливый – он теперь российский гражданин!
Ветер крымской весны весь Юго-Восток овеял надеждой, разбудил, взбудоражил. Если Крым смог, то почему бы и нам не сделать то же? Не с этим же бандеровским отребьем жить! Хватит, нажились в чужой стране, пора и «до дому, до хаты» – в Россию! И хотя не сказать, чтобы прежде всем виделась современная Россия с её властителями такой уж прекрасной страной, но сейчас ничего не хотелось вспоминать, что бы марало светлый лик замаячившей совсем рядом Родины, которая, кажется, сама протянула руки, позвала: бегите, дети, а я помогу, укрою…
Роберт, не без основания ругаемый друзьями и домочадцами «сухарём», хотя и разделял общее желание, но не выходя из своей колеи. Несколько раз он был, конечно, на Куликовом поле, но… Душа его ещё не созрела для борьбы, и борьба эта казалась ему какой-то ненастоящей. В сущности, какие у неё перспективы? Одно дело, когда в Севастополе на площади весь город собрался, а в Одессе на Куликовом – сколько? Большинство горожан продолжало жить своей повседневной жизнью и тоже не было готово к борьбе. Сходить на референдум, проголосовать и вступить в состав России – пожалуй. Но бороться?
Осознавая это, Роберт смотрел на активистов Куликова, как на прекрасных чудаков, упорство и вера которых восхищают, но которые ничего не смогут добиться. Потому и не стоял с ними Роберт в одном строю, а сидел в своей конторе, исправно оформляя юридические документы…
Как же он жалел об этом сейчас! Как же жалел! Вечером второго мая он, как обычно, завершил рабочий день, краем глаза успел увидеть в новостях, что футбольные фанаты подрались с кем-то из «куликовцев», но не придал этому значения (фанаты всегда дерутся), потому что спешил на свидание с Яной. Их отношения тянулись уже несколько месяцев и, хотя давно уже стали близкими, не налагали никаких обязательств на обоих. Роберта это вполне устраивало, так как он ещё не чувствовал себя готовым к созданию семьи, не питал ни к кому серьёзных чувств, а с весёлой и беспечной Яной ему просто нравилось проводить время.
Ту проклятую ночь он провёл именно с ней. Вино, лёгкий ужин, жаркие янины ласки… Он даже телефон отключил, чтобы никто не испортил приятного вечера и ночи. А едва включил утром, как раздался звонок, и обрывающийся голос матери сообщил, что «бандеровцы» разгромили лагерь на Куликовом Поле и сожгли Дом Профсоюзов вместе с пытавшимися укрыться в нём от расправы активистами. И что тётя Сима с дядей Лёшей до сих пор не могут найти Юру и Иру…
Юра Лоскутов, музыкант и поэт, был лучшим другом Роберта со школы. Юрка, один из последних романтиков, веривших, что мир можно изменить Словом, стихами, конечно, был одним из самых горячих активистов Куликова с первых дней. Он почти безотлучно находился там, рисовал плакаты, сочинял песни, горел, как факел, освещая всё и вся вокруг себя. Его нельзя было не любить, им нельзя было не восхищаться. Он не жил, он парил над землёй, витал в одному ему ведомых горних высотах. А ещё он по-детски трогательно любил Россию, и своих родителей, и друзей, и Иру… Ира была, наверное, самой прекрасной девушкой, какую когда-либо видел Роберт. Чистый ангел двадцати двух лет с сияющими звёздами-глазами и чудной улыбкой. Они с Юркой, казалось, были рождены друг для друга. Две половинки, два лебедя высокого полёта…
Ну и забава у людей
Убить двух белых лебедей…
Эта строчка Высоцкого пребольно резанула сердце уже в первый миг, но Роберт ещё надеялся на лучшее, ещё не верил в возможность такого ужаса. Мать успела сказать, что погибло не меньше полусотни человек, а дальше он уже не слушал, а мчался к Куликову – искать, спасать, помогать…
Но спасать было уже некого… Обугленный остов Дома Профсоюзов смотрел жутко, но ещё жутче были глаза людей, чьих родных поглотила эта гигантская печь… Им ещё предстояло тяжкое испытание – опознать в изуродованных телах тех, с кем ещё вчера они прощались, не подозревая, что это – в последний раз.
Одна за другой всплывали из рассказов страшные подробности. Как футбольные «ультрас» из Днепропетровска, вотчины выродка Бени, были спровоцированы на драку молодчиками, нацепившими георгиевские ленточки, но не снявшими красных шевронов «ПСов», как последние завели их в лагерь, как начался погром, в который, уже не скрываясь, влились фашисты. Как забивали битами тех, кто не успевал убежать, как жгли палаточный городок, как спасающиеся от избиения закрылись в Доме Профсоюзов. Как убийцы ворвались и туда, крушили топорами двери, за которыми искали спасения жертвы, а потом убивали их, экономя патроны. Как распылили какой-то ядовитый газ, а затем закидали Дом бутылками с зажигательной смесью, подожгли и несколько часов не давали подъехать пожарным, а несчастных, бросающихся из окон, добивали на земле…
Так, на земле, был до смерти забит семнадцатилетний студент. Его мать прибежала к горящему дому и умаляла убийц позволить её сыну выйти. В ответ нелюди посмеялись: пусть попробует – получишь калеку. Она получила лишь растерзанное тело…
Когда же пожар окончился, убийцы вошли внутрь, чтобы заснять на камеры мобильных тела своих жертв и ещё поглумиться над ними…
Казалось бы, это – предел кошмару. Но нет, зло не имеет предела. Волна ликования пронеслась от сетевых отморозков до высокопоставленных киевских узурпаторов. Они восхваляли «подвиг патриотов» и потешались над «жареными колорадами», «майским шашлыком».
И милиция арестовывала не убийц, а их уцелевших жертв, которые якобы подожгли себя сами…
Юру и Иру нашли лишь на следующий день. Они, как рассказывали, сидели на полу, обнявшись. Их тела почти не обгорели. Они просто задохнулись в пылающей газовой камере… Какие слова говорил он ей в последние мгновения? Что отвечала она? Только Господь Бог слышал их, принимая чистые лебединые души в свои чертоги.
Они упали вниз вдвоём,
Так и оставшись на седьмом,
На высшем небе счастья…
Однако и это не было последней каплей кошмара, в который обратилась в те дни жизнь Роберта. Просматривая со всей въедливостью юриста многочисленные видеозаписи, выложенные в Сети, он наткнулся на сюжет о девушках, готовивших «коктейли Молотова» для убийц. Вот, они – весёлые, бодрые. Проворно и со знанием дела готовят мучительную смерть для людей, которых никогда не видели, которые ни им, ни кому бы то ни было не сделали ничего дурного. И вдруг среди этих смеющихся лиц промелькнуло… Роберт не поверил своим глазам, отмотал назад, ещё раз, ещё… Но видео упрямо показывало одно и то же лицо – лицо его родной младшей сестры Лили, которая все эти дни была молчалива и угнетена, что приписывалось естественному потрясению от трагедии…
Не помня себя, Роберт бросился в комнату Лили:
– Ты!.. Ты!.. – заревел с порога, захлёбываясь от ярости.
Сестра смотрела на него испуганными, затравленными глазами, вжимаясь в угол кровати.
– Я не хотела… Я не хотела… – залепетала она. – Я же не знала, что так получится… Что Юра с Ирой…
– Заткнись! – завопил Роберт. – Не смей произносить их имён! Юра с Ирой?! А остальные семьдесят человек, которых ты убила?!
– Я не… я не… убивала… – глаза Лили наполнились слезами. – Я только…
– Нет! Это ты! И твои подружки! Вы убили семьдесят человек! Вы… вы… Твари! Нежить!
– Не надо! Перестань! – вскрикнула сестра, заслоняя ладонями уши.
– Сука! Убийца! – докончил свою тираду Роберт. – Будь ты проклята!
При этих словах Лиля сникла всем телом, сползла с кровати и, как тень, скользнула мимо него, вжав голову в плечи, точно боясь, что он ударит её.
Он не ударил, он словно окаменел и не двинулся с места, пока её торопливые шаги и всхлипы не стихли на лестнице, а затем тяжело опустился на её кровать, стиснув руками голову.
Лилька была младше его на восемь лет. Роберт любил её, конечно, но никогда не принимал всерьёз – маленькая сестра, ребёнок и только. А надо было принимать, ещё как надо! Особенно, когда стала она водить дружбу с этим «небыдлом-некозлом» в нацистских татушках. Только сейчас запоздало понялось, что это не дружба никакая была, а втрескалась девчонка по уши в урода. Может, уже и спала с ним… Ей, конечно, только шестнадцать, но в наши дни – дело обычное. Стало быть, всё из-за этого ублюдка. Как там его? Стасик, что ли? Неважно. Окрутил малолетнюю дурёху, попросил пособить – бутылки зажигательные сделать. Понятно, не говорил, что людей жарить собираются – так, оружие самообороны. Разве ж могла дурёха любимому отказать? Разве думала, что делает, и к чему это может привести? Конечно, нет… Млеющая от каждого его слова, просто выполнила просимое.
А ведь он, Роберт, видел и Стасика этого, и как сестра на него смотрит, и не обращал внимания. Считал, что не следует мешаться в чужую личную жизнь, не будучи тем паче сам в ней образчиком. Донемешался… Юрист хренов! Судил-рядил о происходящем с приятелями за кружечкой пивка, да, вон, в Фейсбуке, а собственной сестре положение дел пояснить не судьба была. Мала ещё – зачем ей? Ни разу не поговорил с ней серьёзно, ни разу не поинтересовался всерьёз, что у неё на душе и в мозгах делается. Всё работа, да приятели, да Янка-шалава (почему-то сейчас воспоминание о Яне было особенно неприятным) – нормальный современный деловой человек без «загонов» и «крайностей»: таким видел себя Роберт, таким нравился себе. А сейчас внезапно испытал к этому «нормальному человеку» жгучую ненависть.
Не он ли должен был заботиться о сестре, защищать её, помогать ей? Не он ли должен был стоять плечом к плечу вместе с Юрой и Ирой и, если надо, погибнуть с ними? А он валялся в постели Яны, ни о чём не заботясь. «Нормальный человек», значит? Просто эгоистичная скотина…
И, вот, какое право он имел так говорить с Лилей, будучи сам виновен в том, что с ней случилось, допустив это своим равнодушием? Никакого не имел… Скорей бы уж возвращалась она. Надо будет извиниться и, наконец, поговорить по-человечески. Матери обо всём этом знать, конечно, не надо. Незачем, чтобы ещё и она страдала. И без того намучилась двоих детей поднимать после смерти отца, которого не стало через год после рождения Лильки.
Куда, кстати, интересно, убежала она? Уж не к этому ли своему?.. Или к подружкам? Отчего-то на душе стало неспокойно, и Роберт, отступив от собственного правила «не вмешиваться в жизнь сестры», стал обзванивать всех Лилькиных подруг…
Увы, ни одна из них ничего о ней не знала. Вечером с работы вернулась мать и, глубоко встревоженная исчезновением дочери, начала второй виток звонков с прибавкой больниц и моргов.
Уже чувствуя, что случилось что-то непоправимое, Роберт отправился на поиски сестры. Сжимая в кармане нож (времена-то какие), он обходил двор за двором, улицу за улицей, побывал на вокзале и набережной, но Лильки не было нигде.
Её нашли утром. Повесившейся… В кармане у неё была короткая записка: «Я виновата. Я убийца. Я не могу с этим жить. Простите». Прочитав эти строки, Роберт почувствовал убийцей себя. Безмятежный мир «нормального человека» рухнул окончательно, рассыпался в прах. Он ненавидел себя и не находил себе места. Всё, решительно всё, отторгало его, гнало прочь.
Он не мог находиться дома, где зияла пустотой Лилькина комната, а в ней – её фотографии, плакаты с импортными артистами, мягкие игрушки… В том углу кровати, где сидела она в тот проклятый день, теперь сиротливо жался большой белый медведь, её любимец, которого Роберт выиграл для неё меткой стрельбой в тире. Когда Лильке бывало грустно, она сидела, обхватив его руками, уткнувшись носом в его голову. Роберту казалось, что и теперь она сидит так и смотрит на него затравленными глазами – как в последний раз…
Он сглатывал подкатывавший к горлу ком и спешил уйти. Он не в силах был видеть и убитую горем мать. На счастье из Херсона приехала тётя Клава, её любимая младшая сестра, и взяла на себя заботу о ней.
Роберт не ходил на работу, избегал встреч с приятелями. Эти «нормальные» и «адекватные» люди теперь страшно раздражали его. Им всё нипочём. Лишь бы работа, заработок – лишь бы их не трогали. Тронут! Непременно тронут! Всех… Когда-нибудь…
Случайно завидев на улице Янку (её плещущее через край жизнелюбие и яркий наряд виделись оскорбительными в такие дни), поспешил перейти на другую сторону. Она – спасибо ей – всё поняла правильно, не полезла с утешениями-соболезнованиями. Или, может, просто сторонилась чужого горя, боясь, что оно и её заденет, оберегая свою бесстыжую радость жизни?.. Не так ли, бывало, поступал и он сам?..
Всё гнало его прочь из родного дома, с родных улиц, из родного города… Да и город-то точно иным стал. Прежде шумливый и весёлый, он затих теперь, в испуге ожидая, что же будет дальше. Этим страхом пропитались, кажется, сами стены… Перешёпот: выживших ищут и добивают… Слухи ползут один другого страшнее. А те, что убивали, и сами не вот отваги полны. Слиняли из города тайком. Стасик тот же… Страх, тишина, пустота… С темнотой уже редко кто отваживается выйти из дому, а ведь на дворе май – самая лучшая пора для прогулок, свиданий и прочей прекрасной ерунды, оставшейся в другой жизни. Пуста Потёмкинская лестница, пуста набережная, одиноко взирает на своё детище Дюк, подле которого впервые не резвятся влюблённые парочки. Город в трауре, город пытается понять, как это именно в нём, славящемся своей весёлостью и беспечностью, в 21-м веке, в мирное (казалось бы) время могла случиться новая Хатынь? И как с этим жить? И что делать?
Делать, конечно, ничего не будут… Кроме некоторых единиц, «подполья», которое ничего не изменит. Судьбе Юго-Востока не здесь решаться. Здесь обыватель слишком разнежен, расслаблен. А теперь ещё и запуган до конца своих дней.
Люди, впрочем, каждый день шли и шли к Дому Профсоюзов, несли цветы, фотографии. Выродки по ночам норовили убрать их, даже сожгли крест на могиле одного из убитых: «Спокойно спать будете в России!»… Пришёл на 9-й день после смерти Лильки и Роберт. Долго-долго ходил, узнавая места, виденные на фотографиях и видео. Вот, в этом кабинете отморозок сломал хребет женщине. Её крики слышны были снаружи. Над ними смеялись, записывая на камеры. Одной «самкой колорада» меньше… Роберт уже знал поимённо всех погибших, знал, кем они были и какую смерть приняли. Лица, лица, лица… Он долго стоял на месте, где нашли Юру с Ирой, зажёг большую свечу, положил цветы. Он уже точно знал, что делать дальше. Если прошлая жизнь не позволяет тебе вернуться в неё, а на твоей душе лежит невыносимый груз вины, то единственный способ освободиться – бросить эту самую жизнь на алтарь чего-то, за что не стыдно умереть. Лишь теперь стало осознаваться, что и жить надо только тем, ради чего умереть не стыдно. Всё, что не стоит смерти, и жизни не стоит. Это понимал своей чистой душой Юра. Это понимала Ира. И все, кто погиб здесь, понимали. И пошли до конца…
Матери о своём решении Роберт ничего не сказал, соврав, что, не имея возможности найти новую работу в Одессе, хочет попытать счастье в России. Мать не возражала. Тётя Клава уговорила её погостить у неё в Херсоне, и это было к лучшему. Однако, выговориться всё-таки хотелось. Долго ища, кому бы излить душу, Роберт отправился к Михалычу. Михалыч – старый рыбак, человек простой и грубый, но притом цельный и отличавшийся природным здравомыслием – был другом отца Роберта. Но после его смерти Роберт почти не встречался с ним. А, вот, теперь вдруг вспомнил о нём. Вспомнил, как часто в детстве «ходил» с Михалычем и его ребятишками в море, рыбачил. А потом занёсся… Образованный человек, успешный молодой юрист, которому прочили хорошую карьеру. О чём ему было говорить со старым рыбаком? И, вот, появилось, о чём…
Михалыч жил в крохотной комнатушке старого дома. Кроме железной, похожей на больничную, койки, стула, стола, сбитой собственноручно полки и старого, рассохшегося сундука в ней ничего не было. Но даже здесь всё как будто пропахло рыбой, от духа которой Роберт поморщился.
Старик гостю не удивился:
– Седай, – кивнул на койку, – помянем.
Водку Роберт не любил, но помянуть – дело святое. Впрочем, это и не водка была, а что-то сильно худшее, от чего зарябило в глазах.
– Слабак, – махнул рукой Михалыч. – Отец твой крепше был. О горе вашем знаю. Прости, что не зашёл. Я, сам видишь, как бомж теперь, хоть и с крышей над головой. Сомневался, что тебе и твоей матери будет отрадно мою морду видеть. Рад, что сам пришёл, вспомнил старика.
– Я попрощаться пришёл, – сказал Роберт, уже оправившись от выпитого «зелья».
– Уезжаешь?
– Уезжаю.
– На войну?
– Как вы угадали?
– А я не угадывал. Я отца твоего знал. Мужик был. Хотелось бы, чтобы и ты в него пошёл. А мужику сейчас место на войне. Я бы и сам… кабы не мои годы. А так – разве что Бовочку своего порешить тут, – старик нахмурился. – Знаешь ли, что Бовочка-то, падлюка, в фашисты записался? То-то! У Дома Профсоюзов был, да. С другой стороны! Я как узнал, сказал: «Я тебя, сучонка, породил, я тебя и пришибу, чтобы имя моё не позорил. Пусть оно и не славное, но честное!»
Роберт только рот открыл, не веря своим ушам. Бовочку, старшего сына Михалыча, он помнил хорошим, бойким парнем. Именно он, Бовочка, учил когда-то Роберта и другую «малышню» плавать. А теперь?..
– Правосек …, – аттестовал рыбак сына непечатным словом, качая заросшей седым волосом головой. – Перед людьми стыдно, веришь? Что от моего семени этакая гадина выросла.
– Что же с нами случилось, Иван Михалыч? – тихо спросил Роберт. – Моя сестра готовила для них «зажигалки», ваш сын бросал их в здания… Мой лучший друг с невестой погибли там. А ведь мы же росли вместе, мы все были – одно! Мы учились в одних школах, говорили на одном языке, в наших жилах течёт одна кровь, а теперь они убивают нас?!