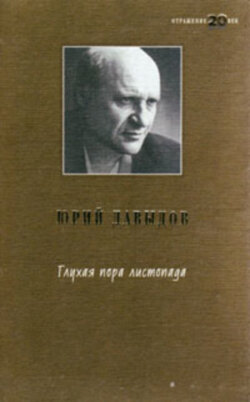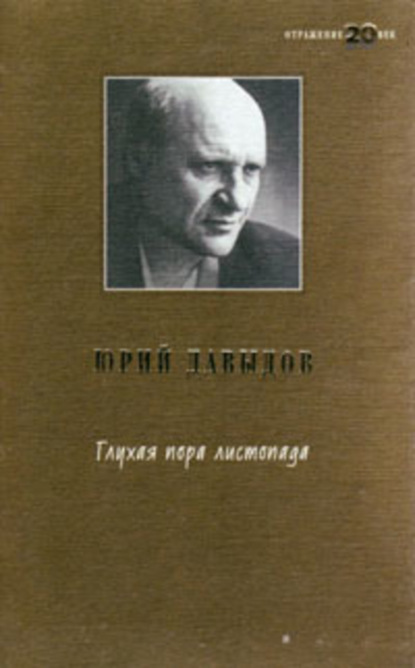В предсмертной тюремной записке прочел: «Fuimus…» («Мы были…»)
И еще прочел: «Fatum…» («Таинственные силы действительности…»)
Из этой записки, как из зернышка, пророс этот роман.
Ю. Давыдов
Книга 1
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Спальня не прибрана, в столовой киснут объедки, на полу клозета клочок дамской записки: «Милый Гошенька…» Черт знает что! У тебя каждый нервик пляшет, ты страшное пережил, а тут Георгий Порфирьевич, «милый Гошенька», кутежи закатывает.
Яблонский только что вернулся в Петербург. Ехал в нервом классе, хорошо и покойно ехал, однако нет, не отдохнул. Какая-то странная потяготливость. Будто после болезни. Будто давно не мылся, не переменял белья.
Он встал у окна, вяло скрестил руки. Ну что ж, в Харькове оплачен крупный вексель. Очень крупный вексель, милостивые государи. И никакого удовлетворения. Напротив, теперь, когда все начато, уже мерещится проигрыш. Тут не капитал просадишь, а жизнью разочтешься.
В окне было нищенское небо, невнятный снег. Внизу, на дворе, дымились помои. Шум улиц доносился глухо. Яблонский прежде любил Петербург, сейчас подумал: «Проклятый город».
Он подошел к столу, брезгливо оглядел остатки пиршества. Отыскал чистую чашку, плеснул в нее водки. Выпил, морщась и вздрагивая. Он еще не завтракал. Но и водка не пробудила аппетита.
Нынче свидание с главным инспектором секретной полиции. Важность встречи Яблонский сознавал. Следовало о многом поразмыслить. А мысли были сбивчивые, пустячные, и он все ходил, слонялся из угла в угол.
2
Кабинет не домашний, не служебный – так, проходная комната. Повсюду вороха бумаг, даже на подоконниках. И высокие шкафы без всякого выражения, анонимные. Несколько дверей, за которыми тишина – ни шагов, ни голосов. И посредине, за письменным столом, крупный, атлетический мужчина в сюртучном костюме, брюки новомодные, с лампасами, узкие. Крупный, плечистый мужчина, из тех, у кого похмельно не трещит голова и поясницу не ломит после бессонной ночи.
В ребячестве, кадетом Георгий Порфирьевич страдал: с этой вот смешной фамилией далеко ль пойдешь?! Су-дей-кин. Учитель истории трунил: «Судеек, брат, в черных волостях выбирали. Приказчиков, воевод не было, судеек-то и набирали из мужиков». Кадет не верил. Он знал: Судейкины дворянской крови, смоленские дворяне Судейкины. Но фамилия что тавро: лапотные, стало быть, дворяне. И мучился: с такой-то фамилией далеко ль пойдешь?
Однако пошел. Оттого, мол, язвили некоторые, что женился на дочери жандармского полковника. Это верно – женился на Верочке Гусевой, полковничьей дочке. Но ведь, ей-ей, совсем не тесть главная пружина. Нет, он сам, Судейкин, сумел глянуть на розыскное дело широко, не боясь риска. В Киеве ка-акие сюрпризы начальству! И взлет: в Санкт-Петербург пригласили, сперва во главе столичного сыска поставили, а после – бери выше – на место особое, штатным расписанием не указанное, особое и единственное: инспектором секретной государственной полиции.
Правду сказать, поздновато хватились, господа. Средь бела дня убили императора Александра Николаевича, в столице, на виду. Да-с, а лошади-то целы. Судейкин улыбнулся.
(При мысли о роковом покушении на Александра Второго ему частенько вспоминался знакомый полковник Сокол. Теперь он в Архангельской губернии, а тогда сидел в Екатеринбурге. В воскресенье, первого марта, держал Сокол, как водится, банчок в Дворянском собрании. Вдруг телеграмма: одна бомба разворотила экипаж, другая – царя. Натурально, все цепенеют, гробовое молчание. А тут-то и разносится глас жандармского начальника: «Слава богу, лошади целы!»)
Время шло к одиннадцати. Судейкин не прикасался к бумагам. На круглом лице его, в светлых, с искорками глазах, прячущихся под широким нависшим лбом, во всей фигуре выражалось напряженное ожидание.
В одиннадцать ее покажут высшему начальству. Но вот вопрос: тебя пригласят ли, Георгий Порфирьекич? Толстой будет, Плеве будет, Оржевский. А тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Ведь прямая твоя заслуга. Разумеется, Яблонского тоже. Однако рассудить, так и Яблонский – твоя заслуга. Нет, это уж тут сразу высветится: пренебрегают иль не пренебрегают, ценят иль не ценят?
Отворилась одна из дверей, вошел Судовский. Рослый и тоже, как инспектор, крупный, племянник Судейкина, правая его рука – Николай Судовский.
Смущенно, как нехотя, взглянул на дядюшку.
– Ну, Коко? – спросил Судейкин.
Коко потупился.
– Та-а-ак, – протянул Судейкин, багровея. – Ну хорошо, хорошо же…
3
Никаких ковров, никаких украшений. Ковры – гнездилище пыли; украшения отвлекают мысль. Служебное помещение должно быть чистым, как щека из-под бритвы.
Сухопарый сановник, бледнолицый, с поджатыми губами, вышагивал мерно. Его штиблеты тонко поскрипывали на паркетных половицах, где ни единой пылинки.
Никогда не мерцал он канительным серебром жандармских эполет. Никогда победительно не брякал серебром жандармских шпор. Никто не помогал ему как «родному человечку». Уроженец Калужской губернии, «из обер-офицерских детей», он всего достиг сам. Он слушал курс юриспруденции в Московском университете. Его плечи согнулись в прокурорских камерах Тулы и Вологды, Варшавы и Санкт-Петербурга. Ныне он действительный статский советник. Он кавалер орденов святой Анны, святого Владимира, святого Станислава. Почти два года назад именным высочайшим указом ему всемилостивейше повелели быть директором департамента государственной полиции. Видит бог, его трудолюбие неиссякаемо, его служение безупречно, его принципы неколебимы. И вот благодарность: «Да, отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения будут другими».
Плеве, сухопарый, бледнолицый, с поджатыми губами, мерно вышагивал. Его штиблеты тонко поскрипывали.
С четверть часа назад в кабинет скользнул секретарь министра и доверительно нашептал о вчерашнем разговоре его сиятельства с государем императором.
Толстой ездил в Гатчину – очередной доклад. Доложив, заговорил о близости лета, о настоятельно необходимом отдохновении в рязанском монрепо, просил разрешить докладывать по министерству внутренних дел директору департамента фон Плеве. Тогда-то, соглашаясь, государь и произнес: «Да, у него отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения у него будут другими».
И это сказано именно теперь! Теперь, после ареста той, кого император назвал «ужаснейшей женщиной». Это сказано теперь, когда партия террористов, можно утверждать, разгромлена. Вот награда. Однако директор Плеве готов побиться об заклад, что подобные мысли внушены государю. Исподволь, неприметно внушены. И внушены… Он на мгновенье останавливается. Его указательный палец как бы плывет в воздухе. Засим решительно отсекает нечто незримое. Исключено! Он, Плеве, слава богу, пользуется благорасположением обер-прокурора Святейшего синода. Нет, не Константин Петрович Победоносцев сему причиною.
Пальцы барабанными палочками постукивают по сукну. Плеве покачивается на носках. Ему это приятно, в этом как бы предвестие ровности мыслей. А ровность мыслей очень нужна ему.
Вячеслав Константинович по гроб не простит генералу Оржевскому «тухлую рыбу»! Генерал в обществе позволил грубый, гадкий намек: дескать, директор полиции послушен любому веянию свыше – «тухлая рыба по течению плывет». Но командир корпуса жандармов недруг открытый. А государь не лишен житейской сметки и хулу из уст Оржевского вряд ли примет в расчет.
Длинные пальцы замирают на зеленом сукне. Они словно бы не принадлежат действительному статскому советнику. Его анемичные губы сжимаются еще плотнее, бледное лицо обретает цементный оттенок.
Итак?
Он резюмирует определенно и коротко. Он убежден, он твердо знает, чья это повадка. Вячеслав Константинович чувствует что-то вроде удовлетворения. Его удовлетворяет собственная логичность.
Часы показывают без пяти одиннадцать. Пора. Слабым движением правой руки он касается висков и выходит из голой комнаты – невозмутимый, прямой, безукоризненный.
4
В угрюмых, со старческой желтизною глазах графа Толстого Дмитрия Андреевича дрогнули изумление и восторг: боже мой, как она похожа! И давным-давно позабытое: он целует руку прелестной женщине, и прелестная женщина улыбается ему тихо и радостно; женихом и невестой выходят они из экипажа, летний ветер колышет страусовое перо на ее шляпке; и другое лицо ее – отрешенное, замкнутое – видел он в последний раз, перед ее отъездом за границу; она уезжала, обвенчавшись с голландским дипломатом.
«Возьмите стул!» – сухо, как отщелкнув, приказал Плеве, и Толстой вздрогнул, будто приказание относилось к нему. Он поймал в себе какое-то мгновенное удовольствие оттого, что Фигнер не успела протянуть руки, как стул ей подал хозяин роскошного кабинета бонтонный генерал Оржевский.
Старик, сжимая подлокотники кресла, не спускал глаз с Фигнер; тронув грязно-серые бакенбарды, произнес мягко, влажно:
– Вот уж не предполагал… У вас, право, такой скромный вид.
– О да, ваше сиятельство, – желчно поежился Плеве. – А между тем среди молодежи только и слышно: Фигнер, Фигнер, Фигнер. – Он с ледяной пристальностью взглянул на арестованную: – И вам это льстило?
Он ожидал любой дерзости, но не молчаливого презрения: «Господи, какое ничтожество!» Она повела плечом и вопросительно посмотрела на генерала Оржевского, на графа Толстого.
Плеве смешался. Так никто еще не унижал его. Такого не замечал он ни в мерцающем казнящем взгляде Желябова, ни в бесконечно спокойном взоре Кибальчича, ни в задумчивых глазах Перовской. «Господи, какое ничтожество!» И этот призыв к Оржевскому, к Толстому, несомненно, понятый обоими.
Плеве прислонился к проему меж окнами, точно бы отстраняясь от всех. Он проглотил слюну, опять, но уже несколько искоса, глянул на Фигнер и тотчас подобрался, словно бы безошибочно что-то угадал в ней, что-то очень затаенное.
И Фигнер почувствовала в ту минуту, что Плеве каким-то подлым чутьем вызнал то, что она скрывала и от товарищей, и от самой себя.
– Но теперь, – медленно проговорил Плеве, – но теперь вы здесь. И представьте… – Он сделал нарочитую, для Фигнер мучительную, паузу. – И представьте – рады. Да, да, очень вы рады! Ведь это конец. А вы устали. И вы рады. В сущности, вы рады. Не так ли?
Она не ответила. Она молчала, сознавая, что своим молчанием длит торжество господина Плеве. Но тут генерал Оржевский пришел ей на помощь.
Генерал рокочет приятным свежим баритоном. Фигнер еще не совсем понимает, что он такое говорит, о чем, но она, право, признательна, и оба они в это мгновение испытывают мимолетное ощущение сообщества.
А говорил генерал Оржевский, командир корпуса жандармов, вот о чем. Он, ежели изволите знать, никак не может понять нынешних радикалов. Ведь признать следует полное поражение так называемой «Народной воли». Он был бы благодарен получить разъяснения на сей счет.
– Понимаю, генерал, ваше любопытство, – улыбнулась Фигнер. – Но это долгий разговор. У меня, надеюсь, еще будет время. Надеюсь, мне дадут перо и бумагу, я изложу наши взгляды письменно, а потом и устно на суде. Не так ли?
– О да, да, – отозвался Оржевский, изгибая красивые темные брови. – Я прочту, непременно прочту. Эт-то очень интересно.
– Ой ли, Петр Васильевич? – ворчливо отнесся к Оржевскому министр Толстой. – Ариозо Бакунина, старая песня. – Он пожевал губу и продолжал слабым, с хрипотцой, но внятным голосом: – У вас, сударыня, что же? У вас политические убийства во главе угла. И… и из-за угла. Пора бы, сдается, уразуметь: монарха сменяет монарх. Вот так-то! А теперь я вам конфиденциально… Цари, конечно, создали Россию, но они создали ее нашими руками, дворянскими. А вы-то полагаете, что убиение царствующей особы сокрушит государственный порядок, а того не примете в расчет, что великая Россия создана нашими руками, а эти вот руки… – Он поднял ладони кверху, и Вера Николаевна чуть усмехнулась, глядя на дряблую кожу в чернильных вздутых жилах.
Граф Дмитрий Андреевич откинулся в кресле. Плеве сделал какое-то движение, должно быть намереваясь встрять в разговор, но Толстой опять заговорил.
Голос у него переменился. Не добродушная воркотня слышалась, звучало что-то вкрадчивое и настороженное, а вместе с тем и язвительное, и так же вкрадчиво и настороженно смотрели теперь его угрюмые, с желтизною глаза.
– А вот докладывают, и меня будто решили устранить, то есть убить, стало быть. Наслышаны? А?
Фигнер отрицательно покачала головой, Толстой точно бы обрадовался:
– Хе-хе, не слышали? Ну-с, чего уж там, если и слышали, так разве скажете! А нам-то, здесь-то, все, сударыня, известно. Из Киева едет нигилист! Из Киева! – повторил он, словно в том, откуда едет нигилист, крылось что-то важное. Толстой оглянулся на Оржевского, генерал был непроницаем. – Да-с, – продолжал министр, – едет некий злодей, а при нем отравленные папиросы.
– Какие папиросы? Зачем? – изумилась Фигнер.
Граф Дмитрий Андреевич хитро прищурился.
– Зачем? А в том и штука – «зачем». Все известно, все известно, сударыня! А дадут вот эти самые папиросы моему кучеру. Тот, пентюх, выкурит и одуреет, а я, худого не подозревая, в экипаж, а тут-то и есть фатальный момент: нападут с бомбой. Вот-с зачем. – И Толстой укоризненно, строго, сожалеючи покивал головой.
«Да он из ума выжил», – подумала Вера Николаевна, и не смешно ей сделалось, но жутко, нехорошо. А министр вздохнул, пожевал губу и добавил без связи с предыдущим:
– Жаль, нет времени, а то я убедил бы вас. Право, убедил, и вы отказались бы от ваших пагубных воззрений.
И вот тут-то она улыбнулась, молодо улыбнулась и дерзко:
– И я жалею, граф, очень жалею, а то я обратила бы вас в народовольца.
Оржевский прыснул, Плеве просыпал сухой смешок. Толстой сокрушенно осклабился.
5
Фигнер вели коридорами, длинными, как делопроизводство. Канцеляристы тараканьей побежкой выюркивали из дверей. Фигнер не задерживала взгляда на чиновниках. Шла мимо, шла быстро. Но вот что примечательно: «ужасная женщина» с бледным, отрешенным лицом оставляла на всех этих мятых, как нечистый платок, душах удивительный, ни с чем не сравнимый мягкий и вместе сильный отсвет. И хотя канцелярский люд не догадывался, понять не умел, что же это такое, но он догадывался и сознавал, что этот отсвет и эта вот минута будут ему долго памятными.
Фигнер не замечала чиновников, не слышала почтительного шепота, приглушенных возгласов. Ее поглотило то неотчетливое ощущение, какое испытывают многие политические заключенные после беседы с высшим начальством. Конечно, приятно, что она так ловко дала плюху министру. Но проницательность Плеве, проницательность сухопарого сановника раздражала ее и тревожила, и ей казалось, что она допустила оплошность, в чем-то промахнулась, позволила заглянуть в душу. И ей все еще звучал медленный, лишенный модуляций, черствый дискант: «А вы рады! Это конец, вы и рады…»
Давно уж меркло все. После казней на Семеновском плацу – разгром за разгромом. С неумолимой последовательностью. От этого можно было рехнуться. Из старых членов Исполнительного комитета остались двое: Тихомиров и Фигнер.
Тихомиров? Она любила его и теперь любит. Она не сочла его изменником, трусом. Им овладела болезнь – шпиономания. А Катя умоляла спастись за границей. Они уехали. Тихомиров не хотел оставаться в России; Фигнер не могла оставить Россию. Искала новых людей, соединяла тонкие, спутанные, оборванные нити прежних связей. И при этом сознавала близость «последнего дня Помпеи». Сознавая, твердила: «Иди и гибни…» Но вина, нравственная вина за участь других мучила непрестанно. А на людях она казалась неунывающей, бодрой, энергической «нашей Верой».
В Харькове встретила Сергея Дегаева. Это был старый товарищ. Его знали Желябов, Перовская. Бывший артиллерийский офицер, народоволец, участник подкопа на Малой Садовой, где заложили мину, чтоб взорвать царя. Фигнер ничего не скрывала от Сергея. Он принял се планы, поехал в Одессу, в Николаев, привлек офицеров, поставил типографию. А месяц спустя провалился. Вместе с типографами. Мрак натекал, густел. «Скоро ль твой конец? Покоя…» Бог не выдал, свинья не съела: нежданно-негаданно Дегаев опять появился в Харькове. Он был измучен, у него тряслись руки. Ах, милый ты мой, дорогой ты мой товарищ! Сергей Дегаев рассказывал: «Я назвался киевским. Везите, говорю, в Киев, там откроюсь. Они не соглашались, я упорствовал. Наконец повезли. Едем пустырем… Знаете, перед вокзалом? Едем, уже темнело, никого. Я выхватил из кармана горсть табаку и – в глаза им, в глаза. Пролетка летит, я прыгаю. Стреляли, ничего – ушел. Ушел, и вот видите…» – «Табаком? – спросила она. – Да ведь вы не курите?» – «Не курю, – сказал Дегаев, – но загодя в тюрьме припас». И они рассмеялись.
Сергей Дегаев утверждал: «В Одессе кто-то выдает, предатель и очень осведомленный, из нелегальных». Нет ли, спросил, слежки за нею здесь, в Харькове. «Нет, – сказала Фигнер, – тут безопасно, никто не знает». Он повторил: «Нет? Вы уверены?» – «Уверена. – И усмехнулась: – Вот разве на Меркулова нарвусь».
Дегаев прихмурился. Иуда, будь ты проклят, Васька Меркулов! Тоже участник подкопа на Малой Садовой, надежным казался, из рабочих. А в тюрьме передался Судейкину, кого знал, тех и продал. Теперь шныряет в Одессе, вынюхивает прежних друзяков-рабочих, а судейкинские гончие – по пятам. Меркулов… Да где ж и Судейкину догадаться послать Ваську в Харьков, чтобы Веру-то Николаевну опознать? Полноте!
Однако именно в Харькове, именно Меркулов. И вот он – конец. Одним утешься – не было в тот день Дегаева, уцелел Сергей…
Ее вели длинными коридорами. Чиновники выюркивали глазеть на нее. Впереди качался жандарм. Широченная спина, по плечу елозит оголенная шашка.
Коридоры министерств длинны чрезмерно. В департаменте государственной полиции они всегда бесконечны. Лишь очутившись в камере, вдруг жалеешь странной жалостью, что коридоры пройдены. И пройдены, чудится, мгновенно.
Но покамест – коридоры. Не двери распахиваются, не двери затворяются, не переход сменяется переходом. Нет, будто отламываются пласты изжитого. Счет годам невелик, ей тридцать первый. Да суть-то, должно быть, в топографии местности, по которой пролегла твоя дорога.
Минуты есть, неуследимые отрезки времени кристаллизации души. Были у нее такие минуты. Одна отлилась нравственным постулатом: нерасторжимость слова и дела. Другая обозначилась мыслью, что великие поворотные решения человек должен принимать для себя сам.
Дворянский дом полной чашей, подблюдные песни, милая няня, Казанский институт благородных девиц и первый бал, неудачное замужество, завершившееся разводом. Увлечение наукой, годы в Швейцарии. И новый взгляд, брошенный на Россию. «Внезапно» обнаруживается невозможность жить без сопротивления тому, что черно. Невозможность жить, не меньше. Ничего не остается, кроме общности личной судьбы с судьбою русской революции. В этом «ничего не остается» – ничего жертвенного. Есть дело, слитое со словом. И значит, радость и полнота, полнота и честность существования, покуда оно длится. Пусть краткого, но твоего существования. Тут ни на грош показного. Все неостановимо, как дыхание. Но и оттенок аскетизма, схима: печать поколения.
Ей тридцать первый. Захлопываются двери. Не здешние, не департаментские – двери прожитого: динамитная ворожба то в Одессе, то в Петербурге; знакомства с моряками и артиллеристами, когда вслед за Желябовым создавала она военную организацию «Народной воли»; ночь на первое марта восемьдесят первого года, когда у нее на квартире у Вознесенского моста, в ярком беспощадном круге от лампы, в круге белых лиц и белых рук было ее лицо, были ее руки, собиравшие части метательных снарядов… И уже после казни царя, но еще до казни пятерых, Перовская пришла к ней. «Верочка, можно у тебя ночевать?» – «Как ты это спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?!» – «Я спрашиваю потому, что, если придут и найдут меня, тебя повесят». – «С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять…»
Захлопывались двери в бесконечных коридорах департамента государственной полиции. На плече жандарма елозила оголенная шашка.
6
А внизу, глубоко, на узком мощеном дворе, зацокали лошади, внизу, на дворе, покатился к воротам экипаж.
Недалеко дом: Большая Морская, одиннадцать. Софья Дмитриевна ждет ко второму завтраку. Господи, сколько уж лет супружества с этой женщиной, невзрачной, неумной, но благодушной и преданной. Во времена оны дядюшка, царствие небесное, отговорил племянника Митеньку от брака с бесприданницей Языковой. Рожденная Бибикова стала графиней Толстой, принесла графу Дмитрию немалые земли. А бесприданницу взял голландский дипломат, и никогда уж больше не видел ее Дмитрий Андреевич. Не видел и не вспоминал, признаться. До нынешнего дня не вспоминал. И вот эта Фигнер. Та же грация, та же летящая походка, тот же поворот головы. Господи, как они похожи…
Теперь, в экипаже, он был немножко раздосадован. Эка его, однако, разобрало. А он слывет угрюмым, необщительным. Хе-хе, необщительным… У него есть всегдашние собеседники: латинские классики. Он был бы счастлив запереться дома и никого не принимать. У него есть латинские классики, обожаемый сын Глебушка, единственная любовь и привязанность. А многие – он слышал, слышал – в злобе своей почитают Глебушку форменным кретином.
Ах, запереться бы в кабинете, в тишине и никого не принимать, не видеть, не слышать. Двадцать лет тому… Нет, еще раньше: то-то было наслаждение в архивных разысканиях, в изучении, пристальном и пристрастном, отношений Рима и России, католицизма и православия, как иезуиты гнездились на Руси. А потом писать настоящий ученый труд. Два тома, изданных поначалу в Париже.
Ничего так не ненавидел граф Дмитрий Андреевич, как папство. Ватикан виделся ему первейшим врагом истинной России. Теперь еще один враг. Новый враг страшнее прежнего: социализм, учение бедоносное и злокозненное.
О революции он не писал и не напишет. Время, оставляя желания, отбирает силы. Силы на исходе, мало, слишком мало земных дней. Да и те могут пресечь нигилисты. Проклиная иезуитизм, поневоле вздохнешь: вот у кого была превосходная осведомительная служба. Не чета нашей… Да, иезуиты действовали в этом смысле превосходно, не нашим чета…
Граф почувствовал легкое головокружение, прикрыв глаза, перекрестился. Он был мнителен. Легкое головокружение, и тотчас мысль о близости смерти. «Увы, о Постум, Постум, мчатся быстрые годы…»
Генералу Оржевскому не терпелось первым огласить гостиные bon mot «ужасной женщины». Какова! Она обратила бы в социалиста и этот замшелый пень. У старика отвисла челюсть… Черт догадал графа болтать об этих отравленных пахитосках. Плеве, конечно, тотчас сообразил, кто выкинул эту штуку.
Выдумка не из блестящих. Впрочем, старикан струхнул. Отказался от ежедневных прогулок по Морской, просил на лето лучших филеров для охраны рязанского имения. Нет, что ни говори, струхнул изрядно, а в этом суть. «Пусть, – говорит, – Оржевский всем заправляет, пусть они лучше в Оржевского стреляют, чем в меня!» Ах, циник, циник!.. Ну ничего, глядишь, обойдется. Десять лет ты, Петр Васильевич, Варшаву гнул – ничего, жив-здоров. Варшава! Вот уж где умеют задавать балы. Но Петербург тоже нынче весел, везде танцуют… Генералу вообразилось, как, похохатывая, прищелкивая пальцами, он будет рассказывать про нынешнее рандеву с Фигнер. И Оржевский заулыбался, полетел, как в мазурке, к дверям, весело мигнул дежурному унтеру: «Шинель, братец!»
Тем временем директор Плеве переговорил в телефон с Зизи, просил не ждать к обеду и, повесив трубку, послал за инспектором Судейкиным.
Плеве очень хорошо понимал, как страдает самолюбие инспектора. Не пригласить на «смотрины» того, кто устроил блестящее арестование наиважнейшей революционистки! Да-с, непременно надо Судейкину знать: не он, не директор Плеве, тому виною, а его сиятельство. Для графа инспектор просто-напросто выскочка, плебей. А между прочим, ваше сиятельство, дворянские руки, о коих вы изволили сказать, как раз и есть руки Судейкиных. Так-то! Судейкиных и Плеве, происходящих из «обер-офицерских детей». Вот так-то!
Он сидел за просторным столом, ждал инспектора. Он не утаит, пусть знает, кто виновник явного небрежения. И ведь не впервой. Давно бы след представить инспектора царю. А граф Дмитрий Андреевич увиливает: нет, рано. Не было б поздно, ваше сиятельство, а? Самолюбие инспектора, оно того-с… Оно посерьезнее пахитосок вашего шаркуна Оржевского.
Грубая раздражительность при встрече с Фигнер уже оставила Вячеслава Константиновича. Он уязвил, смутил ее. И он был доволен ее ответом министру. То-то посмеется публика. Но дело прежде всего: не сегодня-завтра Фигнер переведут из департамента в крепость.
В дверь постучали.
– Прошу, Георгий Порфирьевич, – громко позвал Плеве.