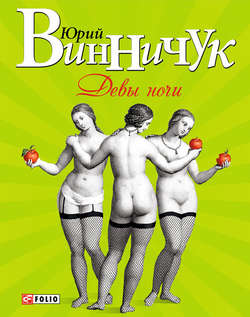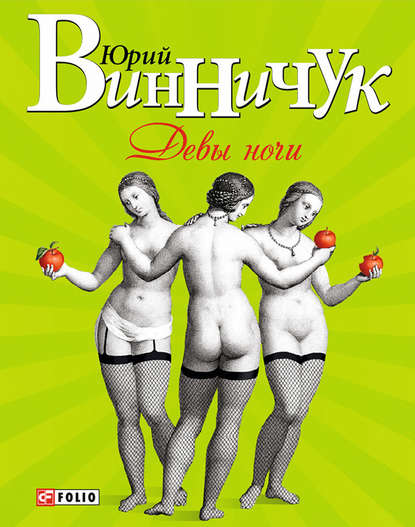Книга первая
Вступление
Они появляются вместе с сумерками – ночные розы наших улиц. Выползают из щелей и трещин, выпархивают из труб, выныривают из канализаций и мусорников – дети ночи.
Только тогда, когда стемнеет, сможешь их распознать безошибочно. А днем они незаметны. Днем они – как все. Как ты или я.
В величественном храме ночи проходит их жизнь. Жрицы любви, древние, как мир, – с улиц узких Вавилона, Египта и Израиля, из афинских предместий и римских сутерин[1], с площади Пигаль и Бродвея, девы ночи с Академической – прошу, позвольте познать мир ваш тайный, проникнуть в ваш храм, чтобы знать, какому богу вы молитесь и стоит ли он вашей веры.
Одесские гастролеры
История эта происходила в 1978 году и длилась ровно 18 дней. Это было невероятно сумасшедшее лето.
Прошло полгода, как я вернулся из армии, и первое, что я должен был сделать, – это явиться в военкомат и отметить свой дембель. Заодно получить паспорт, который у меня отобрали перед отправкой на службу. А явиться пред ясные очи пана коменданта я должен был в полном обмундировании – то есть в парадной форме и в шинели. И вот вместо того, чтобы, как нормальный человек, прийти туда сразу по приезде во Львов, зимой, я закинул и форму, и шинель в кладовку, и жадно бросился в круговорот жизни, которой был лишен в армии. Начал я с того, что совершил рейд по кинотеатрам, просматривая иногда по три фильма в день. Я, как и большинство львовян, отдавал предпочтение зарубежным фильмам, за исключением индийских, арабских и из стран социалистического содружества. Много просмотренных фильмов были тупыми и беспросветными. А еще я жадно глотал книги, которые заказал по почте, и за год службы меня ожидала их уже целая гора. По пятницам, субботам и воскресеньям я с кем-нибудь из приятелей водил козу[2] по кнайпам[3], цепляя девушек. А их было море, и каждая свежая девушка казалась мне хуже той, которая могла быть у меня после нее. Поэтому я никогда не останавливался на достигнутом. Деньги я зарабатывал, продавая манатки, купленные у поляков. Желания устроиться на постоянную работу у меня не возникало, и паспорт мне был пока ни к чему. Военный билет успешно заменял его на почте или где-нибудь еще.
За эти полгода я выпил цистерну вина и ведра три всевозможных коктейлей. В большинстве своем – без закуски. При этом никто никогда не видел меня пьяным. Потому что я имел свою меру. Точнее, мера имела меня. Я даже при большом желании не выдую больше двух бутылок вина. Что-то вдруг во мне переключается, и все – клямка[4]. Чернил я не пил категорически. Водки для меня не существовало. Я не любил дешевых крепких вин, ликеров, коньяков, одеколона, политуры и денатурата. Я пил только изысканные напитки, которые стоили тогда смешных денег, а продавались на каждом углу. Я смаковал чудесные полусухие вермуты из Югославии в литровых бутылках – белые и красные. Особенно «Бадель» и «Истру». От них не отставали также вермуты венгерские – особенно вишневый. Я в лирических размышлениях цедил сухие белые словацкие вина в пузатых литровых бутылках, часто смешивая их с «Баделем» в пропорции три к одному. Молдавский красный «Извораш» в паре с шампанским вставлял любую панну за считаные минуты. Дорогие теперь грузинские вина стоили четыре рубля, и я поднимался в небеса, перекатывая по нёбу терпкость их вкуса. Грузинские вина мог оценить только такой гурман, как я. Публика их покупала редко, предпочитая «биомицин» – белый крепкий шмурдяк. Венгерский «Токай» в приземистых полулитровых бутылках с годом урожая, румынские полусухие белые вина «Контари» и «Мурфатлар» в бутылках с длинными горлышками, в которые очень сложно было вогнать пробку, я мог пить и наедине с собой, и всегда держал в запасе на случай, если приведу панну домой. Алжирские красные, до черноты, суперсухие и супертерпкие вина для глинтвейна – я нагревал их на огне, добавив меда и гвоздики. От стакана португальского портвейна у меня кружилась голова – в нем было чуть ли не 25 градусов. Бутылки на двоих было вполне достаточно, чтобы почувствовать себя крутым чуваком.
Я пил за свои и на шару, пил один и с друзьями, пил в кабаках, сквериках, парках, брамах[5], пил в кинотеатрах и на стадионах, пил в подвалах и на крышах, в машинах и поездах, на деревьях и балконах, в травах и покосах, в озерах, морях и реках, в лесах, полях и кустах, в мастерских художников и в жилищах едва знакомых мне людей. Иногда я, проснувшись поутру в чужом помещении, не мог даже вспомнить имени хозяина или хозяйки. В таких случаях я старался незаметно исчезнуть, чтобы избежать обязательного опохмела. Синдром похмелья был мне неизвестен. Я пил с классными писателями, у которых не было возможности печататься, и с модерными художниками, которые демонстрировали свои картины исключительно в мастерских. Лучшие из них понемногу уходили в иные миры, так как не придерживались меры в выпитом, оставляя меня на произвол судьбы.
И вот в один солнечный июньский день я почувствовал, что с меня уже всего этого хватит и пора браться за ум. Пора устроиться где-нибудь художником-оформителем и продуцировать транспаранты, стенды, стенные газеты и прочую фигню, как делал это Грицко Чубай[6]. Заработок неплохой и, главное, не отнимает много времени. Когда мне пришла в голову эта мудрая идея, я вдруг вспомнил, что до сих пор так и не отметился в военкомате, и у меня нет паспорта, а без паспорта я никто. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек», – вещала советская поговорка. Я полез в кладовку, вытащил на свет божий военную форму вместе с шинелью, развернул – и ужаснулся. Их побила моль! Мундир ко всему еще и покрылся какой-то липкой плесенью, поскольку в кладовке было сыро. Шинель пострадала меньше, но она вся осыпалась и белела личинками моли. Я принялся ее чистить и за час таки привел в порядок, но с мундиром был гиблый вариант. В таком мундире я никак не мог появиться в военкомате. В таком мундире я мог разве что рыться в мусорниках в поисках пустых бутылок. Но если надеть поверх военной формы шинель, то все будет в порядке. Я так и сделал, но прихватил еще с собой папку со штанами и рубашкой, чтобы переодеться после визита в военкомат.
И вот представьте себе картину. Лето. Солнце. Девушки в мини-юбках, мужики в рубашках с короткими рукавами. А тут прет какой-то варьят[7] в тяжелой, до пят, шинели, застегнутой на все пуговицы. Хорошо хоть военную шапку-ушанку он не нацепил на голову, а спрятал в ту же папку. Этот варьят, обливаясь потом, садится в трамвай «четверку», выходит возле Оперного и далее устремляется в направлении Краковского базара. Но тут уже в центре он таки натягивает на себя шапку-страшилку, потому что если он будет одет не по форме, без «головного убора», его моментально заметет военный патруль. Люди оглядываются. Варьят выглядит дико. За полгода у него отросли патлы, и он уже ничем не напоминает солдата славной Красной армии. Он скорее напоминает бойца из армии Нестора Махно. Тем более, что на ногах у него не солдатские ботинки или сапоги, а… сандалии. Ботинки он уже успел подарить своему папе.
На превеликое мое счастье, я не встретил по дороге никого из знакомых. Мое появление в военкомате вызвало немалый ажиотаж, секретарши не могли надивиться:
– Ты что, на северном полюсе служил? А под шапкой снега нет?
Комендант ошарашенно листал мой военный билет и не мог понять, почему я так долго – целых полгода – не мог до него дойти. Я что-то лепетал, потея под шинелью, которая грела меня в самые лютые морозы, и не смел расстегнуть ни единой пуговицы, чтобы не опозориться окончательно своим мундиром. Посопев, комендант поставил в билете печать, выдал мне паспорт, и я, сопровождаемый насмешками секретарш, вывалил на улицу. Нырнув в первую попавшуюся браму, я сбросил шинель и шапку и повесил на перила лестницы – кому-нибудь пригодится. Потом вынул из папки рубашку и штаны, переоделся, а парадную форму, побитую молью, запихал в папку и оставил ее там же, в подъезде. Через минуту я уже шагал по центру города, ничем абсолютно не отличаясь от окружающей среды. Вы себе не представляете, какое это облегчение – вот так взять и раствориться в толпе; ты идешь, и никому нет до тебя дела, ты становишься человеком-невидимкой.
Но, не имея никаких дел в городе, я решил вернуться домой. И вот на остановке «четверки» случилось происшествие, которое стало началом целой полосы жизненных катавасий.
– Простите, вы не подскажете, где здесь можно пообедать?
Я вмиг вынырнул из глубин своих дум – передо мной расцвели две фантастические крали, их красота принадлежала к тому типу, на который вечно все заглядываются, любуются и страстно жаждут заполучить, но жениться остерегаются.
Не знаю, какой меня черт дернул сболтнуть такое, чего не позволил бы себе ни один нормальный человек. Но попробуйте быть нормальным, когда рядом с вами такие ароматные создания – «шанель» номер три било в нос с расстояния метра. Вопрос звучал по-русски, но я, считая, что передо мной мои землячки, ответил по-украински:
– У меня, – еще и оскалил зубы, как это любят делать американские актеры в фильмах, которые мы покупаем.
Дамочки хихикнули:
– У вас? Вы что – официант?
– Нет, я поэт. Но живу рядом, и могу вас накормить кишкой[8].
– Кошкой? – переспросили они и переглянулись.
И тогда я понял, что это не галичанки, ибо настоящую галичанку разбуди в три часа ночи и спроси о кишке, и она тебе моментально отбарабанит все восемь способов ее приготовления.
– Ага, – кивнул я, – кишкой. Это смаколик[9], какой вам и не снился.
– Смакалик? – опять переспросили они, не прекращая хихикать, так, как это делали, наверно, очаровательные англичанки, когда встречали очаровательного аборигена.
Тогда уж я перешел на свой ломаный русский и объяснил, о чем речь, описав, конечно, и те восемь упомянутых способов. Понятно, что тут и камень пустил бы слюнки, а потому я не удивился, когда обе вскочили за мной в трамвай и даже милостиво презентовали талон.
Пока мы добрались до моего дома на Голоскове, милые девушки сообщили, что они из Одессы и работают в одесском цирке, который как раз прибыл к нам на гастроли.
Жил я в ту пору один в приветливом домике, который принадлежал когда-то моему дедушке. А кишку и другие вкуснейшие вещи передали мне из Станислава[10] родители, потому что там, где они жили – на благословенной Софиевке, держали не только гусей, уток, кроликов, свиней и коз, но даже коров.
И вот, когда мы чавкали уже над второй сковородкой, панночки раскололись: никакие они не циркачки. Просто приехали во Львов погулять. Нигде не работают, но у каждой однокомнатная квартира в Одессе.
– Не знаю, корректным ли будет с моей стороны вопрос: на что вы живете?
Барышни не могли нарадоваться моей наивности:
– Какой же он милый, правда?
Что-то несмелое и туманное начало высвечиваться у меня в голове, неясная догадка расставляла все на свои места, но сразу же находила сопротивление при мысли: а что сказала бы моя матушка, если бы узнала, что гордость ее кулинарного искусства – лучшую кишку всех времен и народов – жуют эти… эти… э-э… не знаю, как и сказать, ведь то смачное словцо, которое есть у моей мамы для данного хобби (напоминаю: был 1978 год, когда профессией такое занятие еще не называлось), может вызвать у вас спазмы горла, и если вы случайно едите сейчас вареник, то лучше мне сдержаться.
– Да, он очень милый, – подтвердила вторая барышня и провела теплой ладонью по моей щеке.
У читателя может сложиться впечатление, что автор был намного младше своих гостий. На самом деле было наоборот. Мне было тогда двадцать шесть лет, а девушкам – по восемнадцать. Однако чувствовали они себя увереннее и раскрепощеннее, чем я, они сыпали остротами, разговаривая вполне культурно, и лишь иногда вставляли какое-нибудь одесское словечко. Одну звали Марианна, а вторую Лена (на самом деле Александра, что ей очень не нравилось). Я их сразу перекрестил в Маруньку и Леську, на что они отреагировали сумасшедшим хохотом, но не протестовали.
Поев и запив львовским пивом, мои крали умостились на кушетку, закурили «Маrlborо» и принялись рассказывать.
История одного греха
Дорога на панель для каждой из барышень пролегала своеобразно. Марунька в восьмом классе «втрескалась» в спортсмена-десятиклассника и отдалась ему на природе. Но, как оказалось, она была для этого спортсмена лишь очередным рекордом, достигнув которого он успокоиться не мог и отправился на преодоление новых барьеров. Ну, а Марунька, исключительно из желания забыться, влюбилась во второй раз. А потом в третий и четвертый.
В девятом классе учитель физики показал на свою ладонь и провозгласил, что скорее у него там вырастут волосы, чем Марунька перейдет в десятый класс. Тогда наша Марунька, не долго думая, «случайно» застает физика в его кабинете после уроков и так жалобно-жалобно, опустив стыдливо глазки, просит о консультации. Учитель был не железный, и тут-таки поймал такси и повез пылающую от любви к физике девушку к себе домой. Ровно в восемнадцать ноль-ноль урок был окончен, потому что должна была вернуться с работы жена учителя, а она почему-то не любила уроков на дому. Учитель ткнул Маруньке два рубля на такси, высказав убеждение, что одной консультации будет маловато.
Марунька счастливо переползла в десятый класс, хоть ладонь физика так и не покрылась волосами.
Позже, уже обладая опытом, она договорилась о консультации еще и с другими учителями. И даже с самим завучем. Можно было бы, правда, консультироваться и у директора, но это была женщина.
Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что Марунька поступила в Одесский университет на заочную форму обучения и на момент нашего знакомства окончила первый курс. Консультации ей предоставляли охотно, а некоторые преподаватели, «врубившись в струю», уже и сами загоняли Маруньку в глухой угол неудовлетворительными оценками, провоцируя таким образом уроки на дому. Послушная студентка не отказывала ни тридцатилетнему, ни шестидесятилетнему.
По этому поводу припоминаю, что была и в Станиславском пединституте тоже такая Марунька. Один профессор в годах держал пари в компании, что охотно проведет ночь с этой панной. Пари было принято единогласно. Если бы преподаватель не справился, то должен был подарить даме норковую шубу, а если бы оказался на высоте, ему должны были привезти на дом десять ящиков шампанского.
Итак, двое разомлевших от жары голубков заперлись в гостинице, и Венера благословила их улыбкой. Как назло, глупый мужик наглотался перед тем какой-то чертовщины, поскольку на собственные силы не рассчитывал, и вот во время апогея пошла у него горлом кровь и залила лебединую шейку несчастной студентки. Скандал был немалый, но, как говорится, под одеялом. Его быстро погасили, потому что преподаватель читал далеко не географию.
У Маруньки подобных эксцессов не было, но она рассказывала, что один профессор почтенного возраста приглашал ее к себе каждую неделю, поил заморскими винами и кормил с ложечки разными кремами, а потом гладил костлявой рукой по коленке, и, откинувшись на подушки, блаженно засыпал. Все это удовольствие стоило ему очень дешево, ведь Марунька, кроме вина и крема, не получала и ломаного гроша. Зато все сессии проходили на одном дыхании.
Такой способ проституции в советские времена был более популярным, чем обычный, за деньги. Кроме учебных заведений, где практиковались подобные «консультации», всяких Марунек культивировали и на предприятиях. Их держали всегда наготове, чтобы бросить в последнее наступление, потому что когда подводили все остальные методы, применяли этот. «Секретарша» шла на штурм очередной «неприступной крепости», которую не брала даже взятка. И вот уже от этой крепости оставались одни руины…
Выйдя замуж, некоторые из них продолжали заниматься любимым ремеслом. Я знаю один случай, когда муж поймал свою жену с поличным точно как в банальном анекдоте, вернувшись досрочно из командировки. Ясное дело – бились морды, текло из носа, рвалась ночная рубашка и летела на пол массивная хрустальная ваза, о которой загодя было известно, что она не разобьется. Клиент в шоковом состоянии сгребал манатки и давал деру чуть ли не сквозь вентиляционное отверстие. А потом… потом дорогая женушка, когда ей удалось перекричать мужа, начала тыкать пальчиком и в то, и в се, и в это, и вот в это, и даже вытащила потайную шкатулку, набитую колечками, швырнула под ноги мужу его джинсы, костюмчик «Мистер Д» и пятнадцать таких же рубашек, и дубленку, и еще бог весть что, а затем спросила нежно-нежно: «А не задумывался ли ты, мой кохасик[11], откуда все это взялось? Не на твою ли инженерскую зарплату?.. А вот это?» – и тут она давай выбрасывать из холодильника сальцесоны[12], колбасы и жестянки с черной икрой, и еще всякие там марципаны, которые многим из нас и не снились. А еще открыла бар и хрясь фигурной бутылочкой бананового ликера о паркет: «А это откуда? На твои медяки?»
Муж, лакая с паркета драгоценный ликер, начинает шибать себя в грудь и клясться, что такого больше не повторится, а потом оба легли в еще теплую постель, и он, теперь уже хлюпая носом, потихоньку успокоился и попросил прощения.
К радости заграничных туристов, советские проститутки были самыми дешевыми в Европе. Меньшей такса была только у проститутки Вьетнама или Филиппин, где к иностранцам существовал такой же пиетет. Когда-то африканки и полинезийки отдавались белым за всякие цацки, зеркальца, шкатулочки, бусы. В Союзе же иностранец получал ночь любви за помаду, бюстгальтер, духи, чулки или просто за набор противозачаточных пилюль. Зато гражданин Страны Советов у себя дома мог получить любовь за шампанское, или, как говорилось, «за стол».
Однако существовали проститутки и значительно более высокого сорта, намного дороже. Их было меньше, назывались они путанами и были настоящими мастерицами своего дела, к ним обращались за консультацией, чтобы перенять опыт. Московские путаны ценились выше всего, поскольку имели возможность побывать за границей и пройти практику на площади Пигаль или в других соответствующих институциях. Наши же провинциальные проститутки особыми талантами не отличались, и лишь благодаря урокам у путан и просмотру порнокассет более-менее подняли свою квалификацию.
Летом, когда проститутки всех возможных мастей катятся на юг, каждый курортный городок сразу оживает и на глазах молодеет. Это всесоюзный симпозиум жриц любви начал свою работу. Идет широкий обмен информацией, распространяются порножурналы, видеокассеты, порнофотографии и всякая всячина.
История второго греха
Рассказав о Маруньке, мы наконец добрались до того места, где читатель должен узнать, как и почему они с Леськой оказались во Львове.
Итак, Леськина карьера имела семейные традиции – проституткой «работала» ее мама, а когда Леське исполнилось пятнадцать лет, матушка заставила ее лечь с клиентом за две бутылки шампанского. Однако дочь живо сообразила, что зарабатывать можно много больше, и убежала из дому. В каком-то баре познакомилась с амбалом лет тридцати пяти, который предложил пожить у него. Именовался он Фима Прицкер по прозвищу Шкаф, по-нашему Шафа. Был он толстый и широкий. У Шафы «на хате» оказались все условия для ускоренного полового созревания – большая коллекция порножурналов, которые постоянно пребывали в обороте, поскольку Шафа ими фарцевал[13]. Пройдя курс обучения, Леська поняла, что не любовь руководила самаритянским поступком Шафы, а обычные деньги. Шафа оказался еще и сутенером.
Они и дальше жили вместе, и Шафа даже обнаруживал признаки нежности, но теперь уже Леська зарабатывала деньги и была кормилицей «семьи». Шафа сам выбирал клиента, договаривался с ним, сдавал ему на руки Леську чуть ли не под расписку и принимал назад. Отводил на работу и приводил с работы. Деньги делили поровну. Чем не идиллия?
И была бы эта идиллия бесконечной, если бы Шафу как-то раз не «поставили на перо» – то есть пригрозили ножом. Дело в том, что у Шафы был один недостаток: он играл в преферанс на деньги. Раз выиграет, раз проиграет – всякое бывало. Это когда играл со своими. Но как-то проиграл он неизвестным людям четыре тысячи. Думал – поставит ресторан и обойдется. Ан нет. Эти люди включили «счетчик», каждый день росли проценты, а хитрые ребята спокойно ждали, пока Шафа метался, как загнанный лев. Леська даже попробовала соблазнить этих людей, но ничего из этого не вышло. «Четыре тысячи или перо в печенку», – ответили они.
Как-то вечером Шафа вернулся избитый. Леська смывала кровь, мазала йодом и кремами, а Шафа горько плакал:
– И откуда мне взять такие деньги? Они что думают? Они думают, что Шафа – миллионер? А Шафа – бедный еврей. У Шафы иногда нет даже трех копеек на трамвай.
Его большое волосатое тело содрогалось от плача. Леська плакала тоже. Шафа был добрым и относился к ней по-братски.
А в следующий раз Шафа куда-то пропал и не вернулся домой. Такого с ним не бывало, Леська обзвонила всех знакомых, затем начала трезвонить по больницам, но все зря. И лишь утром громкий стук в дверь оповестил, что случилось что-то нехорошее. Стучала соседка. Она только что спустилась в подвал, а там… там…
Леська стремглав помчалась вниз. В подвале, загородив узкий проход, лежал мертвый Шафа. Побитый и в крови. В окровавленном рту было полно стекла.
Леська вернулась назад позвонить его родным, пока соседи вызывают милицию, и что же она увидела? Та самая соседка, которая нашла тело, хозяйничала теперь в квартире. На полу валялась одежда, выдвинутые ящики, постель… Леська бросилась на соседку и дернула ее за волосы. Та зашипела:
– Дура! Сейчас приедет милиция! Все пропадет! А тут деньги! Большие деньги!
– Какие деньги? У Шафы не было на трамвай! Его убили из-за денег!
– Дура! Шафа – буржуй!
Леська остолбенела. Соседка, пользуясь этим, возобновила раскопки, и таки нашла, что искала. В корзине с грязным тряпьем было двойное дно. А там – пакет. Считать было некогда. Соседка на глаз разделила деньги на две части, ткнула одну девушке и исчезла со второй. Через минуту она вернулась и помогла прибраться.
– Это еще не все. Должно быть и золото.
– Но как же так? Как же так? – всхлипывала Леська. – Должен был четыре тысячи… Мог же отдать…
– Ты Шафу не знаешь. Он так любил деньги! Жил ради них. Иногда придет ко мне: «Тетя Сима, у вас не найдется двух копеек? Мне нужно из города позвонить…» Никогда не возвращал… Душевный был человек… Только где же он золото спрятал? Пропадет ведь все…
– Господи, что мне делать?
– Я бы на твоем месте, голубушка, бежала куда глаза глядят. Замотает тебя милиция, закрутит… Беда будет.
Леська, не долго думая, упаковала чемоданчик и, благословляя рассудительность и неспешность нашей милиции, выпорхнула из дома.
Через несколько дней вместе со своей подругой Марианной покинула она и Одессу. У нее было с собой шесть тысяч – наследство Шафы.