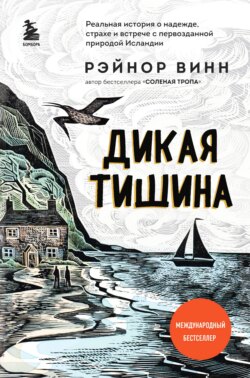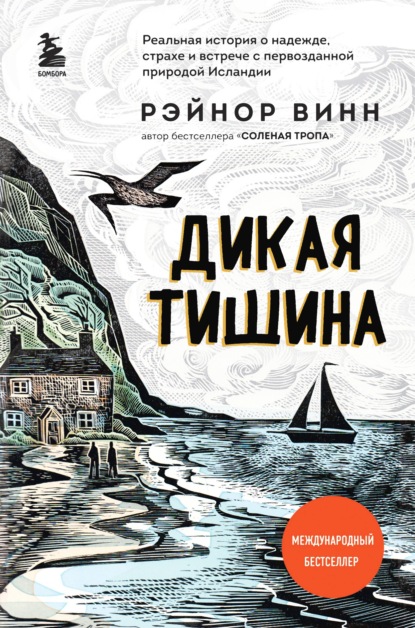3. Hireth[2]
Смерть разгуливала по больнице, но у ее койки не задержалась. Смерть лишь мельком взглянула на нее, сидевшую очень прямо, – волосы аккуратно причесаны, новая синяя кофта застегнута на все пуговки. Нет, ее час еще не пришел, не сегодня, не в воскресенье. Сегодня воспаление легких немного утихло, я сидела у изголовья ее кровати, и мы вместе листали глянцевый журнал. Всего через несколько дней после начала нового семестра у Мота мне позвонили. Это был тот самый звонок из больницы, о котором ты знаешь, что когда-нибудь он раздастся, но никогда не можешь предугадать. Маму забрали в больницу с воспалением легких. Врачи считали, что у нее начинается сепсис и мне нужно срочно приехать. И вот три дня спустя ей стало настолько лучше, что ее хотели даже отпустить домой.
– Может, завтра ты принесешь лак для ногтей и сделаешь мне гламурный маникюр, как у девушек из журнала? Будет нам хоть какое-то занятие, а то мне становится скучно.
///////
После затхлого больничного воздуха я с облегчением вышла в холодную темноту позднего январского вечера. Захлопнула дверь фургона, завела мотор и поехала в мамин крошечный домик. Я ехала по сельским улочкам, таким знакомым, что и с выключенными фарами без труда добралась бы, куда ехала – в тепло ее кухни, полной привычных ей вещей. В мамин дом, но не в дом моего детства. Дом, где я выросла, сформировалась и стала собой, стоял неподалеку, на дне долины, невидимый в черной тишине неосвещенной сельской местности. Я чувствовала его присутствие совсем рядом. Завтра поеду в больницу попозже, может быть, днем. А перед этим прогуляюсь по знакомым полям, там, где когда-то оставляла свои еще маленькие следы.
///////
Выйдя в зимнее утро, я остановилась на теплом и уютном открытом крылечке коттеджа, дотянулась до карниза и положила туда ключ, очень осторожно, чтобы не потревожить старое и пыльное ласточкино гнездо. Птицы выбрали прекрасное место, первое утреннее солнце рано прогоняло отсюда ночной холод. Они вернутся весной и начнут конопатить свежей грязью трещинки в своем старом доме, удивленно ныряя в сторону каждый раз, как будет открываться дверь. Я прошла по саду мимо росистой травы и голых стеблей роз к тропинке, которая спускалась в туманную лощину. Видимость была плохая, но я слышала на озере крики диких гусей, канадских казарок. Впрочем, даже не видя их, я знала, что там происходит. Первые весенние перелетные птицы нарушили налаженную жизнь гусей, которые решили остаться и зимовать дома. Еще не пришло время строить гнезда, так что сейчас гости и хозяева просто препирались за еду и территорию.
Миновав озеро, я еще некоторое время слышала их крики сквозь туман, а потом меня обступили мои корни, мое детство, истоки всего, чем я стала, местность настолько знакомая, что я могла бы нарисовать ее даже с закрытыми глазами. Ферма подождет; сначала пройдусь по полям и посмотрю на нее издали, потяну время, впитаю впечатления.
Я прошла лесопилку, где многие поколения деревенских жителей пилили древесину на дома и заборы. Здесь когда-то лежали стволы громадных дубов, вязов и буков, моим детским глазам они казались необъятными, высокими до неба. Теперь и след их простыл. Древесина попилена, пилы увезли, вместо запыленных окошек вставлены двойные стеклопакеты, у двери растут розы. Я вышла из тишины буковой рощицы, росшей на холмике над рядом коттеджей, и направилась в сторону горы, глядя, как в желтом утреннем свете начинает рассеиваться туман. С возвышения мне были видны домики, где когда-то жили наемные работники, обслуживавшие поместье. Плотник-шотландец с женой занимали дом покрупнее, с большим садом и огородом, чтобы кормить своих пятерых детей; посередине жили водопроводчик с женой, которую никто никогда не видел; а в последнем обитал садовник. Пока я поднималась в горку, от домиков отъехала первая машина: кто-то направлялся на работу в город из своего современного коттеджа со всеми удобствами в сельской местности. На самом деле поросший травой склон был вовсе не горой, а полем на откосе крутого холма, но так уж мы его называли. Я знала, что отсюда, отвернувшись от увенчанной деревьями вершины холма, увижу свой дом. И действительно, он лежал в долине, порозовевший в утренних лучах солнца. Любому другому человеку он показался бы просто каменным сельским домом, но я видела его во всех подробностях. Створчатые окна главного фасада, крошащиеся кирпичи, шиферную крышу, а за ними невидимый выступ – дом был построен в форме буквы «Т». Я почти слышала его присутствие.
Я пошла дальше через «Высокое поле», самое большое на ферме, где всегда выращивали овощи. Не одно лето я провела здесь, шагая за механической картофелекопалкой, которая методично прочесывала вздувшиеся ряды, раскидывая молодые клубни в мягкой кожице по влажной земле. Я шла согнувшись, собирая картошку в ведерко, ведерки потом высыпались в мешки, мешки складывались на телеги, с телег они попадали в сараи, из сараев – в грузовики, из грузовиков – в магазины и кафе. Здесь же я проводила и зимы, сырые и морозные, срезая садовым ножом ботву с репы и бросая в маленькую деревянную тележку, чтобы потом отвезти ее назад на ферму и сбросить в измельчитель, на корм быкам. Пока мои одноклассники играли со своими игрушками или на детской площадке, я была здесь. На солнце и ветру, руки по локоть в грязи, наедине со своими мыслями. В те редкие случаи, когда я все же проводила время с другими детьми, я чувствовала себя чужой. Позже, уже подростком, я хотела быть такой же, как мои школьные подружки, увлекаться одеждой и косметикой. Но как ни старалась, у меня всегда было чувство, что одной ногой я стою на танцполе, а другой увязла в грязи.
Спустившись с холма, я прошла через высокий лиственный лес, где весной вырастал ковер из голубых пролесок, а летом качались смолка и лесной купырь. Много дней я провела на опушке этого леса. В десять лет я должна была, наверное, играть с друзьями, но вместо этого сидела в одиночестве на границе леса и поля и смотрела, как в траве скачут кролики. Сотни диких бурых существ паслись в полях, уничтожая озимые не хуже саранчи. Я любила стоять у изгороди, почти полностью скрываясь в ее тени, и дожидаться, пока на холм наползет коричневое облачко, а потом выскакивать из укрытия, изо всех сил хлопая в ладоши, и смотреть, как кролики резко поднимают головы от еды, а потом стремглав бросаются к своим норкам, словно грязная вода, утекающая в раковину. Когда я подросла, то перестала хлопать в ладоши и часами просто наблюдала за иерархическим устройством коричневого кроличьего мира. Старшие животные выбирались далеко в поле, молодняк оставался поближе к укрытию, а часовые несли караул: они не опускались к земле, чтобы поесть, а стояли на задних лапках, присматриваясь, прислушиваясь и, если что, подавали сигнал об опасности. Как только они начинали с глухим стуком барабанить мощными задними лапами по земле, вся стая бросала еду, мчалась к отверстиям в склоне холма и исчезала в них.
Дойдя до домика егеря на опушке леса, я всмотрелась в поле, но увидела только зелень. Я остановилась и похлопала в ладоши в ожидании бурых теней. Ничто не шелохнулось: поле будто застыло в холодном, влажном зимнем воздухе. Здесь, в вольерах, окруженных высокой железной оградой, егерь когда-то держал гончих для лисьей охоты. Они громко лаяли каждый раз, когда кто-то проходил мимо, и звук отдавался по всей долине. Это были крепкие, сильные, мускулистые собаки, и егерь ходил среди них совершенно спокойно, они лизали ему руки, как домашние любимцы, а вовсе не как безжалостные убийцы. Мне приходилось видеть, как они разрывают лису на части, и мне даже не нужно было запрещать подходить к ним; ни за какие коврижки я бы к ним не приблизилась.
Домик егеря стоял в дальнем углу «парка», поля, где держали овец в период ягнения. За домом поле шло вниз, и как раз сюда, в уголок между лесом и вольерами, под кроны деревьев, рядом со страшными охотничьими собаками, приходили рожать овцы, беззащитные перед лисами, жившими на опушке. Раз за разом овцы выбирали именно это место, когда им пора было ягниться, надеясь, что присутствие собак удержит лис от нападения. Приходили сюда, потому что могли найти здесь укрытие в момент уязвимости. Парадокс на лесной опушке. Но теперь железная ограда исчезла, вольеры превратились в бунгало, а перед домиком егеря стоял новенький внедорожник. Изменилось и еще кое-что. Проходя по местам, которые были мне так хорошо знакомы, как если бы я уехала отсюда только вчера, я везде чувствовала эту перемену. Да, исчезли деревенские жители, их место заняли пенсионеры и люди, ездящие в город по делам, поместье лишилось своего рабочего сердца. Но это произошло уже давно, а перемена проникла глубже, и я никак не могла ее сформулировать. Пожав плечами, я удовлетворилась тем, что, возможно, все дело во мне; может быть, это я теперь смотрю на все другими глазами.
Я пошла дальше по полю. Когда старый дом был главным хозяйским домом в усадьбе, здесь располагался основной подъезд к имению, посыпанная гравием дорога, обсаженная дубами. Но в XVIII веке хозяева поместья выстроили новый особняк, а старый оставили ветшать. Из аллеи уцелели всего два дуба, кора на них потрескалась от старости, ветви искривились, но еще тянулись в небо в поисках последнего солнечного луча. Корни разбухшими узлами бугрились у основания стволов; один из них был настолько велик, что образовал что-то вроде шишковатого сидения. Я присела на него, чтобы полюбоваться видом. Мне слышалось эхо моих собственных шагов: в детстве я часами играла вокруг этого дерева, перескакивая с корня на корень. Это происходило не от скуки и не от нечего делать – скорее, я была зачарована.
Места моего детства простирались передо мной. В низине, на дне лощины, как в чаше: отсюда разбегались все тропинки моей жизни. Солнце стояло выше, и кирпичи уже не казались розовыми, они вернули себе законный оранжево-красный цвет. Каждый раз, попадая сюда, я невольно удивлялась – я по-прежнему ожидала увидеть огромную плакучую иву, которая когда-то стояла перед домом, закрывая его, пряча его секреты. Зажмурившись, я и сейчас слышала, как перешептываются ее ветви, качаясь у самой земли. Я бегу к этому зеленому занавесу, мои ручки тянутся к тоненьким побегам, хватаются за них, и вот я уже раскачиваюсь на верхушке дерева или просто прячусь в листьях, выглядывая наружу. Голос мамы, гневный, напряженный, повелительный: «Слезь оттуда! Сколько раз тебе повторять?» Но я не слезаю; покачиваюсь среди зелени, прижавшись к ветке, и смотрю сквозь нежные продолговатые листья, как родители разыскивают меня, раздвигая побеги.
«Эти ветки нужно убрать. Подрежь их так, чтоб она не доставала».
И вот каждую весну дерево подрезали так, что ветви свисали с верхушки коротеньким каре. Но ива растет с непревзойденной скоростью, так что к середине лета листья уже снова подметали землю, и моя жизнь под зеленым куполом возобновлялась.
В кармане зазвонил мобильник, вернув меня к реальности. Я открыла глаза, мамин голос затих вдали, дерево исчезло, фасад дома стоял оголенный. Идеально пропорциональный фасад в пять окон, крыльцо в георгианском стиле с отполированными ступенями. Скрывать больше нечего, никто не прячет тайн за завесой из листьев.
– У вашей матери был инсульт. Приезжайте немедленно.
– Но как? Она же выписывается в среду – вы же сказали, что ей лучше?
– Приезжайте, мы обо всем поговорим на месте.
///////
Я вернулась в надоевшую душную жару больничного крыла, и медсестра провела меня в кабинет врача.
– У вашей мамы был инсульт. Ишемический инсульт в бассейне передней мозговой артерии. Состояние тяжелое и пока прогрессирует.
– Прогрессирует? Но она ведь в больнице. Просто дайте ей лекарство, которое его остановит.
Доктор покачал головой, лицо его выражало нечто среднее между жалостью и раздражением.
– А как же рекламные ролики «останови инсульт»? Те, в которых говорится, что, если вовремя распознать признаки, человека можно спасти? Она ведь уже в больнице, где как не здесь могут вовремя распознать все признаки инсульта? И что это вообще означает – «в бассейне передней мозговой артерии»?
– Это значит, что у нее обширный ишемический инсульт. Мы не узнаем подробностей, пока не сделаем снимки, но уже сейчас можно сказать, что инсульт тяжелый и обширный.
– Обширный?
///////
Когда ее вкатывали назад в палату, она неподвижно лежала на койке. Соседи по палате молча наблюдали за нами, и я видела на их лицах замешательство. Это было отделение респираторных заболеваний; пациенты привыкли к виду кислородных масок и медсестер, но подобное было для них в новинку. Сестра задернула вокруг нас голубые занавески, и мы с мамой остались вдвоем. Вернулся доктор с результатами анализов и заговорил со мной приглушенным голосом.
– Похоже, ее тело полностью потеряло чувствительность; затронуты все системы. Как я уже говорил, это инсульт в бассейне передней мозговой артерии; его эффект сродни удару молотком по голове. Некоторые органы у нее работают, легкие функционируют; мы не знаем, как инсульт повлиял на ее мозг, но скорее всего, она больше не придет в сознание. Сделать ничего нельзя; ей осталось недолго.
///////
Я поправила прядь волос, упавшую ей на глаза. Она всегда так беспокоилась о своей прическе. Аккуратно стриглась, делала перманент и каждую неделю накручивала волосы на бигуди. Даже на картофельном поле она повязывала на густо залитую лаком прическу платок. А в мои подростковые годы состояние моих волос было у нас постоянным поводом для ссор.
– Мама, ты меня слышишь? Я здесь, – я взяла ее безвольную руку в свои, погладила пальцы, все еще крупные и сильные. – Я здесь.
Ее глаза медленно раскрылись; губы беззвучно зашевелились, и я заглянула в самую глубину ее серо-голубых глаз. Страх, замешательство, дикий зверь в панике.
– Мама, ты в больнице, у тебя был инсульт, но теперь все хорошо, я здесь. – Я увидела в ее глазах ужас и узнавание, и горло мне перехватил тошнотворный спазм. Она была жива и в сознании, запертая в ловушке собственного парализованного тела. – Просто закрой глаза, мама, постарайся поспать, это поможет.
Поможет кому? Ей это не поможет.
Пока она спала, я подстригла ей ногти, пилочкой придала им форму, а потом накрасила ее любимым перламутрово-розовым лаком. Закончив, я опустила мамины руки на кровать, розовые ногти странно выделялись на ее широких кистях. На ночь приглушили свет, и я осталась сидеть в голубом коконе, глядя, как скачут вверх и вниз цифры на мониторе.
4. Бежать
«Не ходи в лес. Егерь ставит на лис капканы, которые запросто оттяпают тебе ногу, вот так! – Мама хлопает в ладоши и переплетает пальцы, изображая, как железная ловушка захлопывается и откусывает мне ногу. – Ты сама все знаешь – сколько раз тебе повторять? Но вазу все равно возьми».
Я осторожно складываю охапку пролесок на стол и иду в кладовку за вазой. Оттуда слышу, как домой возвращается папа.
«Какого черта, она что, опять в лес ходила? Убери отсюда эту вонючую дрянь. – Через щелку в двери мне видно, как он сметает пролески со стола и вышвыривает их в сад. – Ну-ка, выходи из кладовки. Тебе нельзя ходить в лес, никогда, слышишь! Надевай ботинки. Если тебе нечем заняться, пойдешь со мной работать».
///////
Прошли два дня, а мама все еще дышала; свет сознания в ее глазах постепенно затухал, но тело продолжало бороться за жизнь. Ее перевели в отделение для инсультников, где медсестры лучше понимали, что ей нужно. Похоже, больше всего ей нужна была пища, но глотать она не могла: ее горло не воспринимало сигналов мозга. В то утро они собирались вставить ей через нос в горло трубку для кормления, чтобы жидкая пища поступала по ней прямо в желудок. Накануне вечером темноволосая медсестра объяснила мне, как все будет происходить: «Лучше тебе не приезжать, пока доктор не закончит процедуру, дорогуша. Смотрится это страшней, чем есть на самом деле; лучше отдохни с утра и приезжай попозже».
Так что я отправилась в Черный лес. Это не был обдуманный или запланированный поступок, меня потянуло туда инстинктивно, непроизвольно. Ребенком я знала, что в лесу опасно, взрослые много раз меня предостерегали, но я шла туда все равно. Мне нужно было в лес. И вот теперь, почти пятьдесят лет спустя, все та же тяга привела меня туда же и усадила на поваленный ствол среди деревьев. Весной здесь появлялся ковер из пролесок – тысячи, миллионы танцующих голубых головок повсюду, куда ни глянь. Несмотря на стену темных сосен, пролески выдавали в этой местности древний лиственный лес. Эта древность до сих пор ощущалась в воздухе, темная, укрытая от глаз, заповедная, потусторонняя, а в самом центре ее, в сердце леса, была территория егеря. Здесь-то и стояли фазаньи вольеры.
Большая поляна была окружена высокой изгородью для защиты от лис, а за ней, вокруг деревянных вольеров, стоял еще один заборчик, пониже. Здесь из крошечных птенчиков выращивали взрослых фазанов. Притаившись на корточках в кустах, я часами смотрела, как егерь ухаживает за малюсенькими пушистыми шариками, не старше нескольких дней от роду, но уже с отчетливыми полосками на спинках. По мере того как они росли, он переводил птенцов из одного вольера в другой, пока они не превращались в щуплых неказистых подростков, готовых выйти на свободу. Тогда их выпускали из вольеров, и они начинали свою жизнь под прикрытием высокой изгороди. Это были ручные птицы, они разгуливали свободно, но к ужину всегда возвращались домой. Вечерами, перед наступлением темноты, егерь приходил с мешком и рассыпал в листве зерно. И свистел. Низкий, повторяющийся, монотонный свист. Фазаны знали его и со всех ног неслись на этот звук, сотни доверчивых птиц бежали к своему хозяину, к человеку, который был для них источником еды и защиты всю их коротенькую жизнь. Тогда я бесшумно кралась обратно домой, чтобы успеть до темноты.
Вновь вернувшись в лес, я по привычке подобрала длинную палку и ворошила листья впереди себя в поисках лисьих капканов, ритмично двигая ею из стороны в сторону, как в детстве. Но капканов давно уже не стало. Отодвинув листья в сторону, я случайно обнажила отверстие в земле, глубокий лаз. Куда больше кроличьей норы, но поменьше барсучьей: лисье логово. Но лис в нем не было; вход был засыпан сухими листьями, а вокруг никаких следов. Лисы ушли, отправились в другие края.
Мне не понадобилось пролезать под оградой фазаньего загона; она была сломана и смята, и я свободно шагнула внутрь, мимо тяжелой калитки, свисавшей с петель. Внутри земля поросла папоротником и колючими кустами, но я все еще слышала свист егеря. Рано или поздно у всех молодых фазанов отрастали маховые перья, и тогда егерь открывал калитку. В этот день он свистом подзывал их, стоя снаружи загона, и они выбегали за ним в лес, клюя свое зерно, не замечая, что калитка за ними захлопнулась, не подозревая о том, что ждет их впереди. Взрослая жизнь, в которой они были совершенно свободны. Свободны либо жить дикими птицами, либо каждый вечер возвращаться к зерну и свисту, что они обычно и делали, всецело доверяя своему хозяину. Но однажды он приходил без зерна, зато с лающими собаками, которые гнали фазанов вперед до тех пор, пока на краю леса они не поднимались в воздух, хлопая крыльями и пронзительно крича, и не летели прямо на поджидающие их ружья.
Что-то здесь изменилось. Давно исчезли вольеры, фазаны, лисы и егерь. Но перемена проникла глубже, хотя я и не могла понять, в чем она заключается. Я знала, что пролески никуда не исчезли, они ждут в холодной земле, чтобы вновь появиться, когда дни станут длиннее. Точно так же, как в тот день, когда я собрала их целую охапку, надеясь наполнить ароматом цветов наш темный дом и утешить маму, которая плакала над раковиной после того, как папа швырнул на стол смятый конверт и выбежал вон. Как и тогда, никакие пролески не смогли бы скрасить сегодняшний день.
///////
Из ноздрей у нее торчали трубки, они, как инопланетные щупальца, тянулись от ее лица, красного и начавшего покрываться гематомами. Я причесала ее, пытаясь проглотить свой ужас. Глаза ее были закрыты, но, когда они открылись, из них потекли слезы, и она отвела взгляд. Я сидела рядом и держала ее за руку, зная, что она не чувствует моих прикосновений.
– Ну что, моя хорошая, теперь все на месте? Скоро еще разок попытаемся пообедать. – Медсестра повернулась ко мне и поманила за занавески. – Скорее всего, ничего не получится – ее желудок отвергает еду, вероятно, на него тоже повлиял инсульт. Мы еще раз попытаемся ее покормить, так что пойдите пока попейте чайку, а доктор побеседует с вами позже.
У меня в голове забрезжила какая-то мысль, но я подавила ее, заглушив этот шепот.
Отчаянно нуждаясь в свете и воздухе, я выскочила на улицу и быстро пошла от больницы по дорожке к парку, вверх по холму, на который не поднималась много лет. И вот я на месте. На деревянных ступеньках, ведущих через живую изгородь из боярышника и орешника, над широкой речной долиной, на дне которой простирается город. Впервые я поднялась по этим ступенькам еще девочкой-подростком, десятки лет назад. Я шла по грязной тропинке на окраине города в темноте, но как только поднялась по ступенькам, город вдруг перестал быть серым и скучным и озарился миллионом огней. Это было похоже на сказку. Тогда он схватил меня за руку, мальчик в полушинели, его волосы развевались на холодном ветру.
– Подожди, постой тут, не спускайся пока. Посмотри – вот что я хотел тебе показать. Ночью все преображается, реальность исчезает, и мир становится совсем другим.
Я никуда и не собиралась. В моей юной жизни не было момента прекраснее, чем когда Мот расстегнул длинное синее пальто, прижал меня к груди, и мы вдвоем стали смотреть на мерцающий город и огни, мчащиеся по автомагистрали.
– Знаешь, я никогда еще ничего подобного не чувствовал, но, кажется, я люблю тебя.
Я повторяла его слова про себя, пока они не превратились в сияющий шарик тепла у меня внутри. Мне никто раньше такого не говорил. Так не говорили в реальной жизни, в моей жизни, у меня дома. Это были слова из фильмов и книг, слова, которые открывали мир ярких красок, страсти, полноты жизни, и я погрузилась туда с головой, упиваясь красотой, безопасностью и новыми возможностями.
Тем холодным, мрачным январским днем я вспомнила это волшебное чувство, чтобы унять панику. Деревянные ступеньки прогнили, они едва выдерживали мой вес, город внизу висел в промозглой сырости, шум машин все нарастал. Но тепло, окутавшее меня в ту ночь рядом с Мотом, я ощущала с тех пор каждый день, и именно о нем я думала, шагая назад к больнице и усаживаясь на стул в приемной врача.
– Боюсь, кормление через трубки не работает. Ее желудок отвергает пищу. Мы точно не знаем, почему: потому что перестал функционировать весь желудок или только его верхняя часть.
– Что вы хотите сказать? – Он говорил так буднично, так рутинно; неужели он действительно пытается сказать то, что мне кажется?
– Мы считаем, что трубки надо вынуть, потому что они явно ее тревожат и мешают ей.
– И что тогда?
– Мы можем хирургическим путем вставить зонд ей в желудок, но с этим тоже есть сложности. В любом случае, мы сделаем все, что сможем.
Я все никак не могла взять в толк, что он говорит: сложности?
– Пожалуйста, говорите уже без обиняков. Просто скажите, что происходит. Скажите правду.
– Даже если мы вставим зонд в желудок, не исключено, что ее организм продолжит отвергать пищу. И даже если этого не произойдет, остается еще проблема инфекции. Рано или поздно инфекция все равно станет причиной смерти.
Я не могла говорить, меня совершенно загипнотизировали движения его губ, из которых продолжали выпадать слова. Сухие слова из учебника, которые его совершенно не трогали и которые я сама попросила мне сказать.
– Что случится, если не сделать операцию?
– Она умрет от инсульта. Долго она не протянет, поражения слишком велики.
– То есть она не выживет в любом случае, вопрос только в том, сколько ей осталось.
– Да.
– Но если вы введете зонд, ее постепенно убьет инфекция. Как скоро, сколько у нее времени?
– Максимум девять месяцев, если ее желудок способен принимать жидкость и если пищеварительная система все еще работает.
– А если не использовать зонд?
– Мы отменим антибиотики и капельницу, пневмония вернется, и из-за неспособности глотать она захлебнется.
– Захлебнется?
– Подавится собственной слюной. Вероятно, она умрет через два-три дня.
Снова эти слова. После того как Моту поставили диагноз, мне месяцами снились связанные с ними кошмары. Я попыталась не допустить их в свое сознание, но они повисли в голове оглушающим шепотом. Захлебнется.
– Но почему? Почему вы отмените антибиотики и капельницу, это же полное безумие?
– Потому что без желудочного зонда она умрет от голода, так что мы вынуждены будем перейти в фазу невмешательства, если только до этого у нее не откажут какие-нибудь еще органы.
– Как вы сами считаете, что нужно делать?
– Мы считаем, завтра или послезавтра нужно вставлять зонд, потому что это следующий шаг. Но решение за вами.
Решение за мной? Я встала, чтобы выйти, и мне пришлось ухватиться за стул; ноги превратились в желе. Он хочет, чтобы я решила, как и когда умрет моя мама.
Я вернулась к ней в палату, она спала. Я попыталась собраться с мыслями, но они мчались слишком стремительно, полвека воспоминаний о сдержанности, контроле и холодности. Как я могу принять решение, не окрашенное нашим совместным прошлым? Мне срочно нужны были воздух, и небо, и ветер, воющий в деревьях, и вороны, которых сдувает с курса, и капли дождя на лице; мне нужно было что-то реальное, я побежала и все не могла остановиться.
Через мокрый луг, который зимой всегда затапливало. Мимо сточной канавы, где я любила лазить и бродить в резиновых сапожках по колено в воде, между земляных берегов, тыкая палкой в норки водяных землероек. Через маленький кирпичный мостик над рекой, где собирались утки-кряквы. Через ворота, где мама выставляла фляжки с чаем жаркими летними днями, когда в поле вовсю шла заготовка сена. За глиняный карьер с гладкими мокрыми берегами, по которым я каталась в диком детском восторге, с ног до головы в грязи. Вверх по холму с гребнем посередине, на котором так весело было подлетать на санках зимой. Туда, где мне было все равно, что теперь это чья-то чужая земля, она никогда и не принадлежала нам. Я бежала и бежала.
В лес. Темная неподвижная тишина сосен. Никакой жизни: ни танцующих ярких листьев летними днями, ни птичьей песни весной. Безмолвие. Я лежала на сухой мягкой земле, сжимая в горстях хрусткие мертвые сосновые иголки, пока стук крови в голове не успокоился. Настоящее; все это было настоящее. Эта земля, эта местность, эти деревья. Настоящее и безопасное.
Спрятавшись в темноте прямых вертикальных стволов, я стала невидима, а мое существование – призрачным. Я всегда находила поддержку и утешение в этих деревьях, разве что раньше они были низкими и пушистыми, а теперь выросли и покачивались на ветру. Что бы ни случилось в моей юной жизни, я приходила сюда, в это дикое место – зверушка, которая смотрит на мир людей, укрывшись за деревьями. Прошла целая жизнь, с самого детства и до пятидесяти с лишним лет, и все эти годы сжались сейчас до размера одного мгновения, одного решения. Глядя сквозь деревья, я видела деревню, раскинувшуюся в долине от старого дома на ферме до маминого коттеджа и кладбища за церковью: весь ее жизненный путь от начала до конца. Моя собственная жизнь тоже была плотно переплетена с этими деревьями и полями. Закрыв глаза, я ощутила ветер в вершинах деревьев, колючесть иголок и слабый запах сосен, который заполнил мою больную голову. Столько потерь. Мне хотелось, чтобы мягкая земля всосала меня в себя и сомкнулась надо мной, укрыла меня от новых утрат.
Понемногу мысли начали успокаиваться, укладываться в голове в послеполуденном затишье. У меня не было выбора; я уже знала, какое приму решение. И однако сама мысль о нем казалась невыносимым предательством. Эта сильная, независимая девяностолетняя женщина гордо рассказывала мне о том, как первой из женщин своей деревни стала носить брюки и как остальные деревенские жители осуждали ее за это. Ее подростковый возраст пришелся на предвоенное время, и тут как раз в деревне появились пьющие, курящие, одетые в брюки девушки из Земледельческой армии[3]. Эти молодые женщины вырвались из рамок своих привычных жизней и ухватились за новый мир, открывшийся им в пустоте, которую оставили после себя ушедшие на фронт мужчины. Мама никогда не говорила об этом напрямую, но у меня сложилось впечатление, что ее ужасала их полная противоположность ее строгому викторианскому воспитанию и в то же время восхищали новые возможности. Одна из женщин-добровольцев особенно сильно повлияла на нее: артистичная, начитанная Глин. Они сдружились, и Глин потом навещала нас всю жизнь, ежегодно появляясь в воротах безо всякого предупреждения в своем фургоне, с кипами книжек для меня и шоколадом для мамы. Она носила короткие прически и мужские пиджаки и, казалось, всегда привозила с собой возможность какой-то другой жизни. Глин проводила у нас день-другой – папа на это время исчезал в полях, возвращаясь домой, только чтобы поесть и поспать. Потом она уезжала. Проснувшись утром, я видела, что ее фургон исчез, и принималась за оставленные мне книги.
С годами количество книг, подаренных Глин, все росло, как и моя способность раздражать маму. Худшим наказанием в ее арсенале было не пустить меня гулять и отправить в комнату, где мне приходилось коротать солнечные дни за чтением. Когда я была маленькой, меня это раздражало, но скоро перестало быть наказанием, и иногда я нарочно учиняла какую-нибудь шалость прямо с утра, чтобы пойти спокойно дочитывать книгу. В другие дни я лазила по деревьям и забиралась в ручьи, с удовольствием вспоминая, что дома меня ждет «Зов предков» Джека Лондона. Либо всегда можно было перечитать «Кольцо светлой воды»[4], «Обитателей холмов»[5] или любую другую книгу, которая переносила меня в места обитания диких зверей. Я начала мечтать о том, как тоже напишу книгу, и вместо чтения стала пробовать писать рассказы. Я представляла, как беру в руки собственную книгу с пингвинчиком на корешке[6]. А потом нашла то письмо, и мечты вместе с книжками пришлось надолго отложить на полку, потому что наступило время жесткой реальности.
///////
В мамином коттедже я отыскала чистую ночную рубашку и полотенце, сложила их в сумку. Теплые носки: ноги у нее постоянно холодные, как лед, нужно взять носки. Но в ящиках шкафа их не было. Вся одежда нашлась, но ни одного носка; я перерыла все по второму разу и под стопкой аккуратно сложенных носовых платочков увидела его – смятый, надорванный конверт. Он выглядел точно так же, как тогда, в детстве. Мама так и не сказала мне, что это было за письмо, так что я продолжала его разыскивать. Годами. Наконец, я отказалась от поисков, решив, что письмо выкинули, но когда мне было двенадцать, случайно нашла его в корзинке с шитьем. Это было как найти тайное захоронение на археологических раскопках: ты знаешь, что вот-вот заглянешь в иной мир, который всегда был рядом, но скрывался от глаз. Надо же, столько лет спустя она все еще хранила это письмо. Мне не нужно было его читать, я давно знала, что там написано, но все равно достала его из конверта. Знакомые слова, всего лишь черные строчки на белой бумаге, но я полжизни размышляла о том, как они повлияли на жизнь моей семьи, окрасив ее новыми красками. Годами я пыталась сложить в голове собственную версию произошедшего и использовать ее как ответ на множество вопросов. Поля, лес, земля, на которой я выросла, – все это нам не принадлежало. Мы были всего лишь арендаторами. Папа хотел знать, как наследуется владение на правах аренды, и в письме как раз содержался ответ на этот вопрос. Аренда не будет передана по наследству; со смертью владельца поместье со всеми фермами и домами будет продано, и аренда закончится. Новый владелец может возобновить ее, а может и не возобновлять. Я не останусь на ферме навсегда – мне придется покинуть ее, искать работу и строить новую жизнь. Узнав об этом, я отложила тетрадки и ручки в сторону; рассказам о диких зверях пришел конец.
- Пять откровений о жизни
- Дикая тишина