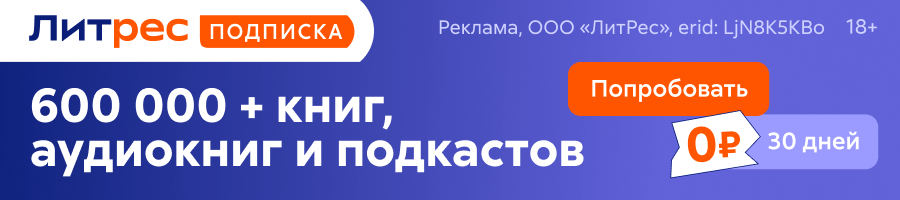© Виталий Викторович Павлов, 2020
ISBN 978-5-0051-8834-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Виталий Павлов
Рыбный день. Повесть
Из-за такта
Рукопись эту мне сунул в руки мужчина лет пятидесяти на вид, когда я шел по улице Пушкинской в городе Симферополе. Я узнал его. Когда-то мы вместе начинали играть в группе. Тогда это называлось так. Группа – неофициально, вокально-инструментальный ансамбль – официально. Это было в конце шестидесятых, начале семидесятых годов. Современной молодежи, наверное, будет странно узнать, что тогда электрогитару невозможно было купить в магазине. Впрочем, как и аппаратуру к ней. Убогие колонки, изготовленные на советском заводе киноаппаратуры, в конце шестидесятых для нас старших школьников, играющих в группе, были пределом мечтаний. Звукосниматели нам мотали местные радиолюбители, а фотографию «Beatles» я впервые увидел на целлофановом пакетике, в котором были запечатаны колготки.
Я учился тогда в классе седьмом. Вдруг по школе разнесся слух, что в центральном универмаге продается нечто необычное. Мы сорвались с уроков, отстояли очередь в отделе женского белья и вышли на улицу, разглядывая четыре черных, волосатых силуэта на красной пачке. Колготки полетели в мусорный бак тут же. Причем, колготки выбрасывали даже девушки из нашего класса, потому что не знали, с чем их едят.
Я пришел домой, открыл тетрадь и не закрывал ее, пока не дочитал до конца. Там была моя жизнь. Наша жизнь. Может быть, немного приукрашенная, может быть, немного романтизированная.
– Если хочешь, можешь издать, – сказал мне мужчина, – ты, вроде, книги печатаешь… Денег мне не надо.
Закрыв тетрадь, я задумался. Кто будет читать эту книгу? Новое поколение? Но ему – новому поколению и современному читателю, по крайней мере, необходимо объяснить, что Грузия тогда была частью нашей страны, и Крым, и Киев – все это было частью того, что мы называли Родиной. И писали это слово с большой буквы. Тогда не было канала MTV, а были райкомы, обкомы и ЦК партии. Отделы культуры и «Комсомольский прожектор». Он высвечивал изъяны и уродства на теле советского государства. Пение на английском языке – было одним из уродств, как и вообще вся музыка тех же Beatles. А изображение музыкантов западных рок групп сто раз переснимались с одной, не самого лучшего качества фотографии. Их записи в эфир выдавали радио – хулиганы – прототип современных коротковолновых станций. Эдакие диджеи середины века.
– Алло, алло, это Вася Плюгавый! Говорит Вася Плюгавый! Даю музыкальную настройку! – и в эфир несся какой-нибудь «Twist again» или «Rock n Roll music».
Что же еще? Две копейки – самая важная монетка, бросил в телефонный автомат, говори, сколько хочешь. ОБХСС – экономическая милиция, «горбатый» Запорожец – шедевр отечественного машиностроения, отдаленно напоминающий Фольксваген «Beatle». Очень отдаленно. Как Москвич шестисотый Мерседес. Впрочем, нет смысла объяснять всего, как нет смысла объяснять молодым людям, что их родители тоже влюблялись, тоже сбегали с уроков, курили план и танцевали на дискотеках. Они либо поймут это сами, либо не поймут никогда…
Я почти ничего не изменил в рукописи перед тем, как ее напечатать, ибо трудно изменить то, что уже прожито.
Интродукция
Все началось о того, что ко мне зачастил Генка… Мы были соседями. Он жил в старинном солидном доме с лепными балконами, я – в современном. Ничего лишнего – красные кресты окон, красные решетки балконов.
Генка ходил в наш дом играть в футбол. Играл он плохо, чаще «костылял», чем забивал голы. Это значит, что по ногам он попадал чаще, чем по мячу. Мы брали его в свою команду для устрашения и еще за то, что его мать нашивала на наши тусклые майки одинаковые буквы «Т». Что скрывалось за этим знаком, никто точно не знал. Может быть, гремевшее тогда на весь союз «Торпедо» – команда Стрельцова и Воронина, а, может быть, заурядный «Трактор». А, может быть, романтически-возвышенное «Товарищ». Ведь мы все были друзьями-товарищами. Ходили все вместе, обнявшись за плечи, вместе воровали черешню в соседнем саду, и даже все вместе влюбились. Была одна такая девчонка, в которую мы все вместе влюбились, толком не понимая, что это такое.
Наш двор…
У каждого, наверное, есть свой такой двор. Двор детства. Мой двор мне тогда казался огромным букетом цветов. Его дурманящий аромат въелся мне в память настолько, что иногда я явственно чувствую его и теперь.
Вечерами, когда солнце скрывалось за домами, жильцы выходили из подъездов с ведрами поливать грядки. Это было чем-то вроде ритуала. Своеобразная почетна обязанность. Нет, каждый имел право и не поливать, отведенную ему территорию, но никто, никогда этим правом не воспользовался. Было неудобно перед соседями. Многие вещи в той жизни никогда так и не произошли из-за этого святого чувства.
Итак, соседи с ведрами и лейками метались по двору от крана к грядкам, а мы, не остывшие после очередного футбольного матча, подносили «боеприпасы», разламываясь пополам от тяжести двух ведер. Мощно била струя воды в дно ведра, гремели пустые лейки, и вечерняя прохлада вытесняла остатки липкого зноя за металлическую калитку и ворота. Это было праздником. Казалось, все только и ждут шести часов, чтобы высыпать во двор. А когда становилось совсем темно, на скамейку усаживались двое с аккордеоном и гитарой и пели, как по радио. Жильцы открывали окна под переборы гитары, выходили на балконы слушать трофейный аккордеон. Вечера были длинными и тихими.
Телевизоров у нас тогда не было. Ни одного.
Потом мы шли в школу. С огромными букетами цветов, с маленькими двориками в руках. Кололась щетинистая форма, колотилось сердце, как во время футбола и портфель был тяжелым, как полное ведро воды. Мы старались не отставать от взрослых мальчишек, уже забывших, что пять лет назад они шли в школу в первый раз, точно с такими же букетами.
Постепенно мы вырастали из формы. Я перестал гонять на переменах в футбол, стал писать глупые записки одноклассницам, в общем, повзрослел. Мир изменился. Теперь в каждой квартире был телевизор. Теперь никто не выходил с аккордеоном и гитарой по вечерам, а в окна выглядывали, лишь в тех случаях, когда кто-то кричал, что опять под его балконом опять поставили машину. Или, когда хоронили кого-нибудь. Кого-нибудь из тех, кто поливал цветы.
А раньше в нашем доме никто не умирал.
В девятом классе я сделал свою первую электрогитару. Вырезал сапожным ножом из куска пенопласта. Гитара была очень похожа на настоящую, если смотреть на нее издали и в фас. Но в профиль, то есть, сбоку она больше напоминала лук. Спортивный лук. Только с шестью жилами тетивы, вместо одной. Такой автоматический шестизарядный лук.
Играть на этой гитаре не было никакой возможности. Струны врезались в пальцы, как бритвенное лезвие. Но мы играли. Одноклассницы смотрели на нас и слушали хриплые звуки, вырывающиеся из свежеокрашенных серебряной краской «колокольчиков» так, будто это были не мы, а четверо музыкантов из Ливерпуля. И теперь уже не я им, а они мне писали глупые записки.
«Когда будешь петь на вечере, помаши мне рукой. Или просто улыбнись.»
Мы летели на гребне докатившейся до нас волны, грохотавшего где-то далеко урагана по имени Битломания. Мы пытались отпустить волосы, но родители и учителя безжалостно стригли их, не обращая внимания на наши желания. Мы выпиливали гитары, а они ломались, не выдерживая напряжения натянутых струн. Нам запрещали, а мы продолжали петь по-английски:
«Close yore eyes and I`ll kiss you…»
«Закрой свои глаза, и я поцелую тебя…»
Мы пели это на всех школьных вечерах. Гремела ударная установка, собранная из пионерских барабанов, дрожали стекла от рыка рояльных струн, накрученных на некое подобие штыковой лопаты. Учителя и заучи были в шоке, учащиеся старших и средних классов – в восторге.
А потом вдруг все закончилось.
Чихали тарелки духового оркестра, когда нам выдавали аттестаты, плакали мама и сестра в полупустом зале клуба железнодорожников, грустно улыбался усаженный в президиум весь педагогический коллектив во главе с директором школы. Мы стали взрослыми и целовали дождливым утром выпускной ночи одноклассниц в губы.
Закрой свои глаза…
Я поцелую тебя и почувствую капли дождя на твоей щеке…
Школа осталась позади. Мы разбредались по домам, ступая босыми ногами в теплые лужи. Впереди была столбовая дорога жизни. Дождь в дорогу – хорошая примета.
Я двигался прямо. Когда закончился асфальт школы – открылись дубовые двери медицинского института. Меня ждали там. Еще в школе я выступал за их команду на различных первенствах по борьбе. Был «подставным». Я побеждал. Награждали меня, значит, награждали институт. Получалось, что я имел непосредственное отношение к нему. Числился студентом или санитаром. Или что-то вроде этого. И вообще, по словам тренера, в «классике» передо мной открывалась широченная магистраль. В переводе на обычный язык у меня, как у борца классического стиля, были перспективы на будущее. Я резко подворачивал бедро, хорошо «мостил» и мгновенно проходил в корпус.
Подавал надежды.
Мои врачебные перспективы были весьма туманными. Я с трудом узнавал бедренную кость, не мог вспомнить название шейных позвонков и долго выговаривал латинские слова. Даже самые короткие. Но в институте мне нравилось. Я ездил на соревнования, когда у всех была сессия, пропускал занятия, потому что был на сборах и сидел в президиуме вместе с ректором на чествованиях институтских команд. Еще я пел на курсовых вечерах; получал повышенную стипендию и…
Еще была Люда.
Мы столкнулись о ней в дверях аудитории. Я искал преподавателя, чтобы отдать освобождение – ехал на очередные сборы.
– Я преподаватель.
– Вы?
– А, что в этом удивительного?
Ничего. Просто, в моем представлении преподаватель должен был быть занудливо-худым, с длинным носом, в очках и мужского рода. Я не сказал ей об этом.
— Когда вернетесь, найдете меня и ответите, – сказала она.
– За все?
Она улыбнулась. Волосы сзади собраны в пучок. От этого видны её широкие скулы и огромные глаза. Кажется, светлые. Нет, я не помню цвета ее глаз. Грустные, когда я уходил, счастливые, когда мы были вдвоем.
– Я обязательно вас найду!
Был какой-то очередной концерт. Я защищал честь своего курса. Пел что-то патриотическое, в очень непатриотической обработке. Она стояла за кулисами, следила за тем, чтобы все было по программе.
– Вы еще и поете?
– Мой талант многогранен! Посадите в танк, я и танк поведу!
– А как на счет мышц спины? Вы когда-нибудь выучите их название?
– Когда-нибудь, если вы мне поможете…
Люда всегда хотела, чтобы я еще и хорошо учился, но мне было некогда.
– Мне стыдно за тебя! Ты совсем не знаешь мышц спины! Как будешь отвечать на экзамене?
– Очень просто… Резко подверну бедро, пройду в корпус… В общем, что-нибудь придумаю. В крайнем случае, спою.
Она всегда ждала меня у дверей аудитории, и, когда я выходил, видел её фигуру, исчезающую в конце коридора.
Я приехал и нашел ее. Она сидела в преподавательской одна.
– Готов ответить, – сказал я, – за всё…
– Ну и как ваши успехи? Наш институт может вами гордиться?
– Может.
– Вы очень самоуверенны для первокурсника.
– Это от смущения, – я плюхнулся в кресло.
Чувствовал себя уверенно. Звезда спорта и какой-то там ассистент кафедры.
Нет. Какая-то…
Я вспомнил! У нее были черные глаза. Такие черные, что и белки казались темными. В институте о ней много говорили. Говорили, что она только и подыскивает такого дурачка, как я, чтобы захомутать его. Говорили, что ей все равно кто, лишь бы уж, наконец, выскочить замуж. Говорили, что таких сосунков как я – у нее пруд пруди. И вообще, все первокурсники в нее влюбляются, потому что она кому угодно запудрит мозги.
Я кивал и никому не верил.
Может быть, она и хотела выйти замуж за студента, может быть и за меня, но не просто так. И «пудрить мозги» она мне не собиралась. Я знал это, чувствовал. Она любила меня и иногда вела себя, как школьница.
– Я украла твою фотографию со стенда. Вырезала бритвой…
Не люблю фотографироваться. У меня нет ни единой фотографии. Только в документах. Там, где написано: «…вклеивается по достижению…» Сейчас у меня два таких достижения.
– Теперь у меня дома всегда будешь ты, – сказала она и помахала карточкой у меня перед носом, – Я буду видеть тебя, когда захочу…
Недавно Люда вышла замуж. За студента.
Так прошло шесть лет. В борьбе. Тренировки, соревнования, сессия. Соревнования, тренировки, сессия. Госэкзамены. Мне было странно, что в дипломе у меня было написано «Врач». Шесть лет я лечил мозги преподавателям, рассказывая, как трудно мне далась очередная победа и теперь, став врачом, я не смог бы никого вылечить. Просто даже не стал бы никого лечить. Тем не менее, с распределением тоже проблем не было. Тогда я находился в прекрасной форме и в деканате лежал вызов одного очень солидного спортивного общества, нуждающегося в моих бросках через грудь. Нет, становиться профессионалом я не собирался уже тогда, но и мотать к черту на кулички молодым специалистом – удалять гланды, лечить острые аппендициты в труднодоступных районах страны, совсем не хотелось. Тугой ветер романтики, не наполнял паруса моей шхуны. Я твердо решил стоять на суше. Боялся оторваться от асфальта. Боялся разбежаться и прыгнуть. Я решил шагать на месте. Три года. По распределению. По брони.
Ша-а-гоом… Эрш!
Раз, два… Раз, два… Понедельник, среда, пятница. С шести до девяти тренировки в зале, вторник, четверг – кроссы. Суббота – бассейн. Раз, два…
Глубокий вдох и посильнее оттолкнуться от стенки. Вода расслабляет. После кроссов – парилка. Жар – удаляет молочную кислоту из мышц, или что-то в этом роде. Я учил, я смутно это помню. Я это с трудом вспоминаю, сидя на верхней полке ведомственной парной. Изредка рядом со мной парят высокое начальство. Веники доисторическими птицами порхают во влажной духоте парной. Высокое начальство кряхтит и глушит пиво в предбаннике. Они любят меня, они восхищаются моей скоростью и гибкостью. Им нужны мои проходы в корпус, броски через бедро и надежный мост. Все это двигает показатели вверенных им учреждений наверх, туда, куда, при хорошем раскладе, когда-нибудь смогут попасть и они сами. Здесь они проще, чем в своих кабинетах. Там они могущественные, но добрые дяди. Здесь разморенные и беспомощные без своих телефонов и секретарш. Нагота уравнивает шансы. Но что-то неуловимое в их поведении все-таки наталкивает меня на мысль, что парятся они, не снимая серых фетровых шляп.
Пятого числа – в бухгалтерию. Зарплата молодому специалисту. Выдает молодой кассир. Улыбается… Весной – турнир городов в Узбекистане, летом – первенство центрального совета, осенью – республика и область.
Успехи? Как всегда. В числе кандидатов в сборную.
Раз, два, три…
Год, два, три…
О медицине почти не вспоминал. Только в тех случаях, когда мне самому оказывали помощь. Слишком резко подвернул бедро и растянул мышцы спины, названия которых я так и не запомнил.
– Пора подумать о будущем.
Это оказала мне Люда. Были какие-то соревнования в зале нашего института. Я лежал на матах. У меня не было сил. Я проигрывал до последней секунды. Потом положил его. Парня с короткими вьющимися волосами и оттопыренными ушами. Он наступал все девять минут. Он брал мои руки в железные захваты, он пытался пройти мне в корпус, он очень хотел победить. Сначала меня предупредили. За пассивное ведение борьбы. Это означало, что я не хотел бороться, я просто уходил от борьбы. Я слышал, как болельщики свистели. Нет, я не боялся его, я просто смертельно устал. Мне было скучно. Скучно от того, что этот парень так тупо и прямолинейно нападает, скучно от того, что мои руку намного слабее его, скучно от того, что болельщики тупо свистели. И тогда я решился. И все было кончено, за секунду. Парень прилип лопатками к войлочной покрышке ковра. Все произошло, как обычно, я резко подвернул бедро.
– Может быть, поступишь к нам аспирантуру? К тебе хорошо относятся, я помогу…
Прошло три года. Студент ждал ее у дверей. Она подошла ко мне. Волосы, как всегда, собраны в узел. Азиатские скулы, глаза грустные. Как будто я уходил. Я долго не мог отдышаться, она ждала. Я понимал, что выиграл в последний раз. Я дожимал его, напрягая все силы. Рефери в разноцветных нарукавниках свистнул, а я его не отпускал. Потом гонг, и он заплакал. Оставалась секунда. Рефери поднял руку в синем нарукавнике – цвет моего трико. Я стал чемпионом области в последний раз, он бы стал – впервые.
– Ты подумаешь? Нельзя же всю жизнь бороться!
– Подумаю.
Я вот я решился. Все! Конец! Финита! Пропустите оркестр! Да, это они. Да, пьяные, красные рожи. Да, они играют на похоронах, но и на свадьбах ведь тоже. Ноты раскройте! Знаете наизусть? Ну, поехали!
В си бемоль мажоре… Друзья, подойдите поближе к прощающемуся. Плечи ближе! Плечи… Сейчас я влезу и можно выносить. Да, да, сюда, направо… Из большого спорта. Осторожно о косяк! Цветы и подарки сюда, к ногам, адреса – матери и отцу, им будет приятно. Телеграммы зачитают потом… Почему ноги оказались впереди? Голову, голову… И о косяк! Я уже второй раз говорю. Люда?! Ты как здесь оказалась? Пропустите ее! Пропустите! Она хочет видеть этого человека! Пропустите, вам говорят! Да! Она родственница прощающегося, родственница! Я любил ее…
– Что ты решил?
– Не обращай внимания. Я. приветствую широкие массы, пришедшие проводить меня из большого спорта… Видишь эти, в шляпах? Начальство! Мы парились вместе.
– Я спросила, что ты решил?
– Подожди, сейчас пройдет оркестр, и мы поговорим, я ничего не слышу…
Трубач старается, дует в трубу, что есть мочи. Он – не совсем нормальный. У него пластинка в голове. После травмы. Ему в драке пробили голову, и врачи поставили пластинку. Из кости, как заплатка. В голове… Странно.
Все ушли, цветы валяются на земле. Растоптанные, как после похорон.
– Так, что ты решил?
Что? Я решил изменить тональность. Взять на тон выше.
До мажор…
До мажор
Я уже говорил, что все началось с того, что ко мне зачастил Генка. Мы не виделись с ним лет пять. Генка, как всегда, был веселый и заджинсованный. Все это время, пока я своим носом пахал борцовские ковры в разных городах страны, он играл в группе. Гешка совращал меня, как библейский Змий первую женщину Земли. Зацепившись хвостом за ветку, он спустился ко мне, обвив ствол. Расхваливал очередное райское яблочко.
– Не будь фраером! Ты должен петь и лабать, а не мучить себя и пацанов. И ходить ты должен не по тому ковру.
На меня вдруг дохнул ветер из нашего цветущего двора – райского сада детства. Я почувствовал острый запах лака, которым я покрывал свою первую пенопластовую гитару. Рядом разрушили барак, чтобы на его месте построить двенадцатиэтажный дом. Среди битых камней валялась выполненная фотоспособом базарная икона. «Искушение Адама и Евы». Ядовитые зеленая и фиолетовая краски преобладали на этой кичевой иконе. Такие же ядовитые, как лак.
Эх, яблочко, куда ты котишься, мне в рот попадешь, не воротишься!
Гешка продолжал.
– Ты вспомни институт! А?! До мажор. У нас в гитарах динамит! – пропел он, -Да с твоим битловским тембром нас будут на руках носить! Ну, окажи, что ты теряешь в этом зале, кроме собственного веса и пары чучел из ваты? А эстрада – это живые люди!
Яблоко было красивым, сочным. Так и хотелось захрустеть им в душном борцовском зале.
Полгода Генка приходил ко мне на тренировки, и мы брели о ним по пустому городу к магазину «Соки-воды», оттуда – к остановке моего троллейбуса и все время он не давал мне рта открыть.
– Гастроли! По городам и селам с песней веселой! Поклонницы, не то, что твои чучела! И вообще, слава, успех. Ну, кто тебя в эпоху электромагнитных волн и записей знает, как борца? Пусть даже «классического» стиля?! Кто? Тетя Паша, потому что греет воду в вашей душевой. Сейчас время модерна, рока, а не классики!
– Но мне только двадцать четыре, ладно, почти двадцать пять. Тренер говорит, что это только начало. Ради чего я должен все это бросить?
– Ради чего?!
И Генка рассказывал мне об американских гастролях Битлов, ловко вписывая меня и моих будущих коллег в декорированную усилительными колонками сцену, установленную на стадионе «Шей». Отбивал ритм большой барабан, выла соло – гитара, ревели поклонники, и полицейские выносили доведенных до обморока поклонниц к палатке, где был развернут передвижной госпиталь.
– Стать плохим врачом или тренером в спортивной школе ты всегда успеешь, – подводил черту Генка. – Ну что?
И я решился. Не знаю почему. Но я пригласил оркестр.
Буб, буб – бил барабан, и – ц-па, цааа… – шипели тарелки, – ц-ц-цааа. Звенели… Как на выпускном вечере.
Почему? Я часто задаю себе этот вопрос в последнее время, Почему я это сделал? Захотелось вернуться назад, в прошлое? Стать школьником? Вырезать гитару из пенопласта, покрыть черным вонючим лаком…
Мы ехали в такси куда-то на окраину. Кривые улочки, мощеные булыжником. Генка сидел впереди и, перевалившись через спинку, рисовал картины будущего. Краски выбирал розовые и голубые. Получалось похоже на цветные открытки, которые продавал инвалид в трехколесной коляске, у входа в Центральный рынок. Розовая, райская жизнь. Он и она, глядящие друг на друга из углов по диагонали, голубки… Целуются среди тропической растительности. Я почти не слушал. Уговаривать меня больше не требовалось, я принял решение.
– Вот здесь, – сказал Генка и протянул деньги водителю.
Карета моего прошлого зажгла зеленый огонек и укатила в поисках клиента, которого тоже смогла бы доставить в новую жизнь. Такой современный Хорон. Только перевозящий души живых.
Мы стояли перед огромным сараем. В дверную щель пробивался свет. Так в мультфильмах горят сокровища в огромных сундуках, когда крышка начинает открываться.
– Ну, пошли? – и Генка распахнул дверь.
Мы оказались сразу на сцене. В глубине зала желтели фанерные кресла с откидными сидениями, а вокруг высились небоскребы самодельной аппаратуры. Прокопченными лианами свисали соединительные провода, пахло канифолью и горелой пластмассой. Иногда вскрикивал неведомой райской птицей самодельный ревербератор. В зале, в первом ряду, трое ребят что-то мурлыкали под гитару. Еще один паял на сцене провода, а когда делал шаг, наступал стоптанными туфлями на широченные штанины джинсов. Парни были молодые и длинноволосые.
– Это он? – спросил прыщавый рыженький паренек, обращаясь к Генке.
– Он, – ответил я.
Хрюкнули будущие коллеги, прокричала птица ревербератора.
– Тогда, может быть, начнем? – это уже сказал брюнет, все время старавшийся дотянуть свои кудри до рта.
– Может быть, познакомимся сначала? – предложил я.
– Ты спой, может, и знакомиться не надо будет, – сказал длинный худой парень.
На вид он был старше всех. При желании я мог бы просто переломить его о колено. Каким-то образом он, видимо, уловил мой порыв и буркнул:
– Меня здесь все зовут Шеф.
– Кырла. Кыр-ла, – повторил по слогам свое странное прозвище ширококостный блондин с остановившимся взглядом и взял в руки гитару.
Шеф устроился у открытой пасти обшарпанного фоно, Генка сел за барабаны, а я подошел к хромированной стойке с микрофоном.
– Только не целуйся с ним! – крикнул из зала паяющий лианы человек, устраиваясь за пультом, – Долбануть может! – И он смешно ударил себя кулаком в челюсть.
– Так, чего лабать будем, пан спортсмен? – Шеф повернулся ко мне на вращающемся табурете.
– Давай из Битов чего-нибудь, – предложил Генка, – «Yesterday», например. Он классно это делает… – Гешка пытался меня приободрить.
– В Фа – мажоре, по фирме? – спросил Шеф и взял аккорд.
Нервная волна пробежала по выстроившимся в ряд деревянным молоточкам. Я кивнул, хотя мне удобнее было бы петь в «До». Естественно, мажоре.
Я пел. Про вчерашний день. Про чужой вчерашний день, хотя в нем все было почти, как у меня. Только не было классической борьбы. Мне это казалось символичным. В припеве мне подпевал Кырла. Я слышал, что получалось неплохо. Только в конце я увлекся, не уследил за микрофоном и, как было обещано, он меня «долбанул». И довольно сильно, я едва не выпустил его из рук.
– Ты поосторожней с ним, – оказал Шеф, – а то денег не хватит расплатиться.
Я допел балладу, а когда последнее «у-у-у» сделал с битловской интонацией. Шеф подошел ко мне.
– Теперь можно и познакомиться – Саша, – он протянул мне свою куриную лапу.
– Арсен, – кивнул мне второй гитарист и потянул свои кудри в привычном направлении.
Прыщавого паренька звали Юра.
– А это Маэстро, – сказал Шеф, – на имя он все равно не отзывается.
Маэстро на секунду оторвался от паяльника, услышав свое имя.
– Все, что стоит на этой сцене, сделано этим народным умельцем…
– Без единого гвоздя, топором! – оказал Маэстро и отвесил поклон.
Аромат цветов нашего двора вперемешку с едким запахом лака заполнили сцену.
– Может, ты хочешь послушать, на что мы способны? – спросил Шеф, когда церемония знакомства подошла к концу. Я не возражал.
– Тогда валяй сюда! – крикнул мне Маэстро. – Там обалдеешь о непривычки.
Спускаясь в зал, я увидел сидящих на последних рядах двух поклонниц ансамбля. Они говорили без умолку и жевали резинку. Вид их максимально приближался к фирменному. Выщипанные брови, атласные косынки, яркие губы. Умолкнув на несколько секунд, чтобы проводить меня взглядом, они, после моего приземления на изрезанный перочинным ножом стул, продолжили свои дебаты.
Генка дал отсчет палочкой о палочку и, на сцене заиграли.
Я терпеливо ждал. Было очень громко и мало понятно, на каком языке. Мои познания в популярной музыке остановились в начале семидесятых, на классических «Beatles» и тех, кто шел за ними. Парни же играли тяжелый рок. Во всяком случае, они так думали. Эта музыка прошла мимо меня. Гремели барабаны и огромные ящики колонок, казалось, разваливались по швам.
– Hard rock, – сказал Маэстро, причмокнул языком и подмигнул мне.
Я неопределенно улыбнулся. Наконец все смолкло. Это произошло неожиданно, будто в моторе огромного тягача закончился бензин. Он сначала завывал на последних каплях горючего, потом чихал, и, наконец, умолк, но грохот выхлопов остался в ушах надолго.
Микрофоны и телекамеры были направлены в мою сторону. Даже поклонницы во второй раз прекратили щебетать, и я почувствовал у себя на спине взгляды их прозрачных глаз. Я держал паузу. Вибрировали тарелки на подставках, рассеивались табачный дым и пыль, как после боя.
– Вполне прилично, – успел произнести я.
Договорить мне не дали. На сцене все, как по команде, начали кричать. Кричали, обращаясь ко мне, что на такой аппаратуре можно играть только про оленей, а никак не «рейнбоу» или «рен-болл». Я так толком и не понял, что именно. Потом доказывали друг другу, что сбивку надо делать вот так!
Ту дум тум тум тум, а ни как не «тудуду дум тум тум!»
Что в басу все-таки «ре», а не «ля»!
Что фоно можно выбросить на свалку вместе с каким-то Евдокимычем. И еще многое другое, чего я так и не разобрал.
Потом обо мне и вовсе забыли. Я даже обрадовался этому. У меня появилось время еще раз все обдумать. Большой барабан духового оркестра ухал совсем рядом. Я видел мокрые от пота спины и мятые брюки музыкантов, когда они поворачивали за угол. Трубач с пластинкой в голове делал тремоло и все время оглядывался, будто ожидая, что я закричу.
Но я промолчал.
– На сегодня все! Кранты, финиш, баста! – оказал Шеф, – Сворачивайте манатки, пока я кому-нибудь башку не проломил этой железякой!
Маэстро побежал на сцену, сматывая на ходу провода. Гитары нырнули в обшарпанные чехлы, поклонницы защебетали громче, а на сцене появился сильно выпивший человек в приличном сером костюме. Он хромал, давая сильный крен в правую сторону, и опирался на стандартную палку. Редкие светлые волосы были зачесаны назад, а большие, немного навыкате глаза искали точку, на которой можно было бы сфокусироваться. Алкоголический румянец покрывал всю кожу головы и даже достиг кистей рук.
Евдокимыч.
Все взревели, завыли, зашипели.
– Ну, сколько можно, Евдокимыч? Это же полный каюк! Где аппаратура?! Разве можно играть на этом долбанном «Электроне»? Когда уже ты привезешь свой обещанный «Биг»?
– Да черт с ним, с «Бигом»! Хотя бы простой «Регент»! Ты же говорил – сегодня!
– Евдокимыыыч!!!
Евдокимыч, которого совсем недавно собирались выбросить на свалку вместе с фоно, молчал. Он мерно покачивался, несмотря на то, что опирался на три точки.
– И вообще, если хочешь знать, нас в филармонию зовут, понял? – Гешка ударил по тарелке.
Евдокимыч помолчал еще несколько секунд, обдумывая услышанное, покачался, потом издал какой-то звук, похожий на кашель и наконец молвил:
– Кх-х-х, ребята. Я же говорил вам, кх-х-х, ОБ-Х-х-СС, – он развел руки в стороны. Та, в которой была палка, перевесила, и он рухнул на сцену, зацепив подставку с тарелкой.
– Ца-ш-ш-ш, – зашипела ляпнувшаяся об пол тарелка.
– Вот видишь, Вовчик, в какой нетворческой атмосфере нам приходится работать, – оказал Генка, переступая через тело Евдокимыча. – И так все время, чуть что – сразу ОБХСС.
Мы начали репетировать. Была зима. На редкость холодная и мерзкая. И только в нашем подвале, где прямо над головой проходили толстые трубы отопления, было жарко. Евдокимыч приходил на каждую репетицию. Он волок за собой стул, ставил его рядом с нами, садился и слушал. Как только музыка стихала, Евдокимыч, обращаясь ко мне, говорил единственную фразу и всегда одну и ту же:
– Вовчик, а ты можешь спеть для меня песню? – и сам начинал, – В моем столе лежит…
Дальше он не знал. Нам тогда очень хотелось узнать, что же, в конце концов, лежит в его столе. Голос у Евдокимыча был красивый. И вообще, его самого легко можно было представить на каком-нибудь застолье с баяном в руках. Евдокимыч, возвышаясь над всеми, под умильными взглядами женщин, растягивая меха баяна во всю ширь, начинал эту песню, про стол и письмо. При нас же Евдокимыч, произнеся сакраментальную фразу, часто просто засыпал. Там же, на сцене. Мгновенно, в семь секунд, как будто силы, которые он берег для этого вопроса, покидали его. Тогда мы все волокли Евдокимыча домой, в общежитие через улицу, и деревяшка протеза гулко стучала по ступенькам, когда мы затаскивали его на второй этаж. Как потерял свою ногу Евдокимыч, на войне или просто забыл где-то по глупости, мы не знали.
По субботам в нашем клубе были вечера танцев. Зал трещал от грохота барабанов и воя гитар. В гнилом полу оставались бреши от ног танцующих, и на следующий день Евдокимыч, вооружившись пилой и молотком, собственноручно заделывал их. Он говорил, что все танцы видал в гробу, и, что заделывает пробоины в последний раз, но наступала суббота, и мы расчехляли аппаратуру. В антрактах молодежь дралась возле туалета. Евдокимыч и там наводил порядок, размахивая палкой и пугая милицией. Со сцены нам казалось, что он, как Чапаев, врезается в толпу на коне с шашкой наголо. После такого лихого кавалерийского наскока все быстро успокаивались, но не надолго. Иногда, особо нетерпеливые и легковозбудимые танцоры начинали драться прямо в зале. Тогда мы выключали усилители и прятали гитары в чехлы.