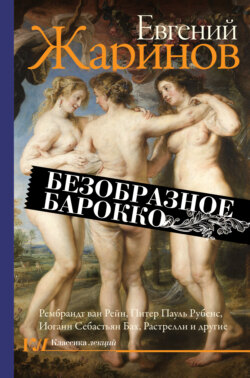Вступление
Необходимые объяснения
Почему безобразное барокко? Все мы помним прекрасную музыку Вивальди и Баха. Разве она безобразна? А дворцы Растрелли? Какое же в них можно найти безобразие? А скульптуры Бернини? А картины Караваджо, величайшего итальянского художника эпохи барокко? Разве они безобразны? «Нет, дорогой профессор, – может сказать читатель, взявший эту книгу в руки, – воля ваша, но вы этого, кажется, того». Барокко прекрасно, а музыку Вивальди и Баха вовсю используют даже в позывных мобильных телефонов и всем она нравится – настолько она красива, современна и понятна. На первый взгляд, действительно обозначенная тема кажется парадоксальной, но Б. Кроче в «Истории итальянского барокко» (1929 год) утверждает, что «историк не может оценивать барокко как нечто позитивное; это чисто отрицательное явление… это выражение дурного вкуса». Итак, судьба слова «барокко» отвечает заложенному в нём оттенку экстравагантности. Поначалу оно обозначало совсем не стиль эпохи, а было лишь оценочной категорией – отрицательной кличкой «непонятного» искусства (аналогичная ситуация – и не случайно! – возникает в 20 столетии со словом «модернизм»). Именно так Б. Кроче трактует слово барокко. Как писал исследователь стилей в искусстве В.Е. Власов, «жаргонное словечко «барокко» использовалось португальскими моряками для обозначения бракованных жемчужин неправильной формы, а в середине XVI века оно появилось в разговорном итальянском языке как синоним всего грубого, неуклюжего, фальшивого».
Как же быть с этим? Отметим, что в истории человечества была не одна эпоха барокко. Например, период эллинизма в Древней Греции, последовавший за «золотым веком» Перикла, некоторые искусствоведы называют греческим барокко.
Тогда на смену пропорциональным и строгим классическим линиям, устойчивым позам пришли смягченные, требующие дополнительной опоры позы богов и героев. Лики богов очеловечены, люди стали равны богам. В скульптуре появились неуверенные, изогнутые, даже закрученные по спирали линии. На лицах – страдание, искажение черт и пропорций от страха, боли и испытываемых мук. Все это повторилось в искусстве XVII века. А затем, по мнению Ортеги-и-Гассета, XX век воплотит собой «волю к барокко», а до этого в самом начале XIX века барокко будут очень увлечены европейские романтики и великий Гофман напишет свой цикл рассказов в манере Жака Калло, известнейшего автора знаменитых офортов эпохи барокко.
Но кто сказал, что безобразное не может таить в себе и необычную красоту? Ведь рассуждал в своё время В. Гюго о том, что красота и уродство каким-то образом связаны между собой (Предисловие к драме «Кромвель»). Кто сказал, что представления о красоте не менялись с каждой новой исторической эпохой? Например, если в эпоху Возрождения царила классическая концепция искусства, выражающаяся в подражании природе, в стремлении жить с этой природой в абсолютной гармонии, то с приходом Маньеризма наступает настоящий переворот в этих взглядах. О Маньеризме мы заговорили в данном случае потому, что именно он является предшественником Барокко. Принято считать, что начало Маньеризма отсчитывается со смерти Рафаэля, которая произошла в 1520 году. А само барокко начинается чуть ли не с Сикстинской капеллы Микеланджело. Искусство барокко (также, как и его теория, не оформленная в стройную систему) получило наибольшее распространение в Италии. Италия и есть родина барокко. Термин «барокко» означает силлогизм, и жемчужину необычной (странной) формы. Под барокко подразумевалось нечто вычурное, даже уродливое. Это название было в насмешку дано эстетами XVIII в. искусству XVI и XVII вв. Оно было унаследовано и художественной критикой XIX в. Эпоха барокко считалась эпохой упадка красоты и хорошего вкуса.
Теоретики Маньеризма подчёркивают важность Гения. Гений сам в праве выбирать, как ему творить и что считать нормой. В Гении живёт божественное начало, которое, усиливаясь с помощью воображения выдающегося художника, способно «оправдать» любую его экспрессию, любой волюнтаризм, любое проявление свободной воли. Получается, что любая деформация, любой отказ от общепринятых правил, любое нарочитое уродство оправданы прихотью Гения. Маньеризм стремится к субъективному видению мира. На первый план выступает предпочтение экспрессивного прекрасному, стремление к странному, экстравагантному и бесформенному. Достаточно вспомнить, в связи с этим, знаменитые портреты Арчимбольдо. У художника-маньериста структура классического пространства уступает место хаотичным, не имеющим единого центра композициям Брейгеля, искаженным, «астигматичным» фигурам Эль Греко.
С ещё большей силой тяга к необычному, ко всему, что может вызвать удивление, развивается в Барокко. В этой культурной атмосфере растёт интерес к миру насилия, привлекательной становится смерть. Любовь к безобразному, ко всему уродливому и тому, что нарушает наши представления о норме найдет своё наивысшее воплощение в стихах немецкого поэта Андреаса Грифиуса, в его болезненных раздумьях над трупом возлюбленной. Маньеризм и Барокко не боятся прибегать и отражать в своём творчестве всё то, что ещё совсем недавно считалось анормальным, маргинальным. В дальнейшем это восприятие будет подхвачено романтизмом и декадансом, в частности, таким поэтом, как Ш. Бодлер (знаменитая «Падаль»). Среди теоретиков можно назвать Джамбаттиста Марино Перегрини, Эммануэле Тезауро. Неаполитанский поэт Джамбаттиста Марино Перегрини (представитель так называемого «нового искусства») был ярчайшим представителем этого направления. Он сознательно противопоставлял свое творчество и свои творческие принципы Петрарке: «Поэта цель – чудесное и поражающее. Тот, кто не может удивить … пусть идет к скребнице». Этот принцип необходимости удивления Марино считал общим для разных видов искусств. Более того, он считал, что пространственные и временные искусства родственны. Живопись есть немая поэзия. Поэзия, – говорящая живопись. Идея синтеза искусств (в частности, музыки и поэзии, если не считать античных мистерий) – идея барочная. Она оказалась очень плодотворной. Благодаря ей родилась опера. Значительными в истории искусства оказались и поиски синтеза скульптуры и живописи, предпринятые Дж. Л. Бернини.
Еще одним теоретиком барокко был Маттео Перегрини. Известен его «Трактат об остроумии». Он считался теоретиком «умеренного барокко». Значительным выразителем барочных идей был итальянец Эммануэле Тезауро. Ему принадлежат трактаты «Подзорная труба Аристотеля» (1654) и «Моральная философия» (1670). Он согласен с Аристотелем в том, что искусство есть подражание природе. Но толкует это подражание иначе: «Те, кто умеют в совершенстве подражать симметрии природных тел, называются учёнейшими мастерами, но только те, кто творит с должной остротой и проявляет тонкое чувство, одарены быстротой ума». Истинное в искусстве совсем не то, что истинно в природе. Поэтические замыслы «не истинны, но подражают истине», остроумие создает фантастические образы «из невещественного творит бытующее». Художественная концепция барокко считает основной созидательной силой остроумие (предвосхищение романтической иронии). Во многом крушение возрожденческих идеалов приводит к этому. Барочное остроумие – умение сводить несхожее. Барочное искусство уделяет особое внимание воображению, замыслу, который должен быть остроумным, поражать новизной. Барокко допускает в свою сферу безобразное, гротескное, фантастическое. Принцип сведения противоположностей заменяет в искусстве барокко принцип меры (так у Бернини тяжелый камень превращается в тончайшую драпировку ткани; скульптура дает живописный эффект; архитектура становится подобной застывшей музыке; слово сливается с музыкой; фантастическое подается как реальное; веселое оборачивается трагичным). Совмещение планов сверхреального, мистического и натуралистического впервые присутствует в эстетике барокко, затем проявляется в романтизме и в сюрреализме.
Если говорить об эстетике безобразного, то здесь не лишним будет вспомнить, как в эпоху Маньеризма и Барокко великие художники воспринимали женскую красоту. Именно красота женщин в эпоху Ренессанса, например, являлась наивысшим воплощением мировой гармонии. Ренессанс, по мнению А.Ф. Лосева, во многом исходил из эстетики Платона. Об этом свидетельствовало существование Платоновской семьи во Флоренции, располагавшейся на вилле Кареджи, где и возникла вся стратегия Возрождения (Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи). Мадонны этих художников призваны были воплощать не только идеал женской красоты, но и отражение знаменитой Космической Души Платона, её, так сказать, земное, плотское воплощение. Наилучшим подтверждением тому может служить знаменитая «Джоконда» да Винчи, о совершенной красоте которой и о её знаменитой загадочной улыбке написаны огромные фолианты искусствоведческих исследований. Сюда же можно отнести и «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, своей небесной красотой очаровавшей и Толстого, и Достоевского. Но вот в эпоху Маньеризма, в эпоху второй половины XVI века, у Мишеля Монтеня в его знаменитых «Опытах» мы читаем во всех отношениях провокационный текст о том, как хороши в постели хромоножки. В частности, там написано: «К месту будь это сказано или не к месту, но есть в Италии распространенная поговорка: тот не познает Венеры во всей ее сладости, кто не переспал с хромоножкой. По воле судьбы или по какому-либо особому случаю словцо это давно у всех на устах и может применяться как к мужчинам, так и к женщинам. Ибо царица амазонок недаром ответила скифу, домогавшемуся ее любви: «хромец это делает лучше». Амазонки, стремясь воспрепятствовать в своем женском царстве господству мужчин, с детства калечили им руки, ноги и другие органы, дававшие мужчинам преимущества перед ними, и те служили им лишь для того, для чего нам в нашем мире служат женщины. Я сперва думал, что неправильные телодвижения хромоножки доставляют в любовных утехах какое-то новое удовольствие и особую сладость тому, кто с нею имеет дело. Но недавно мне довелось узнать, что уже философия древних разрешила этот вопрос. Она утверждает, что так как ноги и бедра хромоножек из-за своего убожества не получают должного питания, детородные части, расположенные над ними, полнее воспринимают жизненные соки, становясь сильнее и крепче. По другому объяснению, хромота вынуждает пораженных ею меньше двигаться, они расходуют меньше сил и могут проявлять больше пыла в венериных утехах». Это эпоха маньеризма. Но подобную же перемену можно заметить и в литературе эпохи барокко. Вот какие примеры приводит по этому поводу Ф. Арьес в своей книге «Человек перед лицом смерти»: «Если в трагедии Робера Гарнье «Еврейки» мученичество Маккавеев воспето гладкими, сдержанными стихами. Без надрыва и волнения говорит поэт о теплой крови, брызнувшей из отрубленной головы, и о недвижном теле, рухнувшем наземь. Напротив, Вирей де Гравье в эпоху барокко, рассказывая ту же самую историю, добавляет одну кровавую подробность к другой: несчастную жертву растягивают на колесе, подвесив к ногам две тяжелые гири, вытягивают заживо внутренности, ножом отрезают язык, а затем еще сдирают с живого кожу, «совсем как с теленка».
Художники века барокко охотно черпали свои сюжеты в истории мученичества св. Варфоломея, с которого содрали кожу. К услугам мастеров были и другие страницы христианского мартиролога: мученичество св. Лаврентия, сожженного заживо на раскаленной решетке, или казнь св. Себастьяна, чья мужественная красота в сочетании со страданиями тела, пронзенного стрелами, создавала образ, исполненный особой, неведомой прежде чувственности. Другой пример: на картине Бернардо Каваллино (XVII в.) св. Агафья погружена в экстаз, одновременно мистический и эротический. В полуобмороке наслаждения она прикрывает обеими руками свое кровоточащее тело; вырванные у нее палачом обе груди, полные и круглые, лежат на большом блюде».
В литературе испанского барокко в это время безраздельно будет царить так называемый плутовской роман, или пикареска. Содержание пикарески – похождения «пикаро», то есть плута, жулика, авантюриста. Как правило, это выходец из низов, но иногда в роли пикаро выступали и обедневшие, деклассированные дворяне. Плутовской роман строится как хронологическое изложение отдельных эпизодов из жизни пикаро, без внятного композиционного рисунка. Повествование, как правило, ведёт сам пикаро, благодаря чему читатель переносится на место мошенника и невольно проникается к нему симпатией. Пикаро зачастую оправдывает свои нечестные поступки необходимостью выживать в жестоком и равнодушном мире. Жертвами его проделок становятся добропорядочные обыватели, чиновники, криминальные элементы, а также такие же плуты, как и он сам. В своей классической форме плутовской роман возник как противоположность роману рыцарскому. Похождения пикаро – это сниженное отражение странствий идеализированных рыцарей средневековья. Пикаро – это рыцарь без морали и принципов, перенесённый из сказочной атмосферы в повседневный быт. Он втайне презирает принятые в обществе правила поведения и социальные ритуалы. В этих романах главной темой становится тема Судьбы. Судьба причудлива, непредсказуема, в реальной жизни и на страницах плутовского романа она воплощена в образе реки. Река несёт свои воды и так же Судьба несёт по жизни человека. В этом мире ни в чём нельзя быть уверенным. За первый несомненный образец жанра принимают испанскую повесть «Ласарильо с Тормеса», которая вышла в свет в Бургосе в 1554 году. Тормес – это название реки, где и родился главный герой. В этой повести описывается служба мальчишки-бедняка у семи господ, за лицемерными масками каждого из которых кроются разнообразные пороки. Широкая популярность «Ласарильо» породила череду испанских произведений в жанре пикарески. Одним из самых примечательных плутовских романов является «Хромой бес» Луиса Велеса де Гевары (1641). От обычной пикарески этот роман отличается тем, что в нём присутствует сразу два героя: студент Клеофас и хромой бес Асмодей, которого тот вызволяет из колбы в кабинете астролога. Именно с помощью Асмодея студент и открывает так называемую изнанку жизни, оказывается способным увидеть все «скелеты» во всевозможных «шкафах» горожан. По мере развития сюжета мы узнаём, что Асмодей не ужился в аду и его выдворили в мир людей. В комичной форме здесь упоминается, может быть, самая главная тема эпохи барокко – тема восстания ангелов.
Тема восстания ангелов присутствует в самой Библии. Этот вопрос находит свое отражение в нескольких книгах: книге пророка Исайи (14 гл., 12–14), Иезекииля (28 гл., 14–17), Откровении Иоанна Богослова (12 гл., 7–9). Прежде чем согрешили Адам и Ева (как об этом повествуется в третьей главе книги Бытие), на небе уже произошло восстание третьей части ангелов.
Это восстание против Бога возглавил один из херувимов по имени Люцифер, что значит «светоносный». Впоследствии он был назван сатаной («противник») или дьяволом («клеветник»).
В своём первоначальном значении «сатана» – имя нарицательное, обозначающее того, кто препятствует и мешает. В качестве имени определённого ангела Сатана впервые появляется в книге пророка Захарии (Зах. 3:1), где Сатана выступает обвинителем на небесном суде. Согласно христианской традиции, Дьявол впервые появляется на страницах Библии в книге Бытие в образе змея, обольстившего Еву соблазном вкусить запретного плода с Древа Познания добра и зла, в результате чего Ева и Адам согрешили гордыней и были из рая изгнаны, и обречены добывать хлеб свой в поте лица трудом тяжким. Как часть Божьего наказания за это, все обычные змеи вынуждены «ходить на чреве» и питаться «прахом земным» (Быт. 3:14–3:15). Библия описывает Сатану также в образе Левиафана. Здесь он – огромное морское существо или летающий дракон. В ряде книг Ветхого Завета сатаной называется ангел, испытывающий веру праведника (см. Иов. 1:6–12). В книге Иова Сатана подвергает сомнению праведность Иова и предлагает Господу испытать его. Сатана явно подчинён Богу и является одним из его слуг («сынов Божьих», в древнегреческой версии – ангелов) (Иов. 1:6) и не может действовать без его позволения. Он может предводительствовать народами и низводить огонь на Землю (Иов 1: 15–17), а также влиять на атмосферные явления (Иов. 1:18), насылать болезни (Иов. 2:7).
В христианской традиции к Сатане относят пророчество Исайи о царе Вавилона (Ис. 14:3-20). Согласно трактовке, он был сотворён как ангел, но возгордившись и пожелав быть равным Богу, был низвержен на землю, став после падения «князем тьмы», отцом лжи, человекоубийцей, предводителем мятежа против Бога. Из пророчества Исайи (Ис.14:12) взято «ангельское» имя Сатаны – הילל, переводимое как «Светоносный», лат. Люцифер. Многие богословы относят к Сатане также отрывок из Книги пророка Иезекииля:
«Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, всё, искусно усаженное у тебя в гнёздышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония».
В Откровении Иоанна Богослова Сатана описывается как дьявол и «большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем». Вслед за ним последует часть ангелов, называющихся в Библии «нечистыми духами» или «ангелами Сатаны». Будет низвержен на землю в битве с архангелом Михаилом, после того как Сатана попытается съесть младенца, который должен стать пастырем народов (Откр. 12:4-9). Иисус Христос полностью и окончательно победил Сатану, взяв на себя грехи людей, умерши за них и воскресши из мертвых. Библия описывает людей на земле, верующих в Иисуса Христа, победителями сатаны. Тему падения Люцифера первым начал разрабатывать Ориген, однако согласно его концепции в конце времен все, даже сам Люцифер должны были вернуться к Богу и в Бога. Ориген Адамант (родился ок. 185, Александрия – умер ок. 254, Тир) – греческий христианский теолог, философ, ученый. Основатель библейской филологии. Автор термина «Богочеловек». Эсхатологический оптимизм Оригена отразился в учении о циклическом времени или апокатастасисе, которое предполагает, что посмертное воздаяние и ад относительны, так как Бог по своей благости в конечном счёте спасёт от адских мук не только праведников, но и всех людей, всех демонов и даже самого Сатану. Однако позднее эта идея была признана еретической, поскольку церкви нужен был механизм устрашения паствы для которого вечное проклятие подходило больше, чем апокатастасис.
Тему восстания ангелов в светской литературе первым поднимет французский поэт Агриппа д’Обинье. Наиболее значимое поэтическое произведение д’Обинье – «Трагические поэмы» (1576–1616), которое является одним из выдающихся памятников европейской поэзии. В произведение входят семь поэм: «Беды», «Государи», «Золотая палата», «Огни», «Мечи», «Отмщения», «Страшный суд». В поэмах обнаруживается сложное сочетание реальности и вымысла, помимо поэтических (нередко аллегорических) образов присутствуют исторические персонажи, в том числе незримо – сам автор, реальный свидетель событий. Поэт руководствуется учением Ж. Кальвина о предопределении, выделяя среди персонажей как избранных, так и отверженных Богом. Мир изображен в трагических красках, что позволяет видеть в д’Обинье предтечу искусства барокко. Первая песнь, «Беды» (во всяком случае, та ее часть, которую все еще стоит читать), – это, в общих чертах, буколика наизнанку, описание бедствий крестьянства, раздавленного по вине зачинщиков гражданской войны, разоренных и одичалых селений, жестокости человека, отнимающего корм у несчастных животных. В «Бедах» д'Обинье передает жалобный стон малых и слабых, заглушаемый вскоре громогласным «Те Deum» победителей и тонущий в сплошном грохоте оружия: эти славные звуки куда больше волнуют даже побежденных. Поэт идет дальше, выражая немой протест земли, превращенной неблагодарными людьми в пустыню. Этот сельский дворянин, знакомый с Вергилием, благоговеет перед красотой природы, питает сочувствие к труженикам нивы и даже с какой-то нежностью относится к вечно уничтожаемому полевому и лесному зверью. Но назидания и дотошное перечисление примеров голода и разрухи в Израиле то и дело загромождают безличной риторикой картину бед французской земли. Яростные проклятия по адресу Екатерины Медичи и кардинала Лотарингского посягают уже на тему второй песни, и автор, увлекаемый собственной причудливой фантазией, обращается к сатире.
Во «Властителях» этот гугенот обличает распутство и мотовство королевских особ в обвинительной речи.
Грубый Карл IX, болезненный человек и вместе с тем свирепый, охотник, в каждодневной бойне ожесточивший сердце, бесчувственное к зрелищу агонии и крови; Генрих III, с морщинистым бритым лицом, нарумяненным и набеленным. Когда Генрих Валуа театрально кается во время осмеянных д'Обинье процессий флагеллантов, кается он, вне сомнения, в тех самых грехах, в которых обвиняет его поэт, и сокрушенному королю они представляются не менее тяжкими, чем его обличителю-протестанту. Екатерина, прибегавшая к услугам некромантов и астрологов, вероятно, была бы не слишком удивлена тем, что д'Обинье вменяет ей в вину преступное колдовство. Она здесь напоминает одну из ведьм самой таинственной трагедии Шекспира «Макбет». Получается, что сами правители Франции живут согласно предсказаниям, согласно причудливой воле Судьбы и, скорее, плывут по течению, нежели распоряжаются чем бы то ни было. В них нет благородства. Это плуты, которых судьба забросила на самый верх социальной лестницы. Беспорядочная деятельность королевы-матери, склонной к интригам и компромиссам, которая, пользуясь всеми благами и властвуя в годину всеобщих бедствий – это и есть воплощение абсолютного бессилия человека перед Судьбой. Безумные капризы и безумные расходы последних представителей королевского рода Валуа в обобщённой форме воплощают неразумность и слепоту Человека в целом, Человека, который возомнил себя правителем мира.
В следующей части, называемой «Золотая палата», автор бичует коррупцию и бездушие судей. Бог сходит с небес, дабы выяснить, что творится в суде, и в этом чертоге, построенном из человеческих костей, скрепленных пеплом, его взору предстает скопище гротескных персонажей, чей колоритный облик достоин полотен Босха или Брейгеля: вот похрапывает Глупость; вот Алчность, одетая в лохмотья, прячет свои золотые; Невежество берется без устали судить, считая все дела пустяковыми; вот источающее гной Ханжество; безликое Тщеславие; Угодничество, готовое подписать любой приговор; вот поддакивает всем безгласный Страх, а Шутовство обращает преступления в шутку; вот, наконец, Молодость, смело введенная поэтом в эту ассамблею гарпий: она жадна и безрассудна; услужливый кравчий на пиру сегодняшних богов, она, не задумываясь, подливает в их чаши кровавый напиток. В исполненных высокого реализма и поэтического дерзновения стихах описано испанское аутодафе, происходящее прямо пред очами Божьими.
Следующая песнь, «Огни», – быть может, самая запоминающаяся из семи книг поэмы. Бог все еще присутствует, наблюдая воочию судебные преступления, и потрясающее, невыносимое перечисление брошенных в костер еретиков продолжается до тех пор, пока Абсолютное Существо, пожалев о сотворении мира, не возвращается в гневе на Heбeca. Мир религиозных войн – это лишь слабое отражение того вселенского хаоса, который готов проникнуть и в высшие сферы, в божественные чертоги. Эта часть поэмы представляет собой подробное описание предсмертных мук бесконечной вереницы жертв: Анн дю Бур, советник парламента, заживо сожжен в Париже; Томас Кранмер, примас Англии, сожжен в Оксфорде; Уильям Гардинер, английский купец, которому отсекли обе руки, сожжен в Лиссабоне; Филиппа де Лен, госпожа де Граверон, сожжена на площади Мобер после того, как палач отсек ей язык; но здесь же, рядом с ними, – и. некий Томас Хокс, сожженный в Кокшэле; некая Анна Эскью, сожженная в Линкольне; Томас Норрис, сожженный в Норвиче; Флоран Вено, казненный в Париже; Луи де Марсак, сожженный в Лионе; Маргарита Ле Риш, книготорговка, сожженная в Париже; Джованни Моллио, монах-францисканец, удавленный в Риме; Никола Кроке, торговец, повешенный на Гревской площади; Этьен Брюн, земледелец, сожженный в Дофине; Клод Фуко, казненная на Гревской площади; Мари, жена портного Адриана, заживо похороненная в Турне и т.д. Это описание в чём-то напоминает знаменитый задний фон Босха в его триптихе «Сад земных наслаждений», особенно в той части, что посвящена аду. Кто-то кого-то деловито мучает, получая при этом садистское наслаждение, и в результате создается впечатление, что мир не создан по замыслу божьему, а является лишь жемчужиной неправильной формы, или барокко по-португальски. Жемчужина неправильной формы – это результат жизнедеятельности больного моллюска. И такая метафора, по мнению современников, лучше всего отражала окружающую действительность. На смену упорядоченной системе средневековой божественной иерархии пришёл хаос, пришла эпоха Барокко.
Понятна поэту и классическая тактика палача – искусство унижать, топтать свою жертву до тех пор, пока, утратив человеческий облик, она не станет внушать отвращение вместо жалости. Ему известен также банальный механизм, заставляющий людей состязаться в жестокости, словно из страха, что их участие в акте коллективного изуверства окажется неполноценным. На сей раз мы забываем о литературе: страшное повествование, с одной стороны, о пытках, с другой – о мужестве, перед которыми воображение равно бессильно, – из той же категории, что рассказ о погроме, отчет из Бухенвальда или свидетельство очевидца Хиросимы. Не случайно Ортега-и-Гассет скажет, что барокко по своему мироощущению окажется очень близко всему XX веку.
В следующей части поэмы «Мечи», наконец, сами ангелы рисуют на небесном своде кровопролитные сцены религиозных войн, представляя их на праведный суд Всемогущего. Разумеется, все эти сцены показывают бесчинства и зверства католиков, также как в «Огнях» мучениками всегда были протестанты; но несмотря на ограниченность предвзятых симпатий и пристрастного негодования д'Обинье, его по-настоящему терзает ужасная проблема жестокости человека к человеку. Завершается этот эпизод общей поэмы подробным описанием Варфоломеевской ночи. Воссоздавая это мрачное происшествие из жизни Парижа, д'Обинье смешивает на картине цвета сажи и пламени, достигает выразительности резким контрастом светотени, в манере Караваджо, этого ярчайшего представителя эпохи римского барокко, о котором мы будем говорить в этой книге.
В «Возмездиях» д'Обинье изображает мучителей, настигнутых скорым наказанием: смертью от несчастного случая или тяжелой болезнью.
И, наконец, мы переходим к финалу поэмы – возможно, самой прекрасной из всех песен, озаглавленной «Суд». Именно в этой последней части поэмы дано глубокое объяснение мирового порядка в мистическом таинственном духе. И если, согласно барокко, мир – это результат жизнедеятельности больного моллюска, то в последней части своего грандиозного произведения Д’Обинье определяет Бога как универсальное начало, действие, необходимость, цель и обновление вместе взятые. Если Бог и цель, и одновременно воплощение постоянного обновления, то это как нельзя лучше доказывает, его, Бога, неопределённость или, если хотите, языческую расплывчатость. Исследователи не раз объясняли, что христианские протестантские взгляды поэта были скорректированы его увлечением философией Платона и неоплатоников. Хотел ли того автор или нет, христианская мысль проникнута здесь влиянием античной философии: перед нами юный д'Обинье, в семь лет переводивший Платона, школяр, благодаря Аристотелю открывший некоторые умозрения досократовской мудрости. Заметно, что поэт листал неоплатонический трактат «Божественный Пимандр», переведенный его другом Франсуа де Кандалем, откуда позаимствовал определение Бога, определение, которое во всём противоречило сложившимся средневековым канонам. Не будем забывать, что Реформация была порождением Ренессанса, его одним из важных интеллектуально-либеральных движений, когда мистицизм, герметические науки в виде алхимии и каббалы, а также в виде увлечения языческой философией были нормой. Именно из этой суровой смеси сомнений и опасных поисков и появится Барокко как результат некогда единой эстетики Возрождения. Жемчужина неправильной формы отбрасывает зловещую тень на некогда правильные и безупречные пропорции Ренессанса. И если Ренессанс в его увлечении язычеством только начал тему богооставленности, то сначала маньеризм, а затем барокко довели дело до логического завершения. И теперь мир стал отражением не божественного порядка, а хаоса и власти случая, или всесильной Судьбы.
Продолжат эту тему богооставленности и восстания на небесах такие представители протестантского эпоса в эпоху барокко, как голландец Йост ван ден Вондел с его трагедией «Люцифер» и англичанин Джон Мильтон «Потерянный рай».
Но тема восстания ангелов была напрямую связана с оправданием Люцифера, с его героизацией. Так причём же здесь эстетика безобразного? Как это может быть связано? Дело в том, что в христианской традиции Люцифер – само воплощение безобразного. Таким он предстаёт у апостола Петра. В Acta Sanctorum мы встречаем подробное описание князя мира сего: «Свирепый, устрашающего вида, с крупной головой, длинной шеей, землистым лицом, жидкой бородёнкой, мохнатыми ушами, насупленным лбом, диким взглядом, зловонным ртом и лошадиными зубами; рот его извергает пламя, пасть грозно разинута, губы большие, голос мерзкий, космы опалены, грудь впалая, бёдра шершавые, ноги кривые, пятки толстые». В звероподобном обличии его описывают отшельники, и постепенно, час от часу становясь безобразнее, он проникает в патристическую и средневековую литературу, особенно культового характера. Так дьявол является Рудольфу Глабру: «Во время моего пребывания в монастыре блаженного мученика Леодегария в Шампо как-то ночью, перед заутренней, в ногах моего ложа возникла невзрачная фигура жуткого вида. Это было, насколько мне удалось разглядеть, существо невысокого роста, с тонкой шеей, исхудалым лицом, совершенно чёрными глазами, сморщенным лбом, приплюснутым носом, выступающей челюстью, толстыми губами, узким заострённым подбородком, козлиной бородой, острыми мохнатыми ушами, взъерошенными волосами, собачьими зубами, клинообразным черепом, впалой грудью, с горбом на спине, трясущимися ляжками, в грязной отвратительной одежде; он тяжело дышал и трясся всем телом».
- Секреты великих композиторов
- Психология древнегреческого мифа
- Безобразное барокко
- Оперные тайны
- Безумное искусство. Страх, скандал, безумие
- Как начать разбираться в архитектуре
- Роковой романтизм. Эпоха демонов
- 55 историй любви в заметках филолога. Кто вдохновлял известных писателей
- Падшее Просвещение. Тень эпохи
- Страсти по опере
- Страстное искусство. Женщины на картинах Ван Гога, Рериха, Пикассо
- Живопись и архитектура. Искусство Западной Европы
- История всех времен и народов через литературу
- Последние Романовы. Жизнь семьи. Конец империи
- Безумные русские ученые. Беспощадная наука со смыслом
- История кино
- Великие личности и эпохи через литературу
- Моя вкусная опера
- 50 музыкальных шедевров. Популярная история классической музыки
- Русский романс. Неизвестное об известном
- Анализ красоты