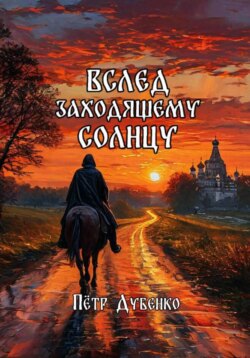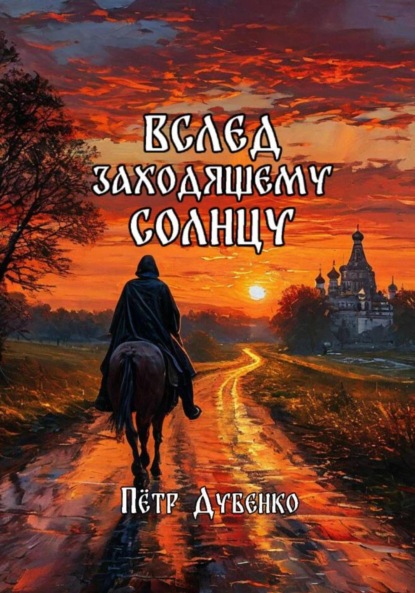Глава первая
Стоя у чердачного оконца, Иван Воргин следил за ликованием москвичей с презрением и завистью: бескорыстный восторг наивных людей у него вызывал глумливую насмешку, но в глубине души он жалел, что сам на такое давно не способен. Иван даже плюнул и раздражённо взъерошил колючий ёжик бородки, когда два десятка горожан в порыве бросились к проему Водяных ворот1 и пали на колени прямо среди мостовой. Стражники поспешили растащить завал и когда с дороги прогнали самых упорных, из широкой каменной арки, наконец, показались два всадника.
Чуть впереди – буквально на шаг – на статном гнедом жеребце ехал совсем молодой человек в алом плаще и простой писцовой шапке совсем без украшений. Румянец на пухлых щеках, отсутствие усов и чисто бритый подбородок говорили о юных его годах, но та сдержанность, с которой он принимал восторженные крики горожан, выдавала того, кто успел уже привыкнуть к почёту и славе. А ведь всего-то три года назад его никто не знал, и случись столичным глашатаям надорвать связки, заставляя москвичей вознести здравицу в честь Мишки Скопи́на, даже самый нищий простолюдин не повёл бы ухом.
Его звезда разгорелась в то непростое время, когда Русь окутала непроглядная тьма. После смерти вора Отрепьева узкий круг избранных бояр объявил, что царём теперь будет Василий Шуйский. Но несогласных с этим оказалось слишком много, и как грибы после дождя стали появляться новые самозванцы. Им с радостью присягали города и крепости открывали ворота, а войска Шуйского под началом его брата Дмитрия терпели одно поражение за другим. Вскоре на юге безраздельно хозяйничал царик2, в западных землях свободно гуляли поляки с литвой, Псков и Новгород всерьёз хотели отложиться, а Москву осадил крестьянский вождь Болотников3.
Вот тут-то и расправил крылья Скопа́4 – царский племянник, которому едва исполнилось двадцать. Взлёт начался с того, что он прогнал от столицы лапотное войско. Потом ещё разбил его на Восьме и Вороньей, загнал в Тулу и добил там с концами. А когда в семнадцати верстах от Кремля лагерем встал тушинский вор и власть Шуйского уже держалась даже не на волоске, Скопин взял с собой всего полторы сотни конных, покинув Москву, просочился через мятежные земли, урезонил Новгород со Псковом, и явив дальновидность, достойную седого старца, призвал в союзники шведскую корону. Теперь уже во главе небольшого войска из русских дворян и наёмных драгун, он сначала трижды – у Торопца, Торжка и Каменок – разбил поляков Керножицкого. Потом под Тверью разгромил гусар Зборовского, а в страшной Калязинской битве, что длилась целых три дня, одолел до того непобедимого гетмана Льва Сапегу.
Слава убежала далеко вперёд него и вскоре со всех концов разорённой земли к Скопе потянулись малые отряды. Так что зимой десятого года он вернулся к Москве уже во главе двадцати тысяч. Тушинский вор и не подумал вступать в битву – просто бежал, прихватив казну. Освобождённая Москва, наконец-то, вздохнула спокойно, а по всей Руси люди заговорили, что скоро проклятой смуте придёт конец. Правда, Смоленск ещё оставался в польской осаде, но в том, что это ненадолго, теперь не сомневался даже самый последний нытик и мракодумец, ещё вчера хоронивший русскую землю.
Чуть позади Скопы держался генерал наёмных шведов Якоб Делагарди. Он горделиво восседал на статном скакуне, одна уздечка на котором стоила дороже всех доспехов Скопина, а благодаря широкополой шляпе и ленте синего шёлка, повязанной прямо на кирасу, среди серых армяков и тулупов выглядел распустившим хвост павлином. И хотя швед понимал, что восторг ревущей толпы вызывал не он, а его русский спутник, это не мешало ему греться в лучах славы: иноземец улыбался, махал москвичам рукой и на ходу отвешивал поклоны.
От воротной башни оба всадника вдоль кремлёвской стены направились по Васильевскому спуску. За ними потянулись сначала ряды знамён и хвостатых штандартов, потом плотные шеренги всадников: под тусклым апрельским солнцем начищенной сталью сверкали шеломы русских дворян и морионы5 шведских драгун, густым лесом колыхались вздёрнутые пики и чёрные от смазки стволы мушкетов. Продвигались они медленно, иногда подолгу топчась на месте. Под копыта коней то и дело летели охапки первых полевых цветов, мужики бросали на мостовую шапки, бабы стелили платки, от ближайших лавок волокли холсты дорогих материй, чтобы прокрыть ими бревенчатый настил. На Красной площади от края до края бурлило людское море, даже в широких проходах Никольской, Ильинки, Варварки, где в обычный день спокойно разъезжалось пять возов разом, теперь яблоко не смогло бы упасть, и, глядя на это столпотворение сверху, Иван недобро улыбнулся, подумав, что дергачи6 сегодня озолотятся, а завтра в избе разбойного приказа от обиженных не будет отбоя.
При этой мысли Воргин вспомнил, что и сам оказался в светёлке над харчевней дальних торговых рядов не просто так – его привела сюда служба. Проводив взглядом Скопина и Делагарди, уже въезжавших на мост перед Фроловской башней Кремля, Иван отошёл от окошка и сел на широкую лавку, одним торцом прижатую к стене, другим примыкавшую к печной трубе, выраставшей из дощатого пола и через скошенный потолок уходившей наружу. Иван не спеша стянул сапоги, размотал портянки и обернул их вокруг голенищ. Потом снял шапку, выпустив на волю копну непослушных кудрей цвета спелой пшеницы, лёг, под голову подложив смятый треух, и поднял ноги, прижав босые ступни к шершавой кирпичной кладке – ждать предстояло долго.
На улице загудел благовест к вечерне, и вместе с колокольным звоном в комнатушку хлынул розоватый свет заката. Иван посмотрел в окно. Оно выходило на Запад, и за грязной плёнкой пузыря расплывчатый пунцовый шар быстро скользил над морем городских крыш, словно спешил до темноты сбежать за стены Скородома7, где после долгого трудного дня уже давно спала другая Русь. Большинство москвичей и не подозревало, что снаружи трёх крепостных колец – Кремль, Белый город и земляной вал – есть ещё иной мир, совсем не похожий на этот. Но Иван-то доподлинно знал, что он существует, ибо не так давно сам был его частичкой.
В те далёкие дни, изнутри заперев разбойную избу одного из Подмосковных станов, губной староста8 Воргин проходил из приёмных хором в маленький жилой покой, где на трёх саженях умещалось всё его добро. Там ложился на полати у печи и, закрыв глаза, ждал, когда закончив все дела с хозяйством, придёт она. Наталья. Её шагов он никогда не слышал, но безошибочно угадывал, что она рядом по лёгкому шороху юбки и аромату свежего хлеба, что всегда исходил от неё на закате. Наталья прижималась тёплым телом, рассыпав по его груди густые кудри. Иван одной рукой обнимал её за округлые мягкие плечи, другой проводил по голой спине, тут же забывая про усталость и тревоги, что не давали покоя днём. С тех пор прошло всего четыре года, но сейчас, когда Иван лежал на лавке в холодной светёлке с пучками сухой травы на балках и горой пыльных коробов вдоль стен, ему казалось, что всё это было очень давно.
Тихий стук вывел его из приятной полудрёмы. Иван резко сел, тряхнул головой, избавляясь от остатков грёз, в два движения намотал портянки, надел сапоги. Быстро подошёл к низкой дверце в торцовой стене и выглянул наружу. Сразу от порога круто вниз уходила столь узкая лестница, что тощий, как жердь мужичок повернулся на ступеньках полу-боком, чтобы не застрять худющими плечами меж двух бревенчатых стен. Снизу потянуло горячим сквозняком, и вместе с запахом варёных кур и квашеной капусты до Ивана донёсся приглушённый гул, в который сливались скрежет раздвигаемых столов, скрип лавок, стук деревянной посуды, суетливые крики стряпух и степенный разговор гостей.
– Ну? – Спросил Иван вместо приветствия.
– Пришли. – Торопливо ответил хозяин харчевни Никита Бондарь, невольно ёжась под пронзительным взглядом чуть сощуренных глаз цвета оружейной стали. – Говорил же, придут. Кажну пятницу после вечерни – строго. И как всегда, в отдельный кут сели. Токмо обычно два штофа9 брали, а нынче ажно три попросили. Хе. На радостях, видать.
– Три? – Переспросил удивлённый Воргин. – Это сколько ж их?
– Пятеро. – Ответил харчевник и смущённо улыбнулся. – Ты, Иван Савич, это… Ну… Может, как бы. Пущай заплатят сперва, а потом уж, ну… Того. А?
Иван закатил глаза. Жадность Никиты давно стала притчей во языцех. Он и прозвище своё – Бондарь – получил не потому, что вышел из семьи мастеровых, а за то, что никогда не покупал для харчевни новых бочек. Вместо этого по дешёвке брал уже непригодное старьё и собственноручно подновлял его: если подгнивала нижняя часть, что с винной тарой случалось чаще всего, Никита отпиливал дно, заново нарезал уторы и укорачивал обруч, отчего ёмкость порой уменьшалась на треть; а течи латал смесью воска и сала. Так что в его заведении были самые мелкие в городе кадки, бока которых украшали белые разводы – воск пропитывал древесину и выступал на поверхность затейливым узором.
Именно жадность Никиты и свела его когда-то с Воргиным. Частным харчевням запрещалось продавать любой хмельной напиток. Торговать выпивкой мог только государев кабак, расположенный в соседнем переулке. Тамошний целовальник, покупая водку на царских винокурнях по тридцать копеек за ведро, доливал в него штоф воды. Крепость от такого страдала не сильно, так что неприхотливый пропойца подвоха не замечал. Зато из десяти начальных вёдер выходило ещё одно, и держатель кабака за двадцать копеек сбывал его Бондарю. А уж тот, конечно, слегка разбавив для начала, тайно продавал водку по штофам, выручая с того же ведра уже семьдесят копеек. Это устраивало всех, но чтобы так оставалось и дальше, иногда Бондарю приходилось иметь дело с Иваном, который, как подьячий10 разбойного приказа, должен был регулярно ловить тартыг – так называли тех, кто незаконно покупал в харчевнях пойло.
– Ладно. Не боись, не разорю. – Усмехнулся Иван. – Веди.
Они спустились по лестнице. Через поварню, окутанную плотным и пахучим паром, в котором мелькали тени полуголых баб, попали в длинный узкий коридор. Оттуда, миновав пару комнат, заваленных грязной посудой, прошли в просторную палату, где при тусклом свете трёх потолочных фонарей за одним длинным столом, прибитым к полу, трапезничало три десятка человек. Воровато оглядевшись, Никита взглядом указал на одну из пяти дверей в торцовой стене. Там располагались отдельные покои как раз для тех, кто кроме угощений жаждал получить ещё и немного удовольствий. Иван кивнул, отпуская Бондаря, а сам осторожно прижался ухом к стыку косяка и двери. Голоса звучали глухо и невнятно, но для Ивана подслушивать было частью ремесла, привычной работой, так что, упуская иногда одно-два слова, он всё же легко понимал общий смысл беседы.
Один из гуляк – судя по всему в компании главный, ибо говорил больше других и всегда назидательным тоном – возмущался, что теперь для похода к осаждённому Смоленску придётся заплатить наёмным иноземцам хотя бы часть из ста тысяч ефи́мков11, обещанных царём за помощь. Опять казне занадобятся деньги. Много денег, так что их – купцов и прочий торговый люд – наверняка, в очередной раз заставят развязать мошну.
– Так ведь в прошлом году на иноземцев собирали. – Удивился другой голос, взволнованный и ломкий. – Помню, отец говаривал, мол, даже особливу пошлину ввели.
– Угу. – Угрюмо подтвердил третий. – С нас тоже взяли. Тогда говорили, мол, иноземцы без платы в бой не идут. Вот и собирали. Нешто не хватило?
– Хватило, вестимо. – Насмешливо хмыкнул главный. – Да токмо к шведам они не дошли.
– Как так? А куда ж делись?
– Взделись. Царь наш, прости господи меня грешника, в таков день сквернословить… Всё, что собрали, хану посулил.
– Крымчаку-то?
– Крымчаку. Дабы он тушинцам в зад ударил.
– А что? Толково. – Пробасил ещё кто-то, кто до этого молчал.
– Ага, толково. Вдарить-то крымчак вдарил, да токмо как разок в ответ получил, так развернулся и ветром восвояси. А по пути ещё окраину разграбил. Говорят, десять тыщ русских людей в полон увёл. Во как. Так что толку вышло шиш да маленько, а денежки – тю-тю.
– Вот тебе раз.
– То и оно. А шведам тогда, дабы не ушли, Скопа сам заплатил. Монахи из Троицкой Лавры, как сняли с них осаду, на радости всю казну выгребли. Тем и спасли. – Раздался стук деревянных кружек и голоса на время смолки. – Но коль скоро то, что с нас собрали, царь профукал, нынче ещё надобно. А где взять? Бояр тронуть Васька остережётся. Без того шатость. Стало быть, сызнова нас теребить станут. Вот так-то
Среди шума общей палаты Иван не услышал, но спиной ощутил, что к нему приближаются двое. Он обернулся. Перед ним, всем видом выражая готовность к делу, стояли Минька Самоплёт, прозванный так за хорошо подвешенный язык, которым мог разговорить даже немого; и Федька Молот, который, будучи на вершок выше горшка ростом, одним ударом кулака валил с ног быка. Оба вот уже пару лет ходили в не вёрстанных приставах, что за службу не получали казённых выплат, а кормились сами за счёт откупов и сборов, потому с радостью встревали в любое дело, обещавшее хоть какой-нибудь доход.
– Там их пятеро. – Деловито сообщил Иван, надевая потёртые перчатки. – Так что сразу в нахрап идём. Минька, ты прям с порога стращать начинай. А мы с Федькой оправиться не дадим, ежели вздумают. Ясно?
– Как божий день. – Кивнул Минька с той нахальной улыбкой, что так нравится юным девам.
Проворные тонкие руки юркнули под по́лу кафтана, где Минька прятал самодельный шестопёр – короткую палку со стальным шаром на конце. Карие по-татарски чуть раскосые глаза озорно светились и смотрелись странно в сочетании с русой щетиной на высоких, по-славянски чётко обозначенных скулах.
Иван тоже сунул руку под армяк, расстегнул там ремешок кобуры на правом боку, выхватил короткий пистолет, заткнул его за пояс на животе и, хотя в стволе не было заряда, даже взвёл курок на кремневом замке. К счастью в подобных делах до стрельбы не доходило, а вот как средство припугнуть строптивых, пистолет был не заменим.
Федька молча отступил на шаг, чтобы в следующий миг ударом ноги выбить дверь, но Иван остановил его:
– Погодь. Пущай сперва расчёт дадут.
Молот презрительно фыркнул, отчего лопата бороды на круглом лобастом лице мелко задрожала.
– Не токмо ты жрать хошь, Феденька. – Тонкое лицо Миньки скривилось в насмешливой гримасе.
Федька опять промолчал, лишь недовольно мотнул головой. Его огромные ладони легли на кожаный пояс, короткие толстые пальцы забарабанили по пряжке. Большая тяжёлая челюсть мерно двигалась вверх-вниз, будто Молот что-то жевал, хотя Иван прекрасно знал, что сейчас Федька думал только о деле.
Казалось, в молчании прошла вечность, прежде чем дверь подалась, и спиной вперёд, слегка кланяясь при каждом шаге, их кута вышел молодой прислужник. Одну руку он благодарственно прижимал к груди, в другой держал поднос, где рассы́палось полдюжины серебряных монет.
Иван знаком приказал Молоту не спешить, и лишь когда прислужник скрылся в полумраке задних комнат, разрешающе кивнул. Федька расправил могучую грудь, свёл лопатки, отчего жирно хрустнуло в хребте, потом с ловкостью и быстротой, небывалых при его фигуре, рванул вперёд и плечом обрушился на дверь. Та с треском распахнулась и внутри ударилась о стену, отчего с потолка посыпалась мелкая белая крошка.
В разом наступившей тишине Иван медленно переступил порог и огляделся. Почти всё пространство тесной комнатушки занимал большой стол, на котором среди блюд, чашек и горшков намётанный взгляд сразу нашёл две квадратные бутыли из зелёного стекла. На лавках вдоль стен сидело пятеро юнцов – тому, кто на вид казался старше всех, судя по нежному пуху на верхней губе, ещё не стукнуло и восемнадцать. Все они испуганно сжались, замерли в нелепых позах – один так и держал на весу ложку, с которой капал бульон – и смотрели на ворвавшихся людей округлёнными от ужаса глазами.
– А что замолчали, сударики мои? – Раздалось за спиной Ивана и он, даже не обернувшись, знал, что там сейчас происходит. Стоя в дверном проёме, Минька Самоплёт обращался к посетителям харчевни. – Никто не умер, да и судный день не скоро. Просто разбойный приказ блюдет в городе порядок. Честным людям беспокоиться не стоит. Так что угощайтесь, ешьте, пейте на здоровье, да платить не забывайте.
Жалобно проскрипели искалеченные петли, и Минька, закрыв дверь, подошёл к столу.
– О-о-о! А что это у нас? – Он аккуратно постучал железным шаром шестопёра по горлышку бутылки и, склонившись над ним, потянул носом воздух. – М-м-м. Хлебное вино12 что ли? Да тут, никак, питейники сидят, Иван Савич.
– Ай-яй-яй. – Иван сокрушенно покачал головой.
Он держал руку на пистолете, поглаживая пальцем спусковой крючок, и внимательно следил за юнцами. Двое из них по-прежнему боялись шевельнуться и ещё больше бледнели с каждым словом Самоплёта, хотя и так были белы, как новая простынь. Двое других потихоньку приходили в себя: руки их перестали дрожать и взгляд уже не метался по комнате, как у затравленного зверя. А вот пятый – тот самый единственный обладатель усов – порозовел, задышал ровнее и даже приосанился, уже готовый возмутиться действием незваных гостей.
Условным знаком, не приметным для остальных, Иван указал Молоту на возможного смутьяна. Федька, не подавая вида, медленно прошёл вокруг стола и встал рядом с парнем. Минька меж тем делал своё дело.
– Мда-а-а-а. Не хорошо, сударики мои. Ведь именной указ самого государя. А ведомо, что положено тем, кто его нарушает? Самый малый приговор – пара месяцев холодной. Вот кто-нибудь из вас в тюрьме бывал? – Минька печально вздохнул и любому, кто наблюдал за ним со стороны, могло бы показаться, что он искренне сочувствует несчастным. – Страшное место, доложу я вам, страшное. И десять дён не всяк переживёт. Холод, сырость, крысы. Спать на каменном полу, прямо в моче своей. А рядом аще душегуб какой, так он за корку хлеба в глотку вцепится. Уж сколь таких случа́ев…
– Ну, хватит звенеть. – Вдруг оборвал Миньку усатый паренёк. Он постарался говорить строго, даже с угрозой, но тонкий юный голосок не слушался и дрожал. – Коль сказок захочу послушать…
Никто из пойманных даже глазом не успел моргнуть. Федька вцепился левой рукой в плечо паренька, рванул его вверх, подняв на ослабшие ноги, и тут же правый кулак с тихим хлюпом врезался в живот. Несчастный рухнул на скамью и захрипел, пытаясь вдохнуть. Четверо других испуганно вздрогнули и замерли в самых нелепых позах. Иван нарочито медленно потянул пистолет, и юнцы вжались в стены.
– Ну вот. – Сокрушённо вздохнул Минька. – Ещё отпор разбойному приказу. Пара месяцев в придачу. Так, глядишь, и на полгода загоститесь. А ведь на что вам сия поруха, а? Вы же, как погляжу, из приличных людей. При деле каком, небось, состоите, раз в харчевню хаживать могёте. И вдруг такой позор – в холодной сидеть.
– Ох, взыщется с вас. – Через силу, едва слышно просипел усач. – Я Перевёрстов. Александр Гаври…
Тяжёлая Федькина лапа так сдавила шею юнца, что затрещали позвонки. И тут, глядя на покрасневшего, как рак Перевёрствова, у которого из носа хлынула кровь, один из его друзей вдруг громко всхлипнул, потом тихо заскулил, а в следующий миг разрыдался во весь голос.
– Ну-ну, чего ж так то. – Минька погладил его по плечу, но потом вдруг ухватил за кудри, рванул голову вверх и, глядя в мокрые глаза, ласково продолжил тоном любящей матери, что пытается убаюкать больного ребёнка. – Мы тоже ведь не звери всё же. Отчего же добрым людям встречь не пойти. Так что… Коль не охота в тюрьму, что ж… По рублю с рыла и… Да, Иван Савич?
Едва сдержав улыбку, Минька с озорной искрой в глазах взглянул на Ивана. Но тот вдруг нахмурился и грозно процедил сквозь зубы:
– Михаил Хабаров, я мздоимцев на дух терпеть не выношу. А за столь паскудные речи могу язык укоротить.
Минька растерялся. Свою роль он разыграл блестяще, впрочем, как и всегда, так что теперь ждал от Ивана похвалы, на худой конец, одобрительной улыбки, но услышанное не входило ни в какие берега. В поисках поддержки Самоплёт бросил короткий взгляд на Федьку, но тот стоял с каменным лицом, будто ничего не слышал.
– Всех на тюремный двор. – Распорядился Иван тем же строгим тоном. Краем глаза он заметил, что Минька собирался возразить, а потому грозно сдвинул брови и прикрикнул. – Ну! Кому сказано?!
– Ну… раз так. – Неуверенно протянул Минька, доставая из-за пояса путы – специальные верёвки с уже готовой петлёй, так что оставалось только надеть её на сомкнутые руки и затянуть узел.
– Молот. Выводи буяна первым. Другие сами дойдут. – Иван взял за шиворот двух сидевших рядом парней и вздёрнул их с лавки. – Чего сидим? Позолоченный возок ждём? Живей ворочайся.
Минька, быстро связав четверых одной верёвкой, так что теперь они могли идти только гуськом друг за другом, вытолкал всех в общую палату. Но когда Молот выволок из комнаты пятую жертву, Самоплёт вдруг вернулся и, недоумённо глядя на Ивана, опасливо спросил:
– Это… Иван Савич. А ты чего вдруг так-то?
– Чего так-то? – Передразнил Иван. – Ты слыхал, кем он назвался?
– Так это… – Неуверенно заговорил Минька. – Полувёрстов вроде.
Иван покачал головой.
– Сам ты Полувёрстов. Перевёрстов. Пере. Вёрстов. Александр Гаврилович. Теперь понял?
– И чего?
– Чего? Да это ж Гаврилы Перевёрстова сын.
Мгновенье Минька молчал, хмурясь и шевеля бровями, а потом присвистнул.
– Да ну? Неужто того самого?
– То-то и оно. – Иван поднял указательный палец. – А ты… по рублю с рыла. Тоже мне, делец. Да с этакой птицы такову мзду взять можно. Каждому на год безбедной жизни хватит.
Минька плотоядно улыбнулся, обнажив ряд тёмных зубов, где не хватало нижнего резца.
– Ох, Иван Савич. Ну, голова. Ведь я бы, ежели у них по рублю не нашлось, до полтины скосил бы. Ну, чтоб пустым не уходить. А ты, гля-ка. Голова-а-а-а. Как ты смекнуть-то успел?
– Ладно, покуда рано праздновать. – Мягко осадил Иван. – Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Стало быть, сейчас ведите их в тюремный двор. Пущай ночку помаются, чтоб сговорчивей были. Токмо гляди, чтоб к душегубам не попали. Не то, случись с ними что, так нам и полушки не взять. Пущай их в барышкину избу сунут, али в опальну. Там народ помягче. Агибалову скажешь, мол, Воргин удружить просил. Он устроит. А утром. – Иван подмигнул на глазах расцветавшему Миньке. – Утром уж всерьез займёмся. Ну, всё, поспешай, а то Молот там один с ними.
Минька кивнул и радостный бросился прочь. Он подбежал к двери и торопливо распахнул её. В харчевню хлынул вечерний свет, и полумрак общей палаты стал багряным. Солнце почти скрылось, вдали над крепостной стеной виднелся лишь тонкий оранжевый серп, дуга которого – Иван точно этого не знал, но почему-то думалось именно так – зависла как раз над Крутилово, далёким подмосковным станом, откуда четыре года назад он прибыл на службу в Москву. Некстати воскресшая память всколыхнула почти забытые чувства, так что Иван чуть не крикнул Миньке, чтобы тот сейчас же возвращался. Но в этот миг снаружи ворвался апрельский ветер. Морозный воздух с запахом талых луж, окатив лицо, забравшись под ворот кафтана, вернул Ивана в день настоящий, и через пару мгновений внутренней борьбы подьячий из разбойного приказа Москвы уже привычно взял верх над губным старостой захолустного уезда.
– Да чего уж там. – Тихо сказал Иван сам себе. – С волками жить, по-волчьи выть.