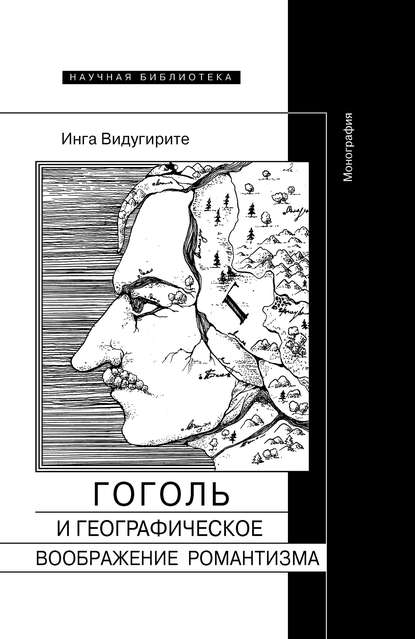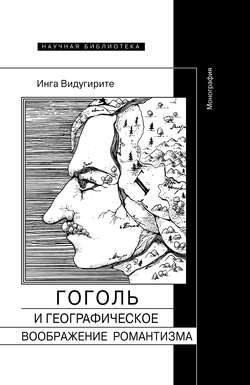
000
ОтложитьЧитал
Полемика с существующими подходами
На самом деле, темы, которые Гоголь затрагивает в статье о географии, созвучны его романтической картине мира и историософской концепции в целом. Так, отмечалось, что в статьях «О преподавании всеобщей истории» и «Несколько мыслей о преподавании детям географии», на основе которой появилась историческая статья, при определении задач преподавания двух наук используются одни и те же формулировки. О плане преподавания географии говорится: «В первом классе должен быть наброшен весь эскиз мира; все части земного шара должны составить одно целое, одну прекрасную поэму, в которой выразилась идея Великого Творца»[37]. Но те же цели выдвинуты и для истории: «…она должна собрать в одно целое все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое; из них составить одну величественную полную поэму» (VIII, 26)[38]. Комментатор отмечает, что это совпадение «само по себе не показательно, поскольку это любимая мысль Гоголя, многообразно укорененная в контексте эпохи»[39].
При таком подходе география Гоголя поглощается общими аспектами его художественного мира. Однако следует помнить, что сам Гоголь придавал географии самостоятельную ценность и отводил для нее автономную функцию. Он сохранил статью о географии в «Арабесках», хотя сначала вряд ли предполагал это делать. Более того, он перенес ее как одну из трех старых статей в готовившееся в 1851 – начале 1852 г. новое собрание сочинений. К тому же в последнее десятилетие своей жизни писатель весьма серьезно работал над ознакомлением с географией России и, согласно своей программе возрождения страны, считал, что приобретенное человеком в молодости знание о географии родной земли будет содействовать ее государственному и экономическому процветанию:
…чтобы вся земля от края до края со всей особенностью своих местностей, свойствами кряжей и грунтов врезалась бы как живая в память даже несовершеннолетнего отрока и было бы ему очевидно даже во младенчестве, какому углу России что именно свойственно и прилично, и не пришло бы ему потом в голову, придя в зрелый возраст, заводить несвойственные ей фабрики и мануфактуры, доверяя иностранным промышленникам, заботящимся о временной собственной выгоде. И точно таким же образом, чтобы ему еще во младенчестве видны были в настоящем виде качества и свойства русского народа со всем разнообразьем особенностей, какими отличаются его ветви и племена. Чтобы еще во младенчестве ему было видно, к чему именно каждый из этих племен способен вследствие орудий и сил, ему данных, и обращал бы он внимание потом, когда приведет его бог в зрелом возрасте сделаться государственным человеком, на особенности каждого из них, уважал бы обычаи, порожденные законами самой местности, и не требовал бы повсеместного выполненья того, что хорошо в одном угле и дурно в другом (XIV, 280–281).
Процитированный отрывок из неотправленного официального письма 1850 г. (адресатом должен был стать или гр. Л. А. Перовский, или кн. П. А. Ширинский-Шихматов, или гр. А. Ф. Орлов), в котором Гоголь мотивирует просьбу о финансовой поддержке, говорит в пользу того, что и в конце жизни писатель остался верен идеям романтической географии, в частности постулату о связи характера народа и его экономической деятельности с обитаемой им землей, который он излагал в статье «Мысли о географии» еще в 1835 г. Именно эта сохранявшаяся на протяжении всей жизни вера писателя в большое значение географического знания в развитии отдельной личности и всей страны побуждает пристально посмотреть на отношение его творчества к географии и к разговору о его географическом воображении, не сводя их к общим концепциям гоголевского наследия или романтизма в целом.
Ценность исследования темы в предложенных Киселевым терминах географизма (следы конкретных географических сведений или геофилософских представлений) заключается в первую очередь в выявлении обширного круга историко-географических источников начала XIX в. Сама же интерпретация последовательности и смены разных периодов географизма в творчестве Гоголя нуждается в основательной коррекции. Исследователь выстраивает периодизацию географизма на общепринятом представлении о развитии писателя по схеме «от Украины – к России» или «от романтизма – к реализму», которая, при более пристальном наблюдении, как раз и не находит опоры в контексте географических идей Гоголя. Киселев прав, утверждая, что геофилософская концепция Гердера была для Гоголя актуальной на протяжении всей жизни, о чем свидетельствуют ее следы во втором томе «Мертвых душ». Однако следует уточнить, что программное применение Гоголем идей Гердера к собственному творчеству относится ко времени создания «Вечеров…» и «Миргорода», т. е. к периоду наибольшего увлечения писателем историей Украины, и, как будет показано, они были усвоены им не по первоисточнику, а по трудам географического характера в московских журналах. Во втором томе «Мертвых душ» отзвуки гердеровской концепции следует трактовать как возвращение к принципам романтической историографии и географии в изображении современной России. Я намерена оспорить и киселевскую трактовку пейзажа в первых романтических повестях Гоголя, показав, что горный пейзаж в «Страшной мести», на первый взгляд «мифопоэтический», на самом деле основан на характеристике Карпатских гор в научном труде – «Картах…» Риттера – и создан почти сразу после публикации статьи «Несколько мыслей о преподавании детям географии», совпадая с ней в описании гор даже на уровне отдельных выражений. Этот факт не отменяет мифологического характера пейзажа, однако оспаривает толкование отношений между географией и литературой как внедрение отдельных элементов первой во вторую, вычленяемых «обратно» взглядом географа. Вразрез с периодизацией географизма Киселева идет и изобилующий географическими деталями пейзаж степи в «Тарасе Бульбе», который был создан Гоголем тогда, когда единственным географическим сочинением о южнороссийских степях было «Путешествиe по разным провинциям Российской империи» Палласа, но как раз следов этого описания и нет в гоголевской степи. Сведения, почерпнутые у Палласа в процессе конспектирования его труда, как показано и Киселевым, находят применение во втором томе «Мертвых душ», однако здесь они привлечены для создания пейзажа фантазии, по классификации К. Кларка[40]. Пейзаж фантазии по определению противоположен географизму как элементу географической реальности, так как рождается в воображении художника и призван выразить всеобщую гармонию мироздания, которую художник ему навязывает. Подобную тенденциозность пейзажа во втором томе «Мертвых душ» не скрывает даже созвучие описания с якобы реалистическим его «эскизом» в «Записной книжке» Гоголя, обнаруженное В. Т. Адамсом[41]. В последней главе книги будет показано, что географическому реализму здесь противостоит компиляция разнородных кусков реальности в одной картине, не говоря о том, что и увидена она по образцам живописи. Подобные несостыковки географических источников и художественных результатов их применения в прозе Гоголя заставляют искать другую логику использования писателем географических идей, чем логика внешнего развития творчества писателя. Вместе с тем представляется, что анализ с точки зрения географизма работает в направлении обособления литературы и географии и, выделяя географический элемент из эстетического целого, превращает его в самостоятельный объект исследования, что имеет свою ценность, однако не способствует углублению понимания внутренней связи между двумя областями – связи, которая для Гоголя была очевидной.
Последнее, что хотелось бы отметить в связи со сложившейся традицией изучения географических интересов Гоголя, – это то обстоятельство, что в ней не проблематизируется сама география как научная область, предполагается ее некая «объективность» и извечная «научность». Однако география переживала период большой неопределенности в России в тот момент, когда по вопросам ее преподавания выступил Гоголь. В Германии ситуация была совсем другая: к тому времени уже прошла смена парадигм внутри науки – был отброшен старый формат географии, когда она занималась классификацией и описанием отдельных явлений космоса, земли и людей, и утвердился современный подход, при котором земля и люди изучаются как взаимообусловленные элементы единой системы органической и неорганической природы[42]. Немного больше чем за десятилетие до выступления Гоголя в «Литературной газете» вышел труд Риттера «Землеведение в связи с природой и с историей человека, или Всеобщая сравнительная география» (1818), который, собственно, и положил начало современной теории географии. Новая география опиралась на геоантропологию Гердера и натурфилософию Шеллинга, а свою методологию вырабатывала на основе географических описаний Нового Света в работах Гумбольдта. Более подробно и в связи со статьей Гоголя речь о географии Риттера и Гумбольдта пойдет в первой части этой книги. Здесь же важно отметить, что в России имя и труд Риттера были известны немногим, и среди них до 1840‐х гг. не было географов[43]. Более того, в 1820‐е гг. в России стали отменять преподавание географии в университетах, считая, что как наука она несостоятельна[44]. Таким образом, ко времени публикации статьи Гоголя российская география и ее преподавание сохраняли старый, унаследованный от XVIII в. формат и вообще не представляли большого научного интереса. Положение стало меняться только с 1840‐х гг.[45]
На таком фоне проясняется значение выступления Гоголя. Он был первым, кто набросал основные идеи новой географии в их взаимосвязи, хотя в статье это можно было сделать только в предельно обобщенном виде. То, что он выступил по вопросам преподавания, также имеет непосредственное отношение к становлению новой парадигмы: именно в связи с обучением географии встали вопросы реорганизации ее области и методов в работах Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и И. Г. Гердера[46]. В своей статье Гоголь сформулировал идеи географического освоения мира, преображения географического знания в целостную картину Земли, через которую открываются смысл, красота и тайны Творения, как в этом был уверен и Риттер. Писатель говорил о закономерностях исторической жизни людей в отношении обитаемого ими пространства и настаивал на включении в сферу географии предметов, которые вошли в нее только в ХХ в. в рамках культурной и гуманитарной географии, – таких как история самой дисциплины или архитектура городов. Статья звучала как манифест новой географии и ее преподавания и одновременно – как манифест нового применения художественного слова, внедрения его в научный дискурс.
Новизны подхода Гоголя к географии современники не поняли и не оценили, а те, кто мог оценить, – промолчали: наиболее активный и последовательный популяризатор идей новой географии в России в первой половине XIX в. Н. А. Полевой не успел отрецензировать «Арабески» Гоголя – его журнал «Московский телеграф» уже был запрещен, в то время как Погодин, с которым Гоголь делился мыслями о планах географических и исторических сочинений, как можно предполагать[47], видел в эстетических аспектах геоисторического дискурса писателя профанацию науки, как, впрочем, и В. Г. Белинский[48]. Эстетизация науки, свойственная всем статьям Гоголя, стала объектом насмешек в немногочисленных рецензиях на «Арабески»[49]. Здесь же стоит предупредить и современные оценки статьи Гоголя как «художественной», в отношении знания географии «неглубокой» и т. п., тогда как на самом деле она отражала особенности дискурса романтической историографии и географии, который в начале XIX в. считался научным. Эстетизация науки отразила самую суть ее романтического периода и, в частности, суть всего этапа в становлении современной географии, которому статья Гоголя принадлежит. На эту особенность исторических статей Гоголя в их связи с французской школой романтической историографии уже указывалось[50], эту особенность следует подчеркнуть и в отношении географической статьи.
Оценить по достоинству воззрения и прозрения Гоголя можно только с точки зрения общеевропейского контекста географии начала XIX в.: на фоне «Космоса» Гумбольдта, который в начале 1830‐х гг. еще не был издан, или на фоне «Землеведения» Риттера, которое на русском языке появилось только после смерти Гоголя[51]. В этой книге будет показано, что романтический натурфилософский пафос, свойственный мыслям Гоголя о географии, восходил не к общему духу романтической эпохи, а к географическим сочинениям Гумбольдта и Риттера, и через этих авторов связывался с самой передовой мыслью научной географии. Другая цель книги – показать, что научный жанр географического пейзажа, разработанный в сочинениях Гумбольдта, и картографические образы, доступные Гоголю в период создания «Вечеров…» и «Миргорода», участвовали в построении художественного пейзажа его украинских повестей, а потом были применены и в «Мертвых душах».
Теоретический контекст исследования: географическое воображение и географическая оптика
На сегодняшний день словосочетание «географическое воображение» весьма распространено в исследованиях культуры, где применяется в достаточно широком спектре значения – от определения географии до индивидуального мышления о пространстве. Понятие было введено представителем гуманитарной географии Д. Харви в его книге «Социальная справедливость и город» (1973) и предполагало разные аспекты рефлексии пространства и существующих в нем человеческих отношений на уровне индивидуального сознания. Как научный термин географическое воображение оформлялось по аналогии и по контрасту с социальным воображением и как синоним географическому сознанию[52]. Однако 20 лет спустя в большом труде Д. Грегори «Географические воображения» (1993) понятие было заново концептуализировано как выраженное в терминах пространства социальное и историческое знание, отраженное в разнообразии географического дискурса. Начало этого дискурса было отнесено к появлению современной парадигмы географии в конце XVIII – начале XIX в., которая представляла исключительно европейскую науку[53]. Множественное число в названии книги Грегори оспаривало доминирование в географии европейского взгляда на мир и указывало на вариативность географического воображения, проявляющуюся как на научном, социальном, политическом, так и на художественном, коммерческом, бытовом уровнях.
В исследовании археологии современного географического воображения Грегори особое внимание уделил связям географии с визуальностью, восходящей к визуальным методам географического анализа, в которых взгляду-зрению-наблюдению отводится основополагающая роль. Согласно Грегори, становление новой парадигмы географии в Европе связано с географическим путешествием и начинается с открытия Океании и Австралии командой капитана Дж. Кука в середине XVIII в. Это были последние неизвестные европейцам территории мира, ставшие для них своеобразными лабораториями, в которых они наблюдали не только природу, но и незнакомого им человека, и на основе этих наблюдений выстроили концепцию человеческой истории. История воспринималась с точки зрения европейского развития, которое, как тогда понимали, далеко ушло от примитивной дикой жизни туземцев. В анализе описаний путешествий Кука, предпринятых И. Р. Форстером и Дж. Бэнксом, Грегори акцентирует первые проявления в географии того общего для Нового времени сдвига, который был описан М. Хайдеггером как сдвиг от мира к картине мира. Картина мира, согласно Хайдеггеру, выражает представление о мире как поверхности, наблюдаемой с позиции всезнающего человека-субъекта как «сущего, на котором основывается все сущее по способу своего бытия и своей истины»[54]. Грегори, так же как и Т. Митчелл[55], идеи которого его вдохновили, этот поворот осмысляет критически: в ходе освоения и осмысления новых территорий мира как данных взгляду путешественника образов пространства и людей, вне глубины и вне сложности разнообразных их связей, формировалось европейское географическое воображение, которое, воплощаясь в картах, пейзажах и описаниях, участвовало в процессе превращения мира в «выставку» (world-as-exibition), смысл которой – удивлять зрелищностью и поощрять к интерпретации зрительных образов[56].
Способы и объем научной, философской и художественной интерпретации материала, собранного во время географических путешествий, были раскрыты в фундаментальном исследовании Ч. Танга «Географическое воображение современности: география, литература и философия в немецком романтизме» (2008). Танг пришел к проблематике географии из другой области – интеллектуальной истории современности, изучая в первую очередь развитие философии, науки, а также связанные с ними явления художественной жизни в эпоху романтизма. Однако факт, что для оформления своей концепции он избрал понятие, уже существовавшее в географии, конечно, не был случайным. Тем более что его исследование непосредственно касается того же начального периода в истории современной географии, о котором писал Грегори, расширяя подход последнего анализом философских и научных источников, которые в эпоху романтизма причудливо смешались с импульсами, шедшими из литературы, искусства и педагогики.
Танг сосредоточил внимание на следующем после Кука и Форстеров поколении ученых – на деятельности Гумбольдтa и Риттерa. Оба они считаются основоположниками теории и методологии науки, поэтому их значение в географии сравнивают со значением И. Ньютона в физике[57]. Гумбольдт продолжил традицию своего учителя Г. Форстера и стал исследователем-путешественником, прославившимся научной экспедицией в Южную Америку и многочисленными географическими трудами, основанными на собранном там материале, которые венчало его универсальное описание Земли «Космос» (1845–1862). Риттер, который как путешественник был намного скромнее Гумбольдта, ограничиваясь в этом пределами Европы, был тем, кто собрал и обобщил на теоретическом уровне географические открытия и исследования и создал принципы и методы географического анализа земной поверхности, действительные по сей день[58]. Однако, как показано в исследовании Танга, все достижения географии на рубеже XVIII–XIX вв. были совершены благодаря ee тесной связи с философией и литературой немецкого романтизма. Именно в рамках взаимодействия науки, литературы и философии были созданы понятия, с помощью которых европейское общество приобрело возможность самоопределения и саморепрезентации в отношении пространства. Комплекс этих понятий и лег в основу специфического пространственного мышления, которое Танг определяет как географическое воображение.
Географическое воображение характеризуется тремя основными аспектами: 1) географической субъективностью – осознанием своей укорененности в земле и связи с ней; 2) пониманием конкретной культуры как рожденной и определенной географической реальностью, а также 3) пониманием географической обусловленности истории. Поэтому географическое воображение можно представить, с одной стороны, как систему знания о разных географических регионах мира в отношении к обитающим там людям, а в случае европейцев – и как комплекс представлений о собственной связи с землей, приведших в окончательном итоге к возникновению идеи национального государства. С другой стороны, географическое воображение осуществляет сам принцип мышления о Землe, который предполагает неизменное соотношение человека, его культуры и истории с обитаемым им географическим пространством. В таком виде географическое воображение может быть раскрыто в научном дискурсе, философии и художественной практике, что было сделано в исследовании Танга на примере культуры немецкого романтизма.
Выделенная Грегори визуальная проблематика географии в исследовании Танга раскрывается в связи с историей становления географического пейзажа/ландшафта[59] – понятия, определившегося в начале XIX в. в трудах Гумбольдта, посвященных описанию Южной и Центральной Америки, и предназначенного для описания одного или другого региона как внутренне взаимосвязанной системы живой и неживой природы и человека. Пейзаж до сих пор является основной единицей географического анализа земной поверхности, сохраняющей связь со своими истоками в географии Гумбольдта, который строил описание Нового Света как описание череды картин/видов – пейзажей, предстающих перед глазами географа-путешественника, рассказывающего о своих личных впечатлениях и опыте. Эти описания составили его книгу «Картины природы» («Ansichten der Natur», 1808), которая уже на уровне названия раскрывала ориентацию Гумбольдта на живопись, прямо названную автором во вступительном слове. Согласно Тангу, структура и толкование географического пейзажа у Гумбольдта опирались на эстетический труд К. Л. Фернова «О пейзажной живописи» (1803), заимствуя у последнего основные структурные принципы пейзажа как живописного жанра – его «холлистский, тотальный» характер и обязательное наличие субъекта, взгляд которого конституирует пейзаж и его символическое значение[60]. Эстетика пейзажа предполагала, что существует два возможных пути для бездушной природы стать символом человеческой души – через репрезентацию его чувств или через репрезентацию идей. Первая следовала законам музыки и порождала пейзаж настроения, вторая – выражала понятия (например, гармония форм, тонов, света служила выражением гармонии души), создавая аллегорический смысл пейзажа[61].
Приверженность Гумбольдта к теории и практике пейзажа существенно повлияла на его географическое творчество. Согласно Тангу, спаяв географию с эстетикой пейзажа, Гумбольдт протянул мост между природой и моральной сферой человека и тем самым предложил уникальную концепцию географического субъекта: полученная через опыт пейзажа эстетическая субъективность переходила в географическую, которая определялась природой и выражалась через отношение/чувство к ней[62]. Таким образом, перенимая у художественного пейзажа его структуру, география, дотоле существовавшая в виде классификаций явлений природы, стала одной из областей проявления эстетической субъективности, приближаясь в этом к литературе и живописи, у которых брала пример. Тем не менее не следует считать, что творчество Гумбольдта перестало быть научным или что оно превратилось в эклектическое сочетание эмпирических сведений и поэтических восторгов. Эстетический подход к пейзажу в его концепции географии систематически соотносился с получением и обработкой научных данных, что позволяет рассматривать ее с обеих сторон – как научную, так и художественную. По мнению Танга, именно этот процесс преобразования географии определил ее научный прорыв в начале XIX в.[63]
Оформление новой парадигмы географии и процесс освоения пейзажа как аналитического концепта географического исследования совпадает по времени с радикальным сдвигом в человеческом восприятии (который М. Б. Ямпольский определил как «превращение субъекта в наблюдателя»), явившимся главным следствием кризиса субъективности:
Субъект все в меньшей степени понимается как «человек мыслящий» и в большей степени как «человек наблюдающий». <…> В XIX веке, однако, теоретическая рефлексия постепенно заменяется «синтезом», связанным с узнаванием, памятью, расшифровкой и т. д., то есть операциями, весьма далекими от картезианской геометрии или теории перспективы[64].
Превращение субъекта в наблюдателя сопровождалось сдвигами в практиках зрения и в структуре видения, ставшими в последнее время объектом пристального внимания в визуальных исследованиях культуры. По мнению Дж. Крэри, стабильная до 1830‐х гг. фигура наблюдателя, для которого внешнее и внутреннее было четко разделено и гарантировало истину «реального мира», стала перестраиваться таким образом, что зрение приобрело независимость в отношении других человеческих чувств и внешних критериев истины и стало областью проявления субъективности[65]. Окончательное освобождение видения от требований истины и устойчивого идентитета проявилось в визионерских пейзажах У. Тёрнера уже в 1840‐х гг., намного раньше модернистской живописи, которая, как принято считать, утвердила субъективное видение как исток нового искусства[66].
В контексте истории наблюдателя география – с ее визуальными практиками исследования и распространения знания – предстает как область заинтересованного научного взгляда и соответствующих техник, нашедших выражение в географических картах и пейзажах. Именно в таком аспекте она осмыслена в работах географа Д. Косгроува, соотнесшего познание мира и его репрезентации в географии с живописью Возрождения[67]. Когда Грегори в «Географических воображениях» начал деконструкцию географического дискурса Нового времени как дискурса, основанного на визуальных практиках и интерпретациях видимости, он продолжил тему Косгроува, считавшего, что техники наблюдения и репрезентации, выработанные в ренессансной живописи, были перенесены в область географии, как раз в это же время интенсивно осваивавшей Новый Свет. В своем труде Грегори соотнес проблематику Косгроува с визуальными исследованиями Крэри и тем самым вписал субъекта географии в историю наблюдателя[68].
В исследовании техник наблюдателя у Крэри взгляд географа не выделяется как специфический, однако именно он является предметом анализа двух картин Я. Вермеера – «Астроном» (1668) и «Географ» (ок. 1668–1669). Для проекта о смене наблюдателя в XIX в., который осуществляет Крэри, в этих картинах важно подчеркнуть веру двух ученых мужей XVII в. в возможность правдивой репрезентации в виде визуального образа: «…внешний мир познается не через непосредственное чувственное изучение, а через ментальный обзор его „ясной и отчетливой“ репрезентации» – проекции на двухмерной поверхности географической карты и астрономического чертежа, соотносимых автором с camera obscura[69]. В контексте истории живописи Крэри отмечает вытеснение подобного наблюдателя иным, взгляд которого был определен новыми техниками XIX в. Однако в географии, вплоть до самого недавнего времени, взгляд и подход к миру у вермееровских Географа и Астронома сохраняли значимость научного инструмента и знания, как и не подвергалась сомнению их уверенность в правдивости картографического образа[70].
Другой случай географической оптики у Крэри, которую можно соотнести с наблюдением, свойственным географии, – картоподобнoe «Изображениe Венеции» Я. де Барбари (1500), послужившее ему примером в описании различия между двумя взглядами на город. Различие определяется через понятия ихнографии (геометрической проекции, представляющей план любого здания, увиденного как бы с высоты птичьего полета) и сценографии (пластического образа пространства сцены, наблюдаемого со стороны), введенные Г. В. Лейбницем для обозначения разных способов, каким тело является для Бога и для человека. Венеция Барбари предполагает свойственный Богу ихнографический взгляд и по его образцу строит своего наблюдателя[71]. Крэри противопоставляет ихнографический взгляд взгляду монадического наблюдателя, каким, например, является художник, рисующий отдельные сцены внутреннего пространства города (примером Крэри служат городские пейзажи Каналетто). Сцена может представить только одну из множества перспектив города, общий вид которого может быть дан только с высоты птичьего полета[72].
Когда Гумбольдт в своих географических сочинениях стал сегментировать и описывать земное пространство как «картины/виды природы», он постоянно играл сменой перспектив: от сценографического наблюдения пейзажей переходил к ихнографическому взгляду, изначально присущему картографии. Именно карта (реальная или ментальная) позволяла ему проводить сравнительный географический анализ разных частей света и делать обобщения на уровне всего земного шара, а также быть уверенным, что читатель его поймет. Гоголь – уже в области художественной литературы – наследовал техникам географического описания у Гумбольдта, которые применил в статьях по истории в «Арабесках» и в повести «Тарас Бульба». Поэтому я вернусь к более подробному описанию географического взгляда в последующих главах. Здесь же мне хотелось показать, что географический наблюдатель – в своих основных позициях картографа и субъекта описания географического пейзажа – оказался причастным к общей истории наблюдателя XIX в., а это, в свою очередь, означает изначальную причастность географического дискурса к бурному периоду становления современной визуальной цивилизации с ее многообразными способами видеть, репрезентировать, понимать и толковать мир. Причастным к ней оказался и географический дискурс Гоголя.
В этом исследовании я намерена показать, что географическая тема Гоголя резонирует с указанными теоретическими контекстами географии: она 1) отражает момент смены старой и новой парадигм; 2) развивает гердеровское представление об истории и культуре как результате взаимоотношений людей с окружающей их природой, т. е. является причастной к европейскому географическому воображению современности; и 3) подчеркивает зрелищную основу науки, работающей с географической видимостью мира. Гоголевская статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии» могла бы служить наглядной иллюстрацией построенного на зрительных практиках географического дискурса, который подвергается критике, например, в трудах классика постколониальных исследований Э. Саида, автора понятия воображаемые географии[73], в уже указанных работах Косгроува и Грегори или в разработке понятия имперского пейзажа в исследованиях У. Дж. Т. Митчелла[74]. В статье Гоголь создает типичные ориенталистские образы людей, обитающих в Азии и Африке, рисует впечатляющие картины их невежества на фоне соответствующей дикой природы и с наивным достоинством европейца своего времени говорит о «зрелости» и «мужестве» Европы. Тем не менее он не изобретает эти образы, а берет их из современных географических источников. Наглядный ориентализм является только частью большой темы писателя – темы зрения, которая универсальна для географической статьи и «Арабесок» в целом[75], и именно она находит созвучие с обширной проблематикой мира как видимости в культурной географии конца ХХ – начала ХХI в. [76]
Другой аспект проблематики географического воображения в творчестве Гоголя раскрывается в связи с его географической оптикой. Приступая к анализу европейской традиции пейзажа в аспекте заключенного в нем знания и власти, Косгроув писал: «Мы признаем географическую реальность, потому что можем ее видеть. Смотреть означает что-нибудь видеть и интеллектуально понимать одновременно. Способ, каким люди видят мир, неразрывно связан с тем, как они понимают мир и относятся к нему. Между 1400 и 1900 гг. европейцы значительно изменили свои способы смотреть. Один индикатор их видения есть идея пейзажа»[77]. Именно в такой связи мотив зрения оформляется в географическом дискурсе Гоголя, где зрение является способом понимать мир, а визуальные образы – его репрезентировать. В статье «Мысли о географии» он писал: «Величину земель, государств, никогда нельзя заучивать исчислением квадратных миль. Нужно только смотреть на карту – вот одно средство узнать ее» (VIII, 104). Я намерена показать, что в оформлении обширной гоголевской темы зрения географические источники сыграли свою немаловажную роль и что как раз в контексте зрения и зрительных образов география у Гоголя приобрела свою независимую ценность в отношении истории – главного предмета романтической мысли о человеке. Более того, унаследованная от географического дискурса оптика Гоголя определила жанр пейзажа в его художественной прозе. В этом смысле гоголевский пейзаж закольцевал взаимообращение идей между областью эстетики и географии: из первой – в трудах Гумбольдта – идея пейзажа попала в географию, из которой – в пейзаже Гоголя – она вернулась в эстетику.
- Свободные размышления. Воспоминания, статьи
- Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры
- Ольга Седакова: стихи, смыслы, прочтения. Сборник научных статей
- Хлыст
- Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков
- Блокадные нарративы (сборник)
- Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока
- Теория литературы. Проблемы и результаты
- Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой
- От противного. Разыскания в области художественной культуры
- «Вратарь, не суйся за штрафную!» Футбол в культуре и истории Восточной Европы
- Политика и литературная традиция. Русско-грузинские литературные связи после перестройки
- «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах
- Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года
- Транснациональное в русской культуре. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XV
- Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения
- Саломея. Образ роковой женщины, которой не было
- В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры
- Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик
- Другой в литературе и культуре. Том I
- Вырождение
- Гоголь и географическое воображение романтизма
- Энергия кризиса
- Проза Лидии Гинзбург
- Другая история. «Периферийная» советская наука о древности
- Язык и семиотика тела. Том 2. Естественный язык и язык жестов в коммуникативной деятельности человека
- Язык и семиотика тела. Том 1. Тело и телесность в естественном языке и языке жестов
- Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
- Владимир Шаров: По ту сторону истории
- К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
- Литература как социальный институт: Сборник работ
- Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича
- Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы
- Укрощение повседневности: нормы и практики Нового времени
- Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия
- Клио в зазеркалье: Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории. Коллективная монография
- От философии к прозе. Ранний Пастернак
- Нестандарт. Забытые эксперименты в советской культуре
- Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей
- Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения
- «И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы
- Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова
- Сценарии перемен. Уваровская награда и эволюция русской драматургии в эпоху Александра II
- Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве
- Свободный танец в России. История и философия
- «Лианозовская школа». Между барачной поэзией и русским конкретизмом
- Агония и возрождение романтизма
- В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
- Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино
- Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века
- Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика
- «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма
- Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»
- Культура. Литература. Фольклор
- Авантюристы Просвещения
- Сквозь слезы. Русская эмоциональная культура
- Прощание с коммунизмом. Детская и подростковая литература в современной России (1991–2017)