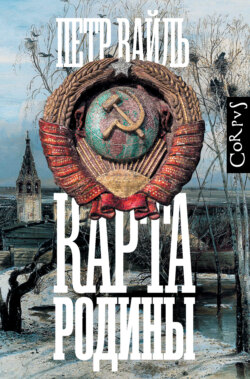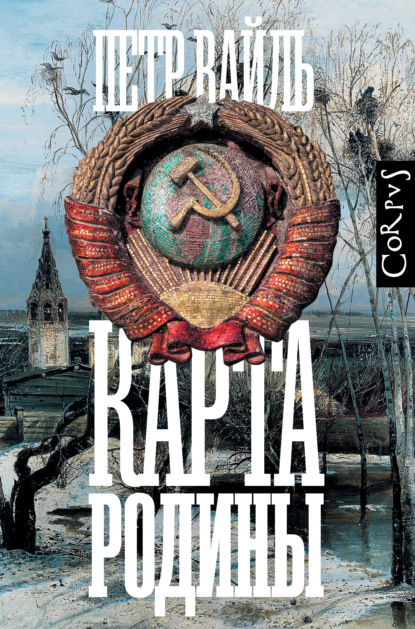Абрау-Дюрсо
Долго казалось, что нет такого места – Абрау-Дюрсо, как нет других столь же волшебных – Вальпараисо, Аделаида, Антофагаста. Может, и не надо именам овеществляться, но не за нами выбор дорог, о которых мы думаем, что выбираем. Абрау – это и озеро, и река, и красавица из удручающе цветистой легенды. Озеро вправду прекрасно – длинное, зеленое, в кизиловых деревьях и бордовых кустах осенней скумпии по высоким берегам. «Абрау» и означает «обрыв» – будто Гончаров по-белорусски. Есть и Дюрсо – тоже красавец, но бедный, и тоже речка, и тоже озеро. Вместе они – столица российского шампанского, основанная под Новороссийском князем Голицыным при Александре Втором, когда в России основывалось столь многое из того, что потом рухнуло. Вокруг – холмы, одни в щетине виноградников, другие острижены под ноль, словно пятнадцатисуточники, в горячке борьбы с алкоголизмом.
Шампанская штаб-квартира – в полураспаде, как ее окрестности во все стороны: к западу особо некуда, там море, а на восток – до Камчатки. Из-под земли, из пробитых в скале спиральных туннелей, где виноделы похожи на горняков, выдается на-гора напиток по технологии, не менявшейся с XIX века. На горе серые балюстрады и клумбы с виноградным рельефом напоминают не столько о голицынских, сколько о микояновских временах. У подножия широкой лестницы, сплошь засыпанной желтой листвой, – пикник. Южная закуска – сыр, абрикосы, хурма – разложена на сорванной где-то по дороге вывеске «Горячие чебуреки». Пьют водку, миролюбиво поглядывая на чужака с фотоаппаратом. «Да снимай, снимай, мы красивые, только сюда не подходи, а то боюсь», – мужчина в джинсовой куртке и темных очках кивает на лежащую рядом барсетку. Она раскрыта, виден мобильный телефон и пачка долларов толщиной в палец. Приятель из здешних шепчет в ухо: «Местные, абрауская группировка».
После знакомства хозяин барсетки Виталий проявляет гостеприимство: «Мы шипучку не очень, но ты должен все попробовать. Коляныч, сбегал быстро принес, только все чтоб». Тот бросается к фирменному магазину, поскальзывается и с размаху падает на четвереньки в лужу. Под общий хохот поднимает грязные ладони и кричит: «Мацеста!» Все еще пуще смеются знакомой шутке.
Поочередно пробуется полусладкое, полусухое, новый меланхолический сорт «Ах, Абрау…». Виталий командует, чтобы после каждого вида прополаскивали горло минералкой. «Щас брют распробуем», – говорит он. Откупоривает бутылку «Лазаревской», булькает, запрокинув голову, сплевывает с презрением: «Это не вода. Я прошлый год в Сочи чвижепсинский нарзан пил из Красной Поляны – вот вода! В „Металлурге“ отдыхал». Кто-то почтительно уточняет: «Это где иммуноаллерги?» – «Да не, то „Орджоникидзе“, в „Металлурге“ – опорно-двигательные». Понятно, по специальности.
«Рулет московский черкизовский! – объявляет Коля, поясняя: – Моя завернула, ну с Геленджика, которая на „Красной Талке“ бухгалтером». Виталий реагирует: «Поедем на Талку, кинем палку», – снова общий добродушный смех. По последней шампанского и – с облегчением возврат к «Смирнову», под рулет. Коля раскладывает ломти веером на красных буквах «б» и «у». Пикник благостно движется к сумеркам, беспокоят лишь летучие клещи, с ноготь, серые, с зеленоватым отливом – нарядные, как все здесь.
Овеществление имени происходит без спросу. «Абрау-Дюрсо» – одно из ярких пятен в памяти. На теплоходе с этим смутно-романтическим названием приплыл в Новороссийск зайцем из Поти, стремительно выпил два литра черной «Изабеллы» из цистерны у морского вокзала, переночевал за два рубля на чердаке и отбыл наутро в Ялту с канистрой вина на том же «Абрау-Дюрсо», уже с правом на палубное место. Канистру прикончил по случаю своего двадцатипятилетия со случайными одесситами, и в этот юбилей, выпрыгивая по низкой дуге, вровень с кораблем шли десятки дельфинов.
Когда воспоминания сгущаются в абзац, получается Александр Грин с Зурбаганом и алыми парусами, хотя вино оставляет тупое похмелье и несмываемые пятна, на чердаке душно и колется тюфяк, волосы и ботинки в новороссийской цементной седине, команда не уважает и гоняет от борта к борту. Все равно, конечно, – Грин, уж какой есть. Какой был.
До Вытегры и после
Чтобы исторически не промахнуться, улицы в Вытегре – двойного наименования. Не так, как в больших городах, где всякий называет по привычке и в меру идеологической памяти, а буквально – две таблички одна над другой: «III Интернационала» и «Сретенская». От пристани, где на полдня пришвартовался «Александр Радищев» (на чем еще идти из Петербурга в Москву через озера, реки и каналы Русского Севера?), улица ведет, как положено, к храму, где, как положено, краеведческий музей.
Непременного чучела волка нет, нет и набора минералов, история тут началась позже. Диаграммы роста марксистских кружков. Фотографии местных комбригов. К революционному движению подверстан здешний уроженец Николай Клюев, снятый в обнимку с изнеженно-порочными друзьями. Диаграммы животноводческих успехов. Карты сражений Великой Отечественной. Ни слова о лагерях в краеведческом музее города, стоящего – без всякой метафоры – на костях зэков, рывших эти каналы, возводивших эти египетские шлюзы, строивших на века эти серые бараки и вынесенных за скобки вместе с чучелами и минералами.
Церковь выкроила себе правый придел храма, по музею течет аромат яблок, приправленный запахом ладана, и невидимый из-за антирелигиозного стенда священник служит преображенскую службу. Его коллега на стенде жирной пятерней выхватывает монеты у истощенных богомольцев, поверху надпись: «Все люди братья, люблю с них брать я».
В двери заглядывают иностранцы с «Радищева» и растерянно отступают: куда попали? Сретенский собор поставлен высоко и заметно, как везде и всегда умели ставить храмы, но билетерша у дверей, таблицы и графики, берестяные поделки умельцев вконец путают чужеземца, даже кое-чего насмотревшегося за неделю плавания.
Американцы и англичане – неистовые туристы, поехали так поехали, в Камбодже было тоже необычно. С раннего утра трое уходят в вытегорскую неизвестность, не вняв увещаниям корабельной радиорубки: мол, на этой стоянке делать нечего. Зачем же тогда стоим? И они, кругленькие, седенькие, в белых гольфиках, белых шортиках, белых панамках, – уходят, как разведзонды, в туман и морось. Закутанный русский контингент на палубе рассуждает, вернутся ли. Возвращаются, хоть и с пустыми руками и новыми безответными вопросами о странностях материальной культуры. Субботний день, август, Яблочный Спас – на рынке локальный продукт представлен двумя кучками мелкого белого налива. Все остальное – в консервных банках. Где-то в Нальчике земля родит – оттуда помидоры в сопровождении двух молодцов, которые прихлопывают, машут безменами и вдруг страшно кричат: «А вот помидор грунтовый кабардинский берем!» Вытегра пугается, но не слушается: дорого.
В избе под малообещающей вывеской – магазин с гигиеническими россыпями. Одной зубной пасты – дюжина видов. Пыльный антиблошиный ошейник «Made in Germany» висит с гайдаровского переворота. Изба стоит наискось, и как-то вдруг понятно, что вместо ошейника мог бы болтаться хомут, что инопланетные тюбики и флаконы случайны, тем более что дух, стоящий в продуктовой очереди или в автобусе, напоминает лишь об одном средстве гигиены – сером бруске с выдавленными цифрами «72 %»: в тазу раз в неделю. Содержание вступает в противоречие с формой и пока проигрывает.
Серая изба и серый барак предстают стилевой доминантой, которая сменяется лишь с приближением к Москве – новой цветовой гаммой прибрежных сел, с блестящей пленкой парников, с красным кирпичом стен, с пестрыми машинами возле, с белыми и зелеными кругами спутниковых тарелок. Но до того, сразу за Питером и долго-долго после – на Ладоге, Свири, Онеге, Белозере, – нечто серое, покосившееся так и стоит неперестроенным со времен Алексея Михайловича.
В полузаброшенном Горицком монастыре из такого барака выскакивают двое, обоим под сорок, к полудню уже приняли, мало. Быстро определяют столичных, зазывают: «Посмотрите, как живем». Внутри, как и снаружи, все наискось – стол, табуреты, пустая этажерка, забросанный тряпьем топчан. Все, что возможно было вынести за копейку, вынесено. Резкий запах утопленных в селедочном пиве окурков. Окна не задуманы отворяться. Жилье обводится широкими киношными жестами: «Видите, до чего перестройка довела».
Как же незамедлительна готовность сослаться на события глобального масштаба: революцию, контрреволюцию, войну, происки. Каплей литься с массами. Как-то в нью-йоркском Музее современного искусства показывали фильм «Ой вы гуси», где героя постоянно бьет по голове доска при входе в собственную избу. После сеанса зануда-зритель пристал к режиссеру: почему? Его не устраивали длинные ответы о наследии сталинизма, разорении села, разрыве власти с народом, он тупо повторял вопрос: почему после первого удара по голове не прибить доску?
«Может, пить стоит поменьше?» – вопрос в горицком бараке задается осторожно и безнадежно. Ответ предсказуем и боек: «А как с такой жизни не пить?» Чувствуя, что для получения чаемого червонца антуража маловато, козыряют единственным в доме непродажным предметом: «Дембельский альбом, вам будет интересно». Альбом как альбом: росчерк комбата, шаржи полкового художника, затейливо вшитые лычки, фотографии – на турнике, с кружкой, за рулем МАЗа. Светлое прошлое, два года осмысленной жизни, когда решения принимал не сам. Торговля убожеством закончена – как раз на червонец. Неловко класть деньги возле банки с окурками: вроде люди нестарые, руки-ноги на месте. Но встречного неудобства нет: «Что, альбом не понравился? А фотографировать не будете?»
Да нет, видали. Чудно вспомнить, что в похожих декорациях часто проходили дни юности, только на этажерке стояли Камю и Кафка, а вместо дембельского лежал альбом Чюрлениса. Знаком и зажиточный вариант: поныне цветущий, хоть бы и в столице, избяной принцип наслоения всего на все, закон никогда-ничего-невыбрасывания, викторианский триумф мелких предметов – только в отличие от образцовой избы, где пространство было устроено умно и удобно, в городских и сельских избах XXI века организующий стержень утерян. Да и как сориентировать кровать по сторонам света: по компасу? Микрокосм избы перекошен, как кресты на многократно и бездумно перелицованных церквях, как любая стена любого дома. Здесь при девяноста градусах кипит вода, а прямого угла не видал никто.
По пути из Петербурга в Москву тревожится тень не только Алексея Михайловича, но и его совсем не тишайшего сына. Это мегаломан Петр заложил палладианскую эстетику фараонского размаха среди плоских деревень на плоской воде. Таков Петрозаводск, все силящийся непонятно кого превзойти – не Питер же, хоть он и ровесник, а до других соперников – скачи неделями. Зато здесь театр, какого нет нигде, – огромный, отдельно стоящий, чтобы обойти и оцепенеть от мраморных гармонистов под коринфской колоннадой. Здесь самый большой в СССР Ленин с 30-х, а на контрасте, поставленные в либеральную невнятицу 60-х, уютные Маркс и Энгельс: присели два дедуси на завалинку, капитал там, то да сё, происхождение семьи, не наговориться. Уже в наши дни вдоль Онежского озера вытянулась гранитная набережная, которая была бы впору, может, Чикаго. Для полноты петровского ужаса по широкой дуге стоят дикообразные скульптуры шведских, американских и других авангардистов из городов-побратимов, которых не разглядеть на картах Швеции и Штатов.
История вообще податлива, в России – особенно, на Русском Севере – особо извращенно.
Триумфальные арки шлюзов с гербами, знаменами, лафетами и прочей царственной лепниной – хочешь не хочешь, высятся символами. Шлюзы призваны запирать, поднимать, опускать и выпускать – все слова из обихода зэка, главного первопроходца этих вод и земель.
На Валааме – следы других навигаторов отчизны. Сюда по ладожским водам свозили военных инвалидов, которые, должно быть, еще дичее, чем в городах, выглядели в изящной еловой готике Валаама. С катера, по пути из Никоновской бухты в Монастырскую, над верхушками деревьев видны маковки восстановленных церквей. Храмы – с объяснимым, но все же назойливым привкусом новодела, особенно ядовито-голубой колер главного, Спасо-Преображенского монастыря. В центральной усадьбе тянется жилищная тяжба, и все – вперемешку. Постные лики мирян, живые гримасы чернецов – хорошо хоть одежда разная. Беленые здания двойным каре: снаружи не разобрать, где монастырь, а где коммуналки инвалидовых потомков. Церковные власти явно одолевают, за ними признанная правда, они строги и напористы, парни в рясах проворно бросаются на туристок в джинсах, как некогда милиционеры на стиляг. Джинсы нарушают святость места, а отсутствие сортира – нет? Вопрос риторический в краях свирепой духовности.
На Свири монастырь Александра Свирского потеснил психбольницу. Стройные здания (церковное зодчество тех веков – наверное, лучшее, что произвела на свет русская архитектура) размещены над Святым озером. Местные гордятся: озеро в виде креста. По карте не заметно, говорят, видно с вертолета, но где взять вертолет – что в XVII столетии, что сейчас. Зато видно, как сквозь серые монастырские стекла, похожие на бычьи пузыри, глядят умалишенные. Как уместна тут вневременность их лиц, их остановившиеся во всех эпохах взгляды, их тихая, неизбывная, вечная боль. Натура Брейгеля, Босха, Феллини, Германа.
Бакинец Юра, сапер-прапорщик в отставке, окружающим ритмом недоволен. За восемь лет жизни на Свири его и жгли, и громили, но он все ставит какие-то ларьки, коптит судаков и сигов на продажу, возит туристов в монастырь. Юра возмущается соседями: «Они спят и квасят, с утра квасят прямо с детьми. Я? Не, только оператив, знаете, такой шоколадный оператив, еще фруктовый бывает, на неделю мне бутылки хватает». Дивный пошел прапорщик. Жена Юры – из вепсов, смирной карело-финской народности, умеренной и положительной. Тесть и теща в своей Карелии и отбывали срок, строили все те же каналы. В названии места – Свирьстрой – вторая часть выразительней и историчней.
К счастью, это не Колыма – все, кроме мошкары, с человеческим лицом: климат, леса, реки, оставшиеся люди. «Оставшиеся» – потому что почти полмиллиона ушли в Финляндию с отобранных у финнов земель. Победы в России – больше на фронтонах арок.
На Севере все сдержанно и приглушенно. Солнце случается так редко, что уже и противопоказано этим местам. Очень низкие облака дают правильное освещение, в котором осиновые лемехи куполов тускло поблескивают, как мельхиор. Кижи оказываются не китчем с глянцевого календаря, как опасаешься, а вписываются каждой планкой в пейзаж. Деревянные церкви, часовни, сараи, амбары, раскидистые дома – неожиданно, но логично напоминающие альпийские шале, – растут невысоко и крепко, как карельская береза. Сыроватый воздух плотен и ощутим на вкус. Гид в Кижах говорит, что похмелье тут переносится легче. Знание предмета сквозит в кривой усмешке при этих словах, в трудном движении кадыка. Он задирает голову и кричит: «Игорек, давай!» Игорек дает, да так, что долго стоит в ушах меланхолически-бесшабашный виртуозный перезвон. Туристы бросают купюры в коробку у подножия звонницы, сверху оценивающе выглядывает припухший Игорек – завтра опять понадобятся целебные свойства карельского воздуха.
Из-за отдаленности, тихой красоты, воздуха, обилия рыбы, грибов и ягод – живых запасов постной пищи – на Севере закладывались скиты и монастыри. Так встал на Сиверском озере Кирилло-Белозерский – громадный, второй на всю Россию после Троице-Сергиевой лавры, мощного крепостного облика. Никому никогда не понадобилась эта крепость, а если б оказалась нужна, то рухнула бы в считанные дни осады, потому что российские фортификаторы отстали в военной технике лет на сто от тогдашнего потенциального противника. Но народ выбирает свои маяки, как выбрал православие, – за красоту: мало есть видов значительнее, чем Кирилло-Белозерский с озера, разве что Макарьев, встающий на рассвете из волжских вод.
Ферапонтов – то ли противоположен, то ли задуман Кириллову в пару. Ферапонтов поэтичен и беззащитен, добродушен даже стерегущий его сержант, не лает дворняга с проблеском колли. Монастырь открывается в девять, появляются музейные работники, пресекая всякие поползновения: «Нет-нет, сперва нужно сделать замеры температуры и влажности, минут сорок еще. – Так нас теплоход ждет. – А-а, теплоход, тогда заходите». То же у Рождественского собора с фресками Дионисия: «Вход строго по четыре человека. – Нас шестеро, одна компания. – Это другое дело, давайте». Кажется, то, что потихоньку губит страну, и спасало ее, в том числе в этих краях: опаздывал конвой, просыпало с похмелья начальство, ленились костоломы. В Ферапонтове тоже были зэки, один очень знаменитый – патриарх Никон. Извечный бардак выручал его в своем XVII веке: непонятно было – то ли это супостат, то ли руководство на временном отдыхе. Заключенному Никону доставляли в комфортабельные кельи осетров и арбузы, пока в Кремле не приняли, наконец, решение и не отправили его на строгий режим в Кирилло-Белозерский, ставший последней зоной разжалованного патриарха.
Ферапонтов стоит на холме меж двух озер. Он захватывающе легок снаружи и внутри. Внутри – росписи Дионисия. Идеальная гармония линии и цвета – фовистское сочетание плоскостей красно-коричневого с густо-голубым и бледно-зеленым. Аллегория мира ненатужна, как поется в красивой песне – «земля и небо вспыхивают вдруг».
Ради одного этого маленького собора стоит отправляться в путь, но массового туриста сюда не возят – берегут фрески. На Горицкой пристани долгое обсуждение, кто бы подбросил в Ферапонтов: «Может, Сашка? – Не, Сашка коптит, к Рустаму надо». Основательный Рустамов дом выделяется среди изб вытегорского типа. Деловитый хозяин, явно из любителей шоколадного оператива, заводит «жигули», вторым берет на «москвиче» Сашку, оторвав от лещей, попутно пытается продать шахматы: «Французы берут на раз, больше Куликовскую битву, ребята не успевают резать. До меня одни кофточки и платки были, я со своей темой пришел, с шахматами, четырнадцать моделей, рыцари всякие, Наполеон, но круче всего – русские с татарами, и недорого».
По возвращении на пристань приобретаются не шахматы, но роскошные лещи, докопченные Сашкиной женой. Вечером – пир на палубе под классического «Бочкарева» на зависть соотечественникам, на диво иноземцам. Пожилой турист из Нью-Джерси подходит узнать, что это терзают с таким урчанием. Наутро, уже как знакомый, закидывает вопросами: о религиозном ренессансе, качестве водки, особенно о причинах перекошенности домов. Он спрашивал экскурсоводов, но не удовлетворен глобальными политэкономическими ответами, ссылками на злодейства коммунистов и демократов, он, как его соплеменник в нью-йоркском Музее современного искусства, хочет понять, почему не вбит конкретный гвоздь.
«Радищев» тянется вдоль серой перекошенной деревни. «Кстати, не знаете, что это за big village? – Вытегра». Панически хватается за карту: «Простите, но Вытегра была позавчера. – Ага, и еще долго будет».
Фирменный поезд “Ярославль”
«Скорый поезд повышенной комфортности „Ярославль“ отправляется через пять минут». Поверх высоких спинок мягких кресел переброшены парикмахерские салфеточки. Банку пива можно поставить на серый с разводами столик. Телевизоры над головами, как в самолете, крутят два фильма за рейс: сперва про американского киллера, потом про своего – «Брат». Уютно разместились пассажиры напротив. Мама с изможденным гуманитарным лицом и хорошенькой дочкой. Та закидывает ногу за ногу, складка бедра над мягким сапогом будет тревожить до Москвы, какой там кроссворд. И еще: где пальто этой тетки в плоском сером берете и шерстяной плиссированной юбке? Не так же она пришла на вокзал. Вот мамино бежевое пальто, вот дочкина желтая шубка, а теткино где? Все волновало нежный ум.
На перегоне Александров – Сергиев Посад через вагон проходит бритый наголо мужчина, одетый с претензией – не по-ярославски даже, а по-тутаевски, по-мышкински. На нем огромные белые кроссовки, шаровары с фальшивой нашлепкой «Адидас», длинная красная куртка на молнии. Он кладет полупустой рюкзак на полку над мамой с дочкой. Минуту неподвижно смотрит в экран. Там брат готовит очередное мочилово. Из телевизора поют: «Прогулка в парке без дога может встать тебе очень дорого, мать учит наизусть телефон морга, когда ее нет дома слишком долго». Бритый страдальчески морщится. Мука непонимания на лице, где бегло намеченный лоб быстро переходит в надбровные дуги и в нос. Мерцают глазки. Он разворачивается и уходит в дальний тамбур.
За окном – среднерусская зимняя графика, железнодорожный монохром. Внутри – цвет, свет, уют. Галдит кино, пропуская в паузы вагонный говор: «Очень тут культурно… Между первой и второй, как говорится… А что, там нормальное снабжение… Ну значит, за все как оно есть хорошее…» Тетка в берете поглядывает на свисающую зеленую шлейку рюкзака и произносит громким шепотом: «А чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» Ошеломленное молчание. Дочка нервно подтягивает сапоги, мама говорит: «На Пушкинской тоже никто не беспокоился». Вызывают охрану. Приходят двое в сером с флажками в петлицах, спрашивают, как выглядит хозяин рюкзака, тетка пригоршней обозначает у лица конус, получается похоже. Охрана уходит, скоро возвращается, важная, по-балетному медленно приволакивая ноги. Держась подальше от рюкзака, охрана сообщает: «Все в порядке, он говорит, там морковка».
После Сергиева Посада за окном становится совсем темно, в вагоне еще уютнее от тепла и тихого звяканья. В телевизоре поют: «На городской помойке воют собаки, это мир, в котором ни секунды без драки». Брат стреляет в упор, еще раз, еще. Тетка в берете пытается прощупать рюкзак, толстые пальцы едва пролезают сквозь прутья полки, ничего не понять. «А чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» – громко говорит тетка. Дочка одергивает на бедрах короткую лиловую юбку, мама произносит: «На Пушкинской тоже никто не беспокоился».
Это сигнал к истерике. Прибежавшая на шум проводница неубедительно кричит: «Да в тамбуре он стоит, в тамбуре». Тетка требует обыска бритого и рюкзака. Мать прикладывает безымянные пальцы к вискам: «Только бы доехать». Дочка, волнуясь, объясняет: «Частная собственность неприкосновенна, нужно постановление». Охрана снова заводит про морковку. Проход заполняется пассажирами. Низенький брюнет уверенно говорит низенькому блондину: «Все равно их правда. Ты мне должен быть тому благодарен, что я тебя, брат, отмазал». Тот машет рукой, не в силах ответить. Брюнет продолжает: «Ты мне золотой бюст поставить должен». Блондин изумляется: «Золотой?» – и падает на столик. В проход катятся банки из-под «Ярпива». Охрана бережно выводит блондина в тамбур, брюнет, качаясь, идет следом, наставительно продолжая: «Много таких героев в России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, что поставить бюст».
Тетка орет в голос: «Морковка! При чем тут морковка?! Что он, положил, а сам ходит?» Вступает молодой майор со стаканом: «Я вот с Ярославля не выходил. Ну, мужики понятно, пиво пьют, а вот женщины почему ходят?» Мама отнимает пальцы от висков и стонет: «Да мы про рюкзак». Военный рассудительно отвечает: «И я про рюкзак. Мужики хоть пиво пьют, а женщины? Абсолютно не укладывается». Дочка начинает тихо, но пронзительно визжать. Слышен женский плач, за ним – детский. Телевизор над головой поет бархатистым тембром: «Мне страшней Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Возможно, я в чем-то не прав, но здесь тоже знают, как убивают, и также нелегок здесь нрав». Брат уже всех убил в Петербурге и едет в Москву. За окном – неброская графика, русский дорожный пейзаж.
Механический голос объявляет: «Скорый поезд повышенной комфортности „Ярославль“ через пять минут прибывает на конечную станцию – Москва». Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу, сдергивает с полки рюкзак и сыплет в проход морковку – грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница: «Собрал все сейчас же! Сразу! Собрал и вышел из вагона! Весь тамбур обоссали, а кому убирать?!» Поезд останавливается. Тетка в берете встает, и оказывается, что она всю дорогу сидела на длинной красной куртке с белым воротником. Дочка, расставив стройные полные ноги, поддерживает за талию мать, досматривая титры. Пассажиры ждут, пока бритый, разгребая пивные банки, соберет морковку, и вслед за ним выходят на перрон.