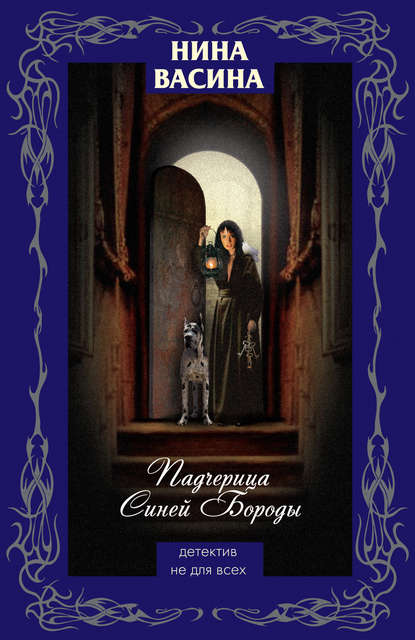Часть I
Девять месяцев до совершеннолетия
«В одиннадцать лет я твердо решила стать учительницей пения и, чтобы все окружающие поддержали мое решение, стала не разговаривать, а петь. Не знаю, как родные пережили этот период, длился он почти полгода, а в моей памяти остались беседы с психиатром в холодном кабинете с рисунками-кляксами на стенах, с обмылком на краю неуместной рядом с вешалкой раковины, всегда чистейшим накрахмаленным полотенцем. Я, обмирая от страха, наблюдала процесс вытирания психиатром рук, полотенце теряло свою крахмальную непорочность, и его руки с отвратительно узкими, словно вросшими в пальцы, продольными полосками ногтей потом приближались ко мне с плавностью отечной полноты, и когда правая протягивалась с пожеланием рукопожатия, а левая начинала перебирать на столе бумаги, я сглатывала тошноту и неуверенно совала в нее свою ладошку, как в нору жирного чернозема.
Для лучшего контакта психиатр иногда начинал не разговаривать со мной, а петь, и тогда я в полной прострации разглядывала его открытый рот в обрамлении топорщащихся усов и бороды. «О-о-о че-о-ом мы думаем тепе-е-ерь?» – лился из мохнатого отверстия могучий душевный бас, я вытягивалась на стуле, чтобы лучше разглядеть язык с желтым налетом и коренные с пломбами, а мама начинала копаться в сумочке, нашаривала сигареты, зажимала рот платочком, извинялась и выходила в коридор. Смеялась она там? Плакала?
Она возвращалась в кабинет, прихватив с собой в волосах табачный дым, серьезная, отрешенная, ужасно красивая, и психиатр тогда застывал с приоткрытым ртом, уже перестав петь, он просто вдыхал принесенную мамой мелодию ее длинного, тонкого тела.
Мама никогда не пела мне.
Зато она пела Синей Бороде. Я сама слышала и никогда не забуду ее тонкий неуверенный голосок, дрожащий от напряжения, как треснувший фарфоровый колокольчик.
В двенадцать лет я впервые попала в морг, и мне там ужасно понравилось.
Мы с тетей привезли одежду для мамы, мама лежала на каталке, укрытая простыней до подбородка, а ее вьющиеся пышные волосы свисали почти до самого пола, я их захватила руками, кое-как скрутила в жгут и положила вокруг шеи, тетя сердито зашипела на меня, врач в грязном фартуке принес справку, мимо провезли каталку с обнаженным мужским телом, и я поняла, что морг – это такое место, где никому никого не стыдно.
Пока тетушка разговаривала с врачом, пока жужжали лифты, доставляя новые каталки, пока удушливой волной сочился откуда-то из совсем другой жизни запах щей и жареной рыбы – время шло к обеду, – и запах этот, возмутительно неуместный и даже кощунственный в потустороннем мире спокойных холодных тел, был куда отвратительнее запаха разложения, пока два санитара выгружали из металлического ящика отдельные части чьих-то тел – руки, ноги, головы – и выкладывали их с утробным бульканьем в чан с формалином, я вдруг неожиданно для себя, ну просто ужасно захотела скинуть всю одежду и потеряться. Расстегивала пуговицы, стаскивала в накатившем припадке колготы, скидывала туфли резким выбросом ноги вверх.
Бедная тетушка Леонидия!
После поющего психиатра она – мое самое яркое воспоминание отрочества.
Я в любой момент могу вспомнить ее бледное лицо с синими разводами страха под глазами. Заметив меня, голую, чинно шествующую по коридору морга, Леонидия грохнулась на колени, словно ее подсекли, и некоторое время надежда, что ей все это мерещится, жила на ополоумевшем лице остатками недоумения и даже насмешки – рот кривился в подобии улыбки, руки цеплялись за фартук патологоанатома, но потом она сдалась на милость спасительному обмороку, ее обмякшее тело поволокли в кабинет, и я смогла спокойно прогуляться по всем отделениям морга. И если бы не нервная медсестра, помогающая разделывать доктору тело старухи на металлическом столе, меня бы еще долго никто не замечал. Кто знает, что думал персонал морга, замирая на несколько секунд в отрешении перед спокойно идущим голым ребенком? Если бы не эта медсестра, единственная, кто устроил истерику, – она кричала и размахивала работающей электропилой, пока я разглядывала, как по желобу стола стекает кровь… Если бы не она, я бы, нагулявшись, уложила мамины волосы более тщательно и разгладила морщинки у носа, хотя они маме нравились, мама говорила, что они от смеха.
«Однажды утром Синяя Борода ехал полем на своем могучем черном коне, а за ним бежали его псы – три дога, огромные и сильные, как быки…»[1]
А в это время!..
«В это время мимо шла одна-одинешенька молодая и красивая девушка…»
«Что здесь делает голый ребенок? – заинтересовался пожилой презентабельный господин в очках, и сквозь стекло его глаз уставился на меня с выжидающим любопытством, а я, испугавшись чужого внимания, быстро закрыла тело мамы простыней, а потом мы с очкастым господином вместе посмотрели на пол, на серый кафель, в который падали, разбрызгиваясь, капли крови…
– Ничего страшного, – успокоила я побледневшего мужчину, он казался мне старым и гордым в своей старости, и его большому лицу совсем не шел испуг, – это у меня бывает от злости, – я зажала нос пальцами, но кровь просачивалась и текла по руке, по животу, а потом прибежала медсестра с электропилой, уборщица со шваброй, патологоанатом в грязном фартуке и тетушка Леони, размахивающая ваткой с нашатырем. Все они проявили сильное беспокойство, и ватка тетушки Леони с отвратительной влажностью прикоснулась к моему лицу, к ложбинке над верхней губой, я закричала от этого прикосновения, и все отшатнулись, стало легче дышать, и медсестра протянула мне размотанный бинт. Я промокнула кровь.
– Это у нее бывает, когда она сильно разозлится, – твердила, как заведенная, Леони, – как только что не по ней, она сердится, и из носа идет кровь, это пройдет, мы были у врача, это у нее от злости…
И так далее, пока патологоанатом не потребовал всем заткнуться, не присел рядом со мной (так приседают перед маленькими детьми – лицемерная попытка быть с ними на одном уровне), но у него это плохо получилось – я к двенадцати годам уже имела метр шестьдесят роста, и заглядывающий снизу в мое лицо неряшливый дяденька в заляпанном кровью фартуке, пытающийся прикоснуться ко мне и пугающийся близкого голого живого тела девочки, этот человек, скорчившийся внизу, показался мне жалким – этакое подобие уставшей от трупов земляной жабы. Он очень хотел знать, что меня так разозлило, я объяснила. Мне не понравился шрам на теле мамы. Сверху вниз – от ключиц к низу живота.
– Кто привел в морг голого ребенка? – оглянулся беспомощно доктор, поднимаясь.
Мне принесли одежду.
– Не оденусь, пока честно не скажете! – пригрозила я и потребовала, чтобы доктор, вскрывающий маму, признался, чего в ней не хватает.
Несколько рук помогают мне одеться, я возмущаюсь и обещаю скончаться прямо тут, на полу в морге, от потери крови. Я краем глаза вижу приближающийся шприц, уворачиваюсь и, убегая к светящемуся в трубе коридора окну, теряю по дороге каплю за каплей красные расплющенные бусинки моей жизни.
– Не надо, – попросил запыхавшийся доктор, когда я залезла на подоконник, – это глупо, в конце концов, это полуподвал, не трогай окно, я тебя умоляю!
Я поверила в его желание помочь и, пока вся толпа, взбудораженная моей наготой и кровотечением, во главе с Леони приближалась, с заговорщицким шепотом рассказала, что мой отчим на самом деле – настоящая Синяя Борода, что он убивает всех своих жен и оставляет что-то из их внутренностей себе на память, и патологоанатом, вытирая пот со лба подолом халата, сознался, что действительно в маме кое-чего не хватает.
– Сердца?!
– Нет. У нее не хватает одной почки, у твоей мамы вырезали почку после сильного воспалительного процесса. Слезай. Хватит бегать.
К четырнадцати годам я поняла, что от отчима отделаться не удастся. Он ухаживал за родной сестрой своей умершей жены с неистовством буйно помешанного. Он готовил обеды и ужины, колдуя у плиты и наполняя квартиру чужими запахами, а потом исчезал, установив на столе в гостиной свечи, цветы, бокалы, супницу и сотейник, в который мы с Леони заглядывали, как в ящик Пандоры, осторожно выпуская душистый пар и не глядя в глаза друг другу, – и она, и я предпочитали по чашке кофе и паре бутербродов в кровати перед телевизором, ну а в исключительных случаях потрошилась коробка конфет на двоих, и убежавшая из вазы с фруктами виноградина могла притаиться в простыне и нарушить потом шоколадный сон влажным холодным прикосновением раздавленной улитки. Но еда – это полбеды.
Серенады – вот испытание не для слабонервных. Чаще всего ночами нас будила какофония оркестрового джаза, и весь дом прилипал к окнам в полвторого ночи, пугаясь спросонья пришествия сатаны, и с облегчением потом отлипал – это всего лишь пятеро мужиков с инструментами, это ненадолго, минут десять поиграют под балконами и уйдут. Леони, не признающая ничего, кроме скрипки, затыкала уши, выслушивала возмущенные крики с балконов и угрозы вызвать милицию, но косилась в окно сквозь щелочку в шторах с обреченным недоумением. Мой отчим стоял в отдалении от оркестра с букетом роз и смотрел на наши окна. Джаз сменялся одинокой флейтой, флейта – барабанной дробью, происходили эти серенады по три раза в месяц с завидным постоянством, дом постепенно привык, Леони уже задумывалась, не намекнуть ли такому упорному мужчине, что скрипка…
Моя мама была шестой женой этого корейца. Если Леони сдастся, она будет седьмой. Мама прожила с ним год. Значит… к моим пятнадцати годам Леони умрет. Пока Леони переминалась с ноги на ногу и расковыривала в шторах щелочку, я надевала наушники, включала плеер на полную громкость и содрогалась от ударных, злорадно представляя рядом две ступни – корейца, тридцать восьмого размера, и Леони – сорок первого.
– Этот кореец – мелкий мужчина? – задала мне вопрос сидящая передо мной женщина.
– Ты спросила из-за размера ноги? Он не мелкий. Он ужасно худой, но длинный. Он напоминает гибкий тростник под ветром – штамп, конечно, но будто для него изобретен. У него довольно большие для корейца глаза, он видит в темноте, его пальцы – тонкие, как у пианиста, почти не напрягаясь ломают карандаш, вот так, он зажимает его, кладет на указательный и безымянный, а средний вверху, вот так, видишь, а потом раз – на три части!
– Не нервничай.
– Не могу. Он очень страшный. Если он уговаривает женщину, то ее согласие – приговор! Она больше не принадлежит себе, она – раба. Его магическое число – семь, после Леони ему должна попасться восьмая жена, которая выяснит тайну запертой комнаты.
– Скажи, пожалуйста, какие-нибудь другие сказки ты в детстве читала? О Спящей царевне и богатырях…
– Про корейца – это не сказка. Я люблю о Царевне-Лебеди, там муж, который выгнал свою жену с новорожденным ребенком, в конце посрамлен и унижен, а жена его прощает. Вот это называется сказка. У моей мамы было две сестры. Они однажды сидели все втроем на террасе и пряли, нет, серьезно, моя мама отлично умела прясть пряжу, у бабушки была собака, ее чесали, а потом из этих начесов пряли нитки, из ниток вязали носки…
– Они пряли, пришел царь и выбрал твою маму?
– Кореец выбрал старшую, Ираиду. Они пряли на террасе бабушкиного дома, был вечер, сестры говорили о мужчинах, моя мама была младшая, она стеснялась, а старшая сестра уже дважды развелась и выдавала вовсю, сказала, что хорошему мужику и троих сыновей родить не жалко, а Леони в шутку (она же совершенно не умеет готовить) сказала, что мужчину можно приворожить хорошей едой, а моя мама промолчала, и тут появился кореец и сразу предложил Ираиде родить ему троих сыновей, и старшая сестра бросила прялку и пошла за ним к машине – вроде шуточка, а на самом деле она покраснела тогда, мама заметила, что она покраснела, – так ей понравился кореец.
– Твоя тетя Ираида умерла, когда тебе было…
– Девять. Кореец сразу же принялся за маму. Он приходил в ателье через день, мама шила, шила, шила… Она ему сшила столько одежды, что шкафа не хватило потом, и в нашей квартире кореец устроил гардероб из кладовки, там он прибил полки и повесил во всю длину палку, на которой болтались вешалки с его вещами.
– А отчего умерла Ираида?
– Я не знаю, я тогда еще не все понимала правильно, и пока кореец не сказал мне в одиннадцать лет, что ему нравятся девочки вроде меня – высокие, нескладные, с большими руками и ногами, потому что из таких девочек потом вырастают самые покладистые любовницы… Пока он мне это не сказал, я могла запросто пробежаться по квартире в одних трусиках. А потом я стала думать, думать, спросила у мамы, отчего умерла Ираида, но мама провела пальцем по моим губам, она так делала, когда ей не нравились мои вопросы.
– Ты любишь ходить голой?
– Теперь только в морге. Мне врач в грязном фартуке, когда уговорил одеться, пообещал, что я могу запросто приходить в его смены в морг и ходить голой сколько угодно, но потихоньку, не привлекая внимания, а это лучше делать по ночам.
– Что ты видишь на этом рисунке?
«…Синяя Борода все точил на камне свой длинный нож: точись, точись, нож. Ты перережешь горло моей жены…»
– Нож. Вот ручка, вот тут лезвие, а это кровь капает с лезвия. Я думаю, кореец зарезал Ираиду, тетя была старше его, в семье этот брак не одобрили, бабушка на свадьбу не пришла, а дедушка позвонил из Франции и заказал подарок молодоженам на дом – трех щенков дога. Понимаете? Ну, это элементарно, дедушка сразу раскусил корейца!
«Синяя Борода скакал галопом на своем черном коне, а за ним бежали три его дога, огромные и сильные, как быки».
– Если я не ошибаюсь, твой дедушка лечится во Франции?
– Мой дедушка гений, просто у него умственная усталость превысила барьер выносливости организма.
– Среди твоих других родственников есть психические больные?
– Дедушка не псих. Он большой ученый, все гении воспринимают мир иначе, чем простые люди. Дедушка навел справки, он узнал о прошлой жизни корейца, теперь-то я знаю, что именно он узнал! Ираида была пятой женой, она вышла за четырежды вдовца! Дедушка посчитал, с интуицией гения прикинул, что может случиться дальше, и заказал щенков! Когда мама сказала, что выходит замуж за корейца, бабушка умоляла ее не делать этого, просила жить в грехе, но не заставлять внучку, то есть меня, участвовать в безумии этого постыдного брака.
– А гениальный дедушка не прислал случайно на свадьбу своей младшей дочери – твоей матери – черного жеребца?
– Нет. Лошади очень дорогие. Собак проще заказать и оплатить по карточке через Интернет.
– Сделаем перерыв. Чай? Лимонад?
– Можно я выпью немного красного вина? Я знаю, это не полагается, но мы могли бы пойти вон в то кафе через дорогу, только на полчасика, ну пожалуйста… Да?! Ты прелесть!
– Мне нравится слово «прелесть». Хотя оно не в тон. Нельзя называть тестирующего тебя психиатра «прелестью». Два бокала красного, пожалуйста, бутерброд с сыром…
– А можно еще желе?
– Желе и кофе. Черный. Ладно. Давай продолжим. Здесь шумновато, но уютно. Когда ты решила выследить своего отчима?
– Как только он сказал, что я буду покладистой любовницей. Я сразу поняла, что он – Синяя Борода. А он великодушно дал мне это понять. Я стала следить за ним, за мамой, правда, иногда я отвлекалась на личные дела и делала это не очень тщательно. Все-таки я была еще маленькой. Но после морга, когда врач сказал мне, что у мамы нет почки, я поняла, что у корейца где-то должна быть потайная комната. Он хранит там разные внутренности от разных жен.
– Минуточку, я поменяю пленку. Вот так. Продолжим. Ты хочешь сказать, что от твоей мамы ему нужна была почка?
– Вероятно. Но может быть и так, что патологоанатом сказал не все. Пощадил маленькую девочку.
– Хорошо. Допустим, что в этом холодильнике кореец хранит внутренности от разных жен. Зачем ему это надо?
– Может быть, он хочет собрать идеальную женщину. Он сам сказал бабушке, что всю жизнь живет в поиске. Бабушка сдалась, когда ее третья дочь – Леонидия – вышла замуж за корейца и приехала посмотреть на мужчину, уже похоронившего двух ее дочерей. Она спросила корейца, зачем ему в жизни столько жен, а кореец засмеялся, посмотрел на меня, подмигнул и пообещал, что восьмая жена положит всему этому конец. Он сказал, что идеала так и не нашел, но в каждой женщине есть своя прелесть – у одной большое и доброе сердце, у другой – редкий ум и так далее. Я очень хотела слышать, что там далее, тогда кореец сказал, глядя мне в глаза своими желтыми глазами, что должна быть женщина с самым колдовским влагалищем, но ему еще такая не попадалась, и бабушка сразу же встала и ушла, а я спросила, что ему так понравилось у тетушки Леонидии? Ведь, несмотря на ее слова тогда, на крыльце деревенского дома, Леони совершенно не умела готовить, вечно питалась на ходу, и кореец своими кулинарными ухаживаниями, как, впрочем, и серенадами, скорее подавил тетушку, а не осчастливил. Оказывается, ему очень понравились ее глаза. Глаза, понимаешь?! Не понимаешь…
– Я понимаю. Леонидия упала с крыши, и арматура строящегося цоколя проткнула ей глаз.
– Я не знаю, что там было с арматурой, но тетушка Леони оказалась в морге без глаза, об этом мне сразу же доложил мой друг-патологоанатом, мы к этому времени настолько подружились, что мне даже позволялось иногда присутствовать при вскрытиях, особенно когда доктор был изрядно подвыпивши и поэтому особенно словоохотлив. Он раскрыл мне тайны многих болезней, объяснил прямую зависимость веса и цвета внутренностей от пожирающих их недугов, представь только, что увеличенная пористая печень – это результат не только токсикологического воздействия, инфекции, но и чрезмерной злобы. И я подумала, что печенка моей тетушки Ираиды – чистая и, в полном соответствии веса и объема, хранится у корейца как пример добропорядочной покорности судьбе и праведного образа жизни. Он ни за что бы не взял себе ее матку – старшая из сестер не родила ему трех сыновей, это злая ирония судьбы – Ираида, выбранная им для деторождения, была бесплодна. А вот глаз, зеленовато-голубой глаз Леонидии, наверняка плавает у корейца в колбе как образец невероятного художественного чутья – эта моя тетушка всегда смотрела поверх голов, всегда – в небо и безупречно подбирала цвета на своих картинах, не ела баклажаны, потому что они казались ей противоестественно-фиолетовыми для пищи, давила клюкву в пальцах и обмазывала потом соком свои губы – и не было цвета роднее для ее губ. Кореец сразу же набрасывался ртом на обмазанные клюквой губы, без прелюдии любовной игры, восхищаясь ее вкусом и умением возбуждать мужчину правильно подобранным цветом рта на длинном, болезненно бледном лице с огромными холодными глазами.
– Извини, конечно, но тогда почка твоей матери?..
– Он сам говорил, что общение с мамой стерилизует его, избавляет от грязи и неудач. Мама пила жизнь быстрыми большими глотками, не то что Леони – та могла смаковать какой-то сюжет или происшествие с медлительностью извращенки, пока не изводила и себя, и окружающих бесконечными попытками неосуществимого, тогда резала полотна кухонным ножом, пила и блевала. А выпитая мамой жизнь выходила из нее слезами облегчения, остатками неприятностей и огорчений, оставляя внутри только хорошее. С ней было так сладко плакать, мама могла утешить кого угодно, и не просто утешить, но и подарить надежду.
– У тебя странная речь. Я бы даже сказала – художественная речь, хотя и с сумбурными попытками спонтанного вымысла.
– Гуманитарный колледж. Театральный кружок. Бабушка была против, а кореец, когда уже жил с нами, мог с ходу, чувственно и вдохновенно пройтись со мной по Шекспиру на английском. Лучше всего у него получался Гамлет.
– Давай напоследок пройдемся еще раз по теме предполагаемого убийства.
– Ну ладно. Когда тетушка Леони упала и умерла, я осталась совсем одна-одинешенька рядом с Синей Бородой, и ужас оставаться с ним в одном доме по ночам победил все мои остальные семь ужасов – одиночества, смерти, выпадения волос, слепоты, глухоты, летаргического сна и падения в разрытую могилу. Тогда я решила уничтожить отчима любым способом. Удобнее всего было найти дохлую крысу, положить ее в укромное место и через несколько дней пропитать иголку трупным крысиным ядом, а потом дать Синей Бороде уколоться этой иголкой. Но подобранная мною в подвале дома мертвая крыса непостижимым образом исчезла на третий день, а после настойки белладонны – полпузырька на бокал вина – кореец сорок пять минут в подробностях описывал мне заплетающимся языком особенности диалектического и механистического детерминизма. Я за это время отковыряла все болячки на коленках, обгрызла ногти на левой руке в ожидании его предсмертных конвульсий и, как ни странно, навек запомнила, что отрицание механистическим детерминизмом объективного характера случайностей ведет к фатализму. Насладившись собственным красноречием, моим напряженным вниманием, горящими глазами и полыхающими щеками – такое возбуждение он принял за мое потрясение величайшими открытиями философской мысли, – кореец встал, утробно рыгнул, взялся одной рукой за голову, а другой за живот и спросил, не хочу ли я поехать с ним в бассейн поплавать, поскольку лучше всего новое в науке и философии закрепляется, когда организм занят физическими нагрузками. Я отказалась, тогда отчим потребовал, чтобы, разлагаясь в безделье, я уяснила для себя главное – «там, где наука строит гипотезы, идеология в некоторых ее проявлениях может строить произвольные конструкции, выдавая их за реальное отражение действительности». А после бассейна он обещал объяснить, как идеология страсти может подменять собой любые чувства, в том числе ненависть и любовь, и (кстати!), заигравшись в ненависть, такая молодая особа, как я, может запросто перейти к построению некоторой конструкции смерти, весьма опасной без научного осознания. Уже одевшись и собрав все для плавания (я ходила за ним по пятам, поджидая, когда же, наконец, он свалится в предсмертных судорогах), кореец посоветовал в его отсутствие подумать о познании Вселенной и решить, к какому классу познающих я отношусь: к оптимистам либо к скептикам. И когда он вернется, кроме собственного самоопределения, я должна буду ответить на вопрос: к какому типу познавателей Вселенной относились Фауст, Ксенофан и Гегель.
Это было в среду. В четверг к вечеру я обзвонила все морги и больницы. Отчим как в воду канул (хотя первым делом я узнала, что в воду он как раз не канул и не утонул в бассейне после моего коктейля). В пятницу к обеду он позвонил и спросил, сделала ли я домашнее задание. К этому времени я обессилела от поисков его трупа и напрочь забыла об именах, записанных впопыхах на обоях в коридоре. «Пока не выяснишь, к какому типу познающих относились эти люди, я домой не вернусь», – заявил отчим. Я завыла от ненависти к нему и собственного бессилия. Именно в припадке этой ненависти я кинулась в его кабинет, перерыла множество книг и выяснила, что Ксенофан – древний грек, Фауст, конечно же, – литературный персонаж, а Гегель – философ с таким огромным количеством изданных трудов, что я впала в отчаяние: всей моей жизни могло не хватить на их изучение, а как же тогда главная миссия – истребление Синей Бороды?! Но, с другой стороны, если кореец не вернется домой, я не смогу его убить, и он забросает цветами, замучает музыкой и корейской кухней очередную жертву, чтобы потом вырезать у нее внутренности, он уйдет от меня! Тут я впервые осознала, что ужас жить с ним в одном доме и ужас его отсутствия совершенно взаимозаменяемы, или, выражаясь философски, он стал «субъектом» моего познания, а я – «объектом», и я в отношении к отчиму стала в каком-то смысле «собственностью субъекта, вступив с ним в субъектно-объектные отношения». По крайней мере, так написано в учебнике по философии.
– Отлично. Молодец. Теперь соберись с силами и расскажи о нападении.
– В субботу посыльный принес от корейца огромный букет красных роз и коробку с пирожными, моя подруга – записку от директора школы родителям, а почтальон – заказное письмо, в котором попечительский совет призывал отчима явиться в городскую управу. Я выщипала все розы до одной – их было тринадцать, разбросала лепестки по полу, а общипанные стебли выбросила на лестницу. После двух дней нервного потребления кофе и яблок я съела восемь пирожных, изодрала в клочья письмо попечительского совета, двенадцать раз проверила, работает ли телефон, и, совсем измотавшись, задремала на диване.
Я услышала, что кореец пришел, по запаху. Запахло духами. Этот убийца жен источал запах французских духов! Когда я открыла глаза, он уже заходил в комнату, удивленно разглядывая кроваво-красные пятна привядших лепестков на полу. Он присел у дивана, всмотрелся в мое лицо – запах духов стал невыносим – и поинтересовался, что именно сказал Фауст по поводу познания Вселенной. Я, совершенно зачумленная сном, сглатывая тошноту после восьми эклеров, примерно пробормотала: «Природа для меня загадка, я на познании ставлю крест…», после чего меня стошнило прямо на его ослепительно белую рубашку.
Отчим поволок меня в ванную, я сопротивлялась, кричала, что лично я – агностик, так как напрочь отрицаю возможность полного познания мира. В ванной кореец разделся, я вымыла лицо и заметила на брошенной в раковину рубашке красное пятно. Это была губная помада на сгибе воротника. Губная помада, понимаешь?! На меня снизошло спокойствие и умиротворение, я пошла на кухню, дождалась, пока кореец выжмет разрезанные апельсины, добавит в высокий бокал к апельсиновому соку две стопки водки и полезет в шкаф за трубочкой. В этот момент, не сводя глаз с его татуированной спины, я вылила в бокал пузырек атропина. Отчим, помешав соломинкой коктейль, вдруг от души протянул бокал мне, уверяя, что это поможет справиться с тошнотой. Отшатнувшись и взвыв от отчаяния, я опрокинула стойку с ножами, выбрала на ощупь ручку помощней и – раз! – бросилась на корейца, стараясь попасть ему в лицо…
– Попала?..
– Куда там… Я бегала за ним по кухне, потом – через коридор в комнату. Кореец шутя и даже как-то лениво отмахивался, умоляя меня не порезаться, а я кричала так громко, что прибежала соседка и стала стучать в дверь, и пока кореец открывал дверь, я порезала ему сзади плечо, а он попросил соседку позвонить ноль три – «девочке плохо». Потом приехала «Скорая», врач сразу же бросился перевязывать окровавленного корейца, я сидела в углу в коридоре, прижав к себе нож, и нервно икала, соседка вдруг принесла из кухни бокал, чтобы помочь мне с икотой, я взвыла от такой несправедливости судьбы, и тогда врач, закончивший перевязку, сначала отпил немного, а потом – восхищенно покачав головой – все до дна. Я сказала, что теперь он умрет, если не вызовет у себя рвоту, врач посмотрел на меня с брезгливым снисхождением. Я знаю эти взгляды, я помню их еще со времени поющего психиатра, я замолчала и закрыла голову руками, а медсестра осторожно вытащила из моих сведенных судорогой пальцев нож. Потом я плохо помню. Врач стал писать что-то, свалился со стула, и в «Скорую» его загрузили на каталке. Пошатывающегося, окровавленного корейца завела в машину, держа под руку, медсестра, а меня, укутанную в одеяло, отнес туда на руках шофер, уверяя собравшихся в подъезде соседей, что он видел много «дурдомов», но такого ему еще не попадалось.
– Врач «Скорой помощи» скончался через три часа. Твоего отчима перевязали, допросили в больнице и отпустили домой, а тебя поместили в бокс для психически неуравновешенных.
– Обидно, да? Отчим живехонький, с небольшой царапиной у шеи выгуливает следующую жертву, а я уже вторую неделю глотаю таблетки и отвечаю на вопросы. Мне дадут справку?
– Справку?..
– Что я психически больна.
– Это вряд ли. Я пока не вижу особых отклонений.
– А разве это решает не комиссия? Ты откуда вообще?
– Я – судебный психиатр. Вот моя карточка.
– Тебя зовут Пенелопа? Обалдеть… Психиатр по имени Пенелопа. Ладно, я не псих, я – несовершеннолетняя сирота, у которой на фоне страданий по умершим родственникам случился нервный срыв.
– Мне очень понравился твой нервный срыв.
– Я старалась.
– Распишись здесь. И здесь. Ты свободна. Завтра придешь в отделение милиции по месту жительства и будешь там отмечаться до окончания следствия.
– Так просто?
– Сколько тебе осталось до шестнадцатилетия?
– Девять месяцев. А что?
– Если ты успеешь сделать все, что задумала, до своего совершеннолетия, я признаю тебя самой гениальной злодейкой нашего времени.
– Ой-ой-ой!.. И что тогда будет?
– Я возьму тебя к себе на работу.
– В психушку?
– Нет. В прачечную.
Запись закончена в шестнадцать сорок три».
Следователь Лотаров достал из кармана тщательно свернутый платок. Осторожно отогнул уголок, набрал воздуха, оглушительно высморкался, приладил уголок на место, убедился, что тот приклеился, и, удовлетворенно кивнув, положил платок обратно в карман.
Пенелопа достала сигареты.
– В моем кабинете не курят! – тут же злорадно сообщил Лотаров.
Пенелопа сглотнула подкатившую от манипуляций с платком тошноту, убрала сигареты в сумочку, а с зажигалкой баловалась, доведя следователя металлическим клацаньем до легкого раздражения. Раздражение это проявилось сначала в осуждающих взглядах, потом – в перекладывании бумаг на столе, а в конце Лотаров опять достал платок из кармана, попробовал отлепить недавно склеенный уголок, не смог и высморкался в середину платка.
– Пенелопа Львовна, – заявил после этого следователь, – видите, что получается: у меня аллергия на ваши духи!
– Я вас умоляю, – лениво заметила Пенелопа и покосилась на часы.
Часы показывали без десяти четыре. Рабочий день у следователя Лотарова сегодня до пяти тридцати. Если не повезет и его не вызовут по срочному вызову, то сидеть ей здесь еще долго, каждые пятнадцать минут отказываясь от чая из подозрительного стакана, и гнать подальше воспоминание о носовом платке следователя, который он засмаркивал три дня назад, тот же это платок, или… Нет, так не годится. Пенелопа определила себе время до половины пятого.
Расслабившись на стуле, вытянув ноги и скрестив их, она, чуть покачивая острым носком правой туфельки, постаралась направить сморкательный потенциал и сосредоточенность Лотарова в нужное русло.
– Девчонка неплохо образована, артистична и имеет неуемное воображение. Тип неврастеничного шизоида с отклонениями в гениальность. Годам к тридцати, после третьего развода, засядет писать романы.
– И что, – поинтересовался следователь после продолжительного молчания, – ничем больше, кроме как написанием любовных романов, эта психованная человечеству не угрожает?