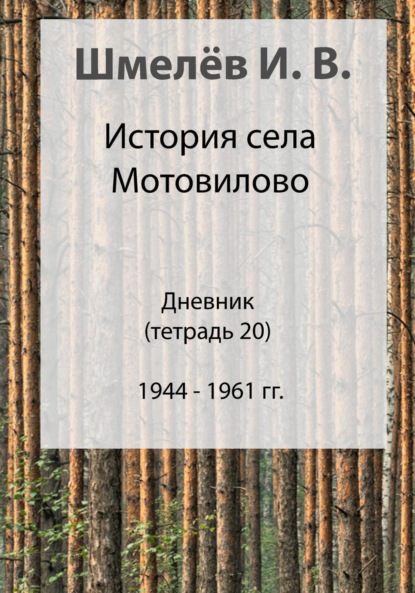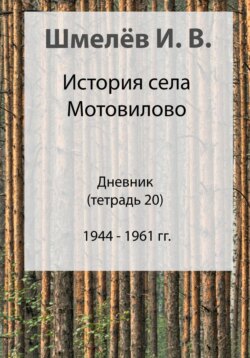
000
ОтложитьЧитал
Возвращение домой
Я снова дома!
Поезд остановился на родной станции «Серёжа». Вышедши из вагона и попрощавшись с товарищами, такими же инвалидами, как и сам, ехавшими на этом поезде дальше, Иван закостылял к своему селу – родному Мотовилову. Его по дороге догнал ехавший на лошади в село колхозник-односельчанин, и, видя костылявшего инвалида, посадил его на свою повозку. Подъезжая к селу, сидя в телеге, желая скорейшего приближения к селу, Иван всем телом несколько раз подавался вперёд, как будто этим он мог ускорить приближение к дому. При подъезде к селу Иван пожелал слезть с повозки и селом до своего дома идти пешком. Он решил, для своих родных, явиться домой сюрпризно, благо багажа, кроме костылей и заплатной шинели, никакого не было. Чтобы селом пройти неким героем, Иван нарочито распахнул на себе шинель, обнажил грудь свою, на левой стороне гимнастёрки висела и золотом блестела на солнце медаль «За оборону Ленинграда!». Войдя в свою родную «Главную» улицу, у Ивана трепетно заклокотало сердце в груди. Он ускорил шаг. Вдали завиднелся родной палисадник, у которого стоял и всматривался в приближающегося инвалида на костылях отец, но он издали пока не признал в этом инвалиде сына Ивана и, вошедши в дом, позвал к наблюдению мать Ивана Любовь Михайловну. Приблизившийся Иван, не дойдя до родного дома три дома, с волнением, задыхаясь от радости, крикнул отцу с матерью: «Встречайте!!!» Отец взволнованно затормошился, а мать от радости побежала навстречу и рухнула на землю, не могла выдержать радостного напряжения, охватившего всё её хрупкое тело, видя возвращающегося с фронта сына (из шестерых воевавших), хотя и инвалида на костылях, но живого. Александра убили, от старшего Михаила нет никаких вестей, а три младших продолжают сражаться на фронте. Иван бросился в объятья матери, отца и сестрёнки Нади, начались радостные поцелуи, и Иван в сопровождении отца с матерью вошёл в свой родной дом.
– Вот, я снова в родном доме! – стукнув костылями об пол, радостно и громогласно крикнул Иван.
– А нам пришло извещение, что ты убит! Только оно пришло после твоего письма из госпиталя, – сказал отец.
Узнав, что в доме Савельевых с войны заявился инвалид-фронтовик, сюда потекли родные: пришла сестра Мария, пришли соседи и приближённые жители улицы. Начались расспросы и рассказы о жизни в селе. Узнав, что явился Иван, прямо из поля, пыхнув напрямик, впопыхах пришла Клавдия, и вскоре вместе с племянниками Сашкой и Генкой появился сын Юрий.
– Вот, узнаешь ли Юрия-то, он вон как вырос! – сказала мать.
– Он!
Больше всех была обрадована мать. Она хлопотно засуетилась о том, чтобы скорее накормить сына и, хлопоча в приготовлении еды, расспрашивала Ивана о том, чем кормили на фронте и в госпитале, и сочла нужным спросить сына:
– Ты, чай, Вань, получил в воспитале-то яйцы, которые мы тебе отсылали?
– Какие яйцы? – спросил Иван.
– Как «какие»? Здесь с нас агенты со всего села яйцы собирают. Говорят, что они нужны в воспитале раненым, «чтобы они их ели, да поскорее выздоравливали!», а у нас у самих-то маловато их было. Ну а раз «для раненых», то мы и не жалели. Я подумала: у нас тоже в воспитале раненый сын находится! Я даже на одном яйце адрес новый карандашом написала, в Котельнич-то, где ты раненым лечился! Ты его получил, ай нет? – с наивностью спросила мать Ивана.
– Нет, не получал. Я вообще-то никаких яиц не получал и не ел их, за восемь месяцев, пролежав на одной койке, не видел ни одного яичка, даже позабыл какого они цвета и формы! – откровенно высказался Иван о яйцах как о продукте питания раненых в госпитале, в котором он находился.
– Ну, а как дело обстояло в блокированном Ленинграде, ты ведь сам там побывал? – спросил Ивана отец.
– Да, расскажи-ка нам, как там люди голодали, и как бают ивакуированные, умирали с голоду прямо на улицах? – включился в разговор и Фёдор Крестьянинов, пришедший к Савельевым вместе с шабрёнкой Дарьей.
– Да, в Ленинграде была жуткая картина, с голоду люди мёрли, как мухи. Я сам зимой 1942 г. видел трупы, сложенные поленницей, в пригороде и во дворах! – ответил Иван.
– Да, русский народ весь век в полуголодном бытии пребывает. Русский человек весь век и всю свою жизнь работает за кусок хлеба, и его заветная мечта «быть с хлебом». Неурожайные годы начала двадцатых годов, трудности в начале тридцатых, а теперь вот война, и вовсе оголодала вся матушка-Русь, и дело дошло до гибельного положения. Я же всегда говорил, что «товарищи» не обеспечат народ хлебом! – длинно высказался Фёдор.
– В колхозе-то, хоть и выращивают урожай-то, но хлеб-то весь забирают в государство под метёлку! И нам, колхозникам, его не дают. А получишь пуд или два ржи – её надо отдать за пастушное, и приходится кормиться почти одной картошкой, да и её 17 кг с сотки земли свези в управу! Да и другими налогами народ невтерпёж замучили! – высказался и Василий Ефимович.
– Это рай дело, повезёшь на мельницу картошку сушёную (челуху) молоть, а там у мельника приказ свыше, за помол челухи брать рожью, эт рай дело! – высказалась Дарья.
– Это выходит: купи ржи и отдай её за помол челухи, а кто нынче и продаёт хлеб-то? – заметил Фёдор.
– Как кто продаёт хлеб-то? Толкнись к председателю Карпову, он писнёт записку мне, я и ржи по его распоряжению выдам! – высказался пришедший посмотреть на фронтовика Митрий – колхозный кладовщик. – Ну, а как там, Иван, на фронте-то? – спросил Митрий, неохотно поддерживающий разговор о хлебе (сытый голодному не сочувствует и не разумеет).
– Ну, как тебе сказать. Фронт есть фронт, каждый день обстрелы и взрывы; там постоянно слышишь голос войны, сначала-то было жутко, а потом все попривыкли. Голодное население Ленинграда мечтало, как бы поесть. Ну, а на передовой-то, известно дело: от треска выстрелов пушек и «Катюш» и адского грохота разрывов снарядов в ушах непрерывный звон, в голове хаос мыслей, а на сердце тяжкая истома и мучительное дёрганье нервов. Слышны команды командиров: «Шагом марш!», «Бегом!», «Пли!», «Бей!», «Режь!», «Коли!» А после боя подсчёт убитых, подбор раненых!
– Недаром у него на груди-то вон медаль блестит! – сказал отец.
В разговор о фронтовых делах вступила Дарья:
– Вот наш Санька с фронта в письме нам пишет, что там, на передовой-то, постоянно немцы в наших стреляют, а наши в них. Так, грит, ни одной свободной минуты нету, даже поесть неколи!
– А как же он нашёл время письмо-то вам написать? – спросил Дарью Фёдор.
– Как-как, он у нас кумунист-яцейка, вот и отпустил его командир, чтобы он письмо-то написал. «А я за тебя пока постреляю!» – грит ему командир-то сказал. Вот какие сознательные командиры-то бывают! – сказала Дарья. – Наш-то Санька всё знает, он нам пишет, что война скоро должна замириться! – дополнительно высказалась Дарья о всезнающем сыне Саньке.
– Ваш Санька коварный интриган и злостный провокатор, видимо, знает чуть побольше того человека, который ничего не знает! – заметил Митрий, выходя из избы.
– Поди-ка, Клавдий, затопляй баню для фронтовика, да и кстати сегодня суббота! – распорядилась Любовь Михайловна снохой, а сама, присев к столу поближе к сыну, горюмисто растревожившись вспоминаньем о старших погибших сыновьях, стараясь сдержать просившиеся на глаза слёзы, часто-часто мигая и плотно сжав губы в печали, с грустью в голосе заговорила:
– Да, сынок Ваня, ты хоть весь искалеченный, да всё же домой-то живым пришёл, а твои старшие братья, сынки Миша с Саней, уже не придут и не порадуют материнское сердце своим пребыванием в родном доме. Эх, нам и жаль этих обоих наших сыночков! – с грустью промолвила она.
И ей хотя и не хотелось омрачать радостной встречи Ивана, но не сдержавшись, заплакала, вытирая слёзы концом запона. Не выдержав грустной обстановки и не вынося созерцания слёз матери, Иван поднялся с места и вышел на улицу, из избы за ним вышли и посторонние люди. Иван стал осматривать свой родной дом. Дом стоял всё так же, не изменив своей первоначальной позы, гордо смотря на улицу своими восемью окнами обоих этажей. За время четырёхлетнего отсутствия, Иван заметил, дом родной несколько постарел, пообветшала крыша. Каждое брёвнышко и каждый приступок высокого крыльца были знакомы и дороги для Ивана, детство и юность которого прошли в этом дорогом и родном ему доме. Ведь родной дом, как скворешенка для молодых птенцов дорога и мила, так и дом для родившегося в нём человека. Многие предметы домашнего скарба и околодомашних построек невольно воскрешали в Иване былые прошлые времена проведённых здесь лет неугомонного детства и пылкого юношества. Берёзка в палисаднике, когда-то посаженная братом Санькой, за эти годы заметно подросла, раскинулась ветвями так, что в её кроне может укрыться стайка воробьёв. Помещённая Санькой на этой берёзке скворечница раньше была на уровне с карнизом дома, теперь же она из-за роста берёзки вместе с кустом, на котором она установлена, поднялась выше и стала на уровне фронтона крыши дома. Иван с интересом наблюдения вошёл во двор. По двору, среди куриной артели, в важной позе расхаживался огненно-красного оперения петух. Время от времени он останавливался, гордо, в виде знака вопроса вытягивал шею, очумело выпучив глаза, громогласно кукарекал, старательно, певуче длинно выводил окончания своего пения. После всего этого осмотра своего родного дома, двора и хозяйственных предметов, Иван сходил в баню, где смыл с себя всё фронтовое и госпитальное и облёкся в гражданское обмундирование.
На второй день, в воскресенье 11-го июня, в честь прибывшего фронтовика сына Ивана Василий Ефимович в своём доме устроил для родных пир, и, как водится по русскому обычаю, с надлежащей выпивкой и угощением-закуской.
Мирная жизнь Ивана в родном Мотовилове
И зажил Иван, бывший фронтовик, относительно мирной жизнью. Ввиду того, что жена Ивана Клавдия с сыном Юрием жили у её матери в Кужадонихе (в разгар войны, когда немцы начали бомбить автозавод, оттуда и приехала Клавдия в родное село), Иван жить перешёл к тёще, которая очень-то его не звала и не прогнала, выделив для его семьи пристенок. Жить в родном доме Ивану не было смысла – в него после войны с фронта должны вернуться ещё три его младших брата: Василий, Владимир и Никифор. Получая пенсию в сумме 250 руб. и хлебные карточки на себя (350 гр.) и на сына Юрия (150 гр.), Иван жил вроде бы на свои средства, да жена Клавдия работала на полях колхоза и получала на трудодни что полагалось. Она же принимала большое трудовое участие в ведении хозяйства матери, Ивановой тёщи. Из-за недостатка лошадей колхозную землю заставляли колхозников пахать на коровах, а свои усадьбы приходилось колхозницам пахать на себе! Шесть, запрягшись в постромки, тянули плуг, седьмая – за плугом! Но бабы особенно-то не унывали, а под шутливый смех подпевали: «Маменька родимая, работа лошадиная! Только нету хомута да ремённого кнута!» Но и кнут был: председатель Карпов, разъезжая по селу и по полям верхом на «Вертехе», размахивая плёткой, грозил этой плёткой тем, кто «плоховато» работает! И женщин, отважившихся (для пополнения своего скудного питания) пойти в лес за ягодами или за грибами, бесцеремонно возвертал и посылал на колхозную работу. Пашня же земли «на себе» – работа трудоёмкая, она подсильна только лошади или трактору, требовала от женщин-колхозниц большого усилия, но это усилие-то с утра-то туда-сюда, пока имелось, а к вечеру совсем выдыхалось, и плуг за уставшими бабами волочился не так податно. «Вот черти-лошади, овёс съели, а везут плохо! – шутливо подзадоривая баб, старик-пахарь, идущий за плугом.
– Вижу, вижу! Которая плохо упирается, постромки у ково ослабли, та и ленится! – опять с шуткой в голосе, с жалостью на душе подгонял он замотавшуюся в упряжке, изнурённую работой, истощённую недоеданием колхозницу. – Кто пашет, тот должен пахать с надеждою!
Встретил Иван на улице такого же инвалида, с фронта вернувшегося с искалеченной ногой Якова Лабина, и между ними завязалась беседа.
– Ну как, Иван Васильич, мы с тобой за что воевали? – спросил Ивана Яков.
– Как за что? За Родину и за честь жён своих, – ответил Иван.
– Уж какая там, хрен, честь жены, когда её видишь в лошадиной упряжке! – с усмешкой отозвался Яков. – В колхозе-то царит вопиющее вероломство и полный разгул самовольства и несправедливости! И всему мерилом стала поллитровка водки! Вот жаль, что я с фронта гранату не прихватил – пригодилась бы! – с недовольством добавил он.
Накануне Петрова дня Иван вместе с Григорием Ваниным – председателем вторусского колхоза «Красный партизан», на лошади поехали в лес на Прорыв, в лесничество по вопросу хлопот о выделении лугов для покоса, заготовки сена на зиму тёщиной корове, молоком от которой пользовался Иван. Из лесничества Иван с Григорием заехали на разъезд «Черемас», на посёлке которого проживал их друг Павел Крестьянинов, ведующий здесь заготовкой в лесу дров для горьковской «Башкировской» мельницы. От мельницы для заготовителей дров Павел получал отруби – отходы от мельничьего производства. Перед тем, как раздать эти отруби рабочим, Павел их переправлял в Мотовилово и складывал в мазанку его отца Фёдора. Фёдор вместе с дочерью Анкой целыми днями через решето просеивали эти отруби, отбирая лучшую часть для себя, а непригодную, отрубную, для рабочих.
– Птичка по зёрнышку собирает, и то сыта бывает! – не знай, себя оправдывая, не знай, заочно рабочего-труженика обоблаготворяя высевками, многозначительно высказался Фёдор перед Анкой и перед женой Анной, присутствующей здесь же при «сортировании» отрубей.
– Кто нашёл, тому и счастье, а кто потерял – тому горе! – сказал высевальщикам сосед Василий Ефимович, случайно идя мимо мазанки и заглянувши в неё (его привлекла летевшая из неё пыль). – Так-то делать, Фёдор, не совсем пристойно! Рабочим-то вершки, а себе-то корешки! – сказал Василий, видя на полу на разостланном пологе насеянный ворошок муки (корешки), который явно предназначен для себя, а оставшиеся в решете (вершки) – для рабочих-заготовителей, которые натружено работают в лесу под начальством Павла Фёдоровича.
– Ты, Василий, больно заприметчивый, в шабровом деле так делать не годись! – заметил Фёдор Василию, в душе ругая Анку за то, что она неплотно прикрыла дверь у мазанки.
Узнав о всех Панькиных жульнических манипуляциях, Иван ему, как прежнему другу, выговорил:
– Слушай-ка, Паньк, как ты считаешь: честно ли так поступать, как поступаешь ты? Рабочим, трудящимся в лесу, до полного изнемогания устающим, ты за работу им даёшь высевки, а что получше – отсеваешь себе!
– А как же иначе-то? Ведь я хочу жить! – ответил Панька.
– Ты хотя бы постыдился того, люди на фронте кровь проливают, а ты всю войну на бабьем фронте-то пробыл да табаком спекулировал, на чужой нужде себе «багаж» создавал, на чужом горе наживу имеешь! – упрекнул его Иван.
– А что толку-то, что ты воевал и кровь свою пролил на фронте, всё равно живёшь в недостатке! – как жаром опалил этими словами Ивана Панька.
– Ну тогда вот что! Если ты, Паньк, был мне другом в детстве и юношестве, то после этого, по-видимому, ты не можешь мне быть другом в пожилом возрасте. В детстве и юношестве я тебе как старшему годами всячески подчинялся и потворствовал твоим коварным лихим выходкам, и ты мною помыкал… А теперь же другое дело, я войну прошёл, я не согласен слепо следовать твоим мироедским спекулятивным наклонностям, потому что ты всегда имеешь камень за пазухой, и этот камень ты всегда готов коварно обрушить на неугодного тебе человека. Ты не пощадишь даже своих отца с матерью! Вот тебе и весь мой сказ! – со смелостью фронтовика высказал Иван Паньке.
И Панька, сконфуженный правдивыми упрёками, отошёл от Ивана. И вспомнилось Ивану, как ещё в детстве, имея от природы властолюбивый, коварный, с признаками садизма характер, стремление к обману чужих и близких, Панька обманывал своих друзей-товарищей. Ваньку Савельева и Саньку Фёдорова, во время картёжной игры в очко на деньги, он незаметным способом делал наколы на «тузах» и «десятках». Банкуя и прикупая себе очередную карту, он с ворожбой и таинственностью «выжимал» очки, бутафорно плюя на карты, дуя на них, сдувая лишние очки и надувая недостающие для «очка». Сверх этого, он помещал меж своих ног небольшое зеркало и по нему наблюдал за «счастливым» подбором очков для выигрышного заветного «21». В общем-то, надувал своих же друзей, но меньших по возрасту. И недаром в те времена про Паньку было сложено: «Легковато быть богатым без труда-работушки. Деньги ваши – стали наши, спите без заботушки!»
Видя, что зять-инвалид Иван, от безделия прыгая на костылях по улице, играючи занимается с ребятишками, его тёща заставила (для первости) свить верёвку из мочала, потом она ему поручила срубить погреб, а затем и покрасить краской железные крыши на избе и на амбаре. Ползая по крышам, Иван наневолил раненую ногу, и рана открылась. Болея, целями днями Иван пролёживал в постели, одиноко закрывшись в амбаре. Обильно вытекающий гной из раны препятствовал его выходу на волю. Жена Клавдия целыми днями была занята на жнитве в поле, а потом на молотьбе колхозного урожая. Хотя и обильный был урожай в этом 1944 году, но колхозникам приходилось работать на жнитве полуголодным. Как рассказала одна колхозница Анна о своей подруге-колхознице из одной с ней бригады, о Татьяне Хоревой, которая во время обеда на жнитве из-за того, что ей нечего было захватить из дома из съестного, она села поодаль от подруг и толочила колосья. Зёрна ссыпала себе в карман сарафана, сказала: «Вот, бабы, я из колосков зёрнышков натолочу, ужо вечером на своей самодельной меленке их смелю, а завтра из мучки лепёшек напеку: сама наемся и детишек накормлю, а нынче на обеде у меня есть нечего, да и вообще, сегодня у меня во рту ещё крошки не было!» А не выходить на работу было нельзя: сатрапы-бригадиры, науськиваемые председателем колхоза Карповым, беспощадно выгоняли колхозников и колхозниц на работу.
– Накормить-то никто не накормит, а на работу послать вас много таких начальников найдётся! – пробовала высказать возмущение Татьяна наряжавшему её на работу бригадиру Ваське Горшку. – Ты знаешь, что я нынче не ела! – жаловалась она бригадиру.
– Какое моё дело, что ты сегодня «не ела», моё дело тебя на работу в поле послать, а кормить тебя я не уполномочен, да ты, пожалуй, и пальцы откусишь! – отшучивался Васька. – А вот если ты сегодня на работу не выйдешь, для первого случая оштрафуем на 5 трудодней, а при повторении – усадьбу обрежем по самый угол! – грозился Васька.
А эта угроза «обрезать землю по самый угол» значила, что человека лишат земли – единственного средства существования. На приусадебной земле колхозники сажали картофель, платили налог натурой – 17 кг с сотки земли, и, продавая картофель городским жителям, на деньги платили неимоверные денежные налоги, а их было не менее десяти!
Из колхоза урожайный хлеб ежегодно в государство забирали под метёлку, поэтому хлеб был всему голова, и с языка колхозников слово «хлеб» не сходил во все времена. В село часто наведывались «менялы» – люди городского местопребывания. Они выменивали у колхозников картошку на разного рода «барахло» и посуду – чугуны и миски. К тому же, во время войны, в её начале, в Мотовилово привезли эвакуированных детей из Ленинграда, и в здании школы (оборудованной из церкви) открыли так называемый «Дом малютки». С детьми прибыло много и взрослого населения – ленинградцев, которые обслуживали «Дом малютки», жили на квартирах у колхозников. Эвакуированные получали по карточкам печёный хлеб (которого колхозникам по закону, видимо, не полагалось), и они (эвакуированные) променивали хлеб колхозникам на коровье масло (у кого оно было), яйца и прочий продукт, почти вес на вес – вот каково было значение хлеба! Жёнам колхозного начальства – председательше, жёнам кладовщиков и прочих тыловых сатрапов, часто ходить на колхозную работу было некогда. Они на себе не пахали, не жали и не молотили, а хлеб в их мазанках водился: им в поле ходить «некогда», они благотворительно обслуживали менял, выменивая у них нарядные платья, платки, жакетки, туфли и прочее барахло, одним словом, были заняты своим благоустройством за счёт колхозников-тружеников. Без всякого чувства совести, без всякого должного сочувствия к страданиям, людям-односельчанам, но с явным признаком какого-то высокомерия и чопорства, неудержимого желания насмехаться, укольнуть и причинить обездоленному боль, трудились «во имя победы» колхозные сатрапы-тыловики. Ведь сверх всякого нахальства, отважно отсиживаться в тылу, «доблестно» трудиться «на нужды фронта», нахально присваивать плоды тружеников-колхозников, наслажденно преспывать с жёнами фронтовиков, регулярно почитывать газеты со сводками о положении на фронте и отыскивать свою фамилию в списке награждённых?!! Одним словом, колхозные начальнички-прозелиты царствовали, пировали, а колхознички-труженики на них работали: хлеб сеяли, хлеб жали, хлеб молотили и хлеб не ели. Страна требовала хлеб для фронта и для «боевого тыла», а труженики-колхозники, производители этого хлеба, кормилицы всего народа – разве они не тот же «боевой тыл», разве они не имеют право есть хлеб, тем более производимый ими же? Увы! Оказалось, что они не имели права есть свой же хлеб!?! Видимо, «кто работает, тот да не ест!»
В этом 1944 году урожай был отменный; бабы-колхозницы на колхозном поле вручную нажали и наставили множество хлебных кладей – лелеяли в себе надежду получить в этом году из колхоза хлебца, по меньшей мере грамм по 200 на трудодень, но их надежда рухнула, едва «дали» по 100 грамм. Хлеб молотили всю осень, клади снопов убывали, а хлеба в колхозных амбарах не прибывало: прямо с тока увозили его в государство, а хлеб, предназначенный разделу на трудодни, на глазах колхозников куда-то исчезал. Хлебом бесцеремонно, самовластно распоряжался сам председатель Карпов: хлеб возами возили в Арзамас на базар его приспешники, прихлебатели, причандалы, которые оказались тоже с хлебом. Вырученные деньги безучётно клали в карман Ивану Ивановичу, и он ухнул хлебец почти весь, который остался после расчёта по госпоставке государству! Некоторые недовольных колхозники-труженики, видя такое нахальство и вероломство, пробовали высказывать своё недовольство, но писанными законами и постановлениями это преследовалось и строго каралось, и люди были вынуждены пойти на воровство и хитрость, действуя по принципу: «мелочь ворует, а крупнота – берёт!», «не подмажешь – не поедешь!» Непокорных «грамотных», не умеющих держать язык за зубами, бесцеремонно отправляли на фронт или на лесозаготовки, не жалея даже калек и одиноких женщин. «Пусть грех будет на моей душе!» – высказался однажды военком Мирохин, отправляя на фронт явно неполноценного человека Васю Попова. А посылая на лесозаготовки в зимнюю стужу одного строптивого колхозника, Карпов высказался так: «Как же это мы не докумекали, прохлопали, ранее его не послали? Но лучше поздно, чем никогда, издадим приказ, а приказ – есть закон для подчинённого!» «Кого хочу – помилую, кого хочу – казню!»
На молотьбе ржи некоторые догадливые бабы-колхозницы хитроумно припрятывали около себя в пределах кармана хлебное зерно, но и эта уловка была разоблачена: весовщик-кладовщик Митрий Грунин, заметя пополневшую на молотьбе бабу, чтоб сохранить приличие обыскивая, не лезть рукой бабам под юбку, с довольной улыбочкой предложил: «Давайте-ка, бабы, сегодня через весы пройдём, узнаем, кто из нас сегодня пополнел-поправился!» И таким способом бабы-«хищницы» разоблачались. Водка, блат и «бабий вопрос» стали решающим фактором судьбы сельского жителя. Поллитровка стала нарицательным мерилом стоимости всего и вся, что надобастно встречается в бытовой жизни человека. «Поставишь поллитру – всё сделаю!» – частенько слышалось в народе.
Как-то однажды попросила Пелагея своего соседа, по болезни досрочно вернувшегося с войны Ершова:
– Миколай Сергеич, пожалыста, почини мне дверь у избы, а то скоро зима, холода начнутся, а она у меня неплотно прикрывается!
– А что я за эту мою услугу буду иметь от тебя? – с намёком на любезность спросил её Николай.
– А чего бы ты хотел? – осведомилась Пелагея.
– Да горячих поцелуев и обоюдную постель! – глотая слюну, выпалил Николай. – Чай война-то всё спишет! – елейно и гаденько улыбаясь, добавил он.
– Так вот, вместо двух поцелуев получай от меня две горячих пощёчины, да ещё вдобавок муж придёт с фронта, я ему пожалуюсь, чтобы он тебе ещё дал два пинка с разбегу дополнительно! – отчитала Николая верная своему мужу Пелагея. – Нет уж, пускай в холодной избе зимовать буду, а на подлость перед своим мужем, которому я под венцом клятву верности дала, на нарушение закона не пойду! – добавила в запятки ошарашенному таким оборотом дела Николаю.
Дельно кто-то сказал: у бывших фронтовиков, особенно у раненых, инвалидов, психика надломлена. Так и у Ивана: от свиста пуль и снарядов, от грохота войны он почти оглох, а от блокадного питания едва не издох! Фронт и примеры вероломства, издевательства над колхозниками-односельчанами вконец расшатали нервы Ивана. Он стал крайне раздражительным и неуравновешенным нравом, даже крик петуха и нудное кудахтанье курицы сильно раздражало его, а в буйных припадках раздражения, которое наводили на него сатрапы-тыловики, то он по примеру Якова Лабина иногда жалел, что с фронта не прихватил гранату!