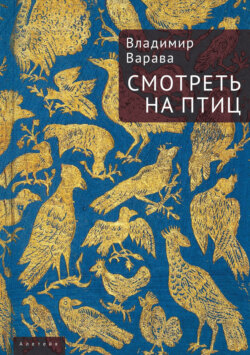
000
ОтложитьЧитал
И вот, потеря ее образа не некоторое время. Что могло быть ужаснее, что могло быть невозможнее и нелепее. Почему же я не распался на молекулы своего одиночества, когда она незаметно для меня выпорхнула из моего сознания?
Это стало для меня сущей загадкой, заставившей, однако пересмотреть природу наших отношений. Вернее, природу моей привязанности к ней. Впервые я задумался о том, не была ли она для меня помехой? Это первое, что могло прийти на ум, стоило только эмансипироваться на совсем короткий промежуток. Но прежде мне вспомнились обстоятельства, при которых и произошло это слияние душ, вернее, прилипание ее образа к моей душе. Было страшно, была какая-то ночь наслаждений, раскрытий и отдачи. Было сладко и страшно одновременно, приятная боль радости от того, что она рядом, и что ее близость как бы прощает заранее всю нелепость и ненужность моего существования, которое отныне берется под покров ее обладания, и не просто обладания, а под покров наслаждения, которое дарило ее обладание – ее обладание мной и мое обладание ею. Дарило просто так, я это понял сразу, легко и непринужденно. И это одаривание ее сокровенным наслаждением и было высшим актом милосердия, в котором мне прощались и отпускались все грехи моего совершенно ничтожного бытия. Это была поистине королевская привилегия, незаслуженная благодать, о которой только могли мечтать толпы таких же совершенно ничтожных существ, наподобие меня.
Я испугался сначала, что это не повторится по причине ее нежелания, затем испугался, что не повторится, что она просто умрет. Возьмет и умрет, как умирают сотни, тысячи, вообще бесчисленное множество других людей при самых разных, нелепых обстоятельствах. Но когда я понял, что она не умрет лишь в том случае, если я буду крепко держать ее в объятьях свой мысли, вот тогда и произошло это вхождение ее в меня, вернее ее образа в план моей внутренней духовности, в которой отныне не было места никакому другому идолу или божеству, даже идеи или мысли, настолько прочно она удерживала в моем сознании свое царственное положение.
Жизнь, безусловно, изменилась, изменилась самым радикальным образом. Я теперь должен был пожертвовать лишь своим несвободным сознанием, в котором всегда была только она. Ее дьявольски – божественный образ, давая наслаждение, дававший мне бытие. Взамен лишь одно, она действительно никогда от меня не требовала, даже внимания особого не нужно было с моей стороны, взамен только одно – жизнь ее образа в глубине моего сознания.
Что могло быть проще и слаще! Что могло быть радостнее и приятнее! Что могло быть желаннее! Трудно себе представить. Я порой задумывался над тем, почему же мне так повезло, почему истина бытия открыла свои объятия перед моим входом. И я не постеснялся и вошел туда – в эту святую обитель света и счастья, в котором все было наполнено радостью обладания той, от которой зависела моя жизнь. А взамен ничего, кроме одного – заполнения моего существа памятью о ней, живой памятью ее бытия. Я думал поначалу, что так оно и должно быть. Но я видел, что у других этого нет, совершенно точно это видел и понимал, что я не ошибаюсь. Что-то было исключительное и уникальное в наших с ней отношениях, которые вот обернулись такой драмой моего сознания.
То, что это была драма, стало понятно позже, когда я освободился от нее, когда она ушла из моей головы, не оставив там ни следа, кроме обычной памяти, подверженной уничтожающему действию времени. Никакой ностальгии, никакой тоски и терзания. Но я был, конечно, благодарен ей за этот уникальный опыт, не только за подаренное безмерное наслаждение, которое, кстати, куда-то подевалось, не накопившись ни в каких затонах моего существа. Странно было представить, как возможно такое! Как было возможно такое со мной. Это не обычная одержимость, как могло показаться поверхностному взгляду, не улавливающему никакой глубины. А здесь как раз была глубина. Да еще какая!»
* * *
Дэн, конечно, понимал, что это была нелепая попытка снять боль потери средствами какой-то, скорее всего пошлой и неудачной эстетизации. Уйти в размышления, чтобы не чувствовать трагизма; так иногда удавалось. Только вот он не мог разобраться, к кому теперь обращены эти строчки – к Марии или к жене? И это было самое тяжелое, поскольку ставило под сомнение все его существование, навсегда потерянное в этой женской неопределенности.
А потом был сон, большой, страшный и как всегда непонятный. Они (кто точно нельзя было понять) брели по большому темному и незнакомому городу. Не день и не ночь, не жизнь и не смерть, все в огромном мутном желтом мареве. Его тягучесть ощущается как предчувствие ненастья. Она тянет его к пруду, к тому самому месту, когда первый раз здесь что-то произошло. Что именно? Не понятно, жизнь или смерть? Чья жизнь и чья смерть? На земле огромные красные лужи, в темных водах которых видны очертания его смертных мук. Она продолжает его тянуть куда-то, в самую кошмарную ночь человеческого существования.
Но, увы, это был не сон, поскольку снов вообще не бывает; сон – это часть реальности, странная, непонятная, нереальная, но реальность, которую тоже нужно принимать всерьез и с которой необходимо мириться, чтобы не сойти с ума. Никогда нельзя отмахиваться от страшных моментов жизни, ссылкой на сон. Есть жизнь, и что бы в ней ни происходило, надо принимать, если и не с благодарностью, то с пониманием и покорностью.
Часть третья
* * *
«Как же так случилось, что жизнь прошла, даже и не начавшись?» Эта по сути последняя из всех возможных скорбных мыслей мира все сильнее и ожесточеннее жгла сознание Дэна – уже немолодого, но еще не и старого, далеко не старого человека. Конечно, он и раньше чувствовал всю эту проклятую пустоту своей жизни, которую никогда не удавалось наполнить чем-то однозначно стоящим и ценным, таким, чтобы умереть за это не раздумывая. Но эта пустота безболезненно проходила мимо него, он как бы и не принимал в ней участия, всегда находясь на недоступных окраинах жизни. А теперь что-то изменилось в нем, но он не мог понять что, иногда проводя перед зеркалом много времени. Слишком много, чтобы считать это нормальным мужским занятием. Было противно и стыдно, но он теперь остервенело вглядывался в свое отражение, стремясь проникнуть в бесконечную глубь черных зрачков, так странно и отрешенно смотревших на него. Он не узнавал себя, видя перед собой постороннего человека с незнакомыми чертами. Приходилось зачем-то трогать свои щеки, скользить по грубоватой поверхности лба и носа, растягивать кожу под глазами, непонятно зачем прищуриваясь, неприлично выпячивать губы и подолгу рассматривать потрескавшуюся эмаль все еще белоснежных зубов. Зубы были предметом особой заботы Дэна; он не мог допустить их порчу, видя в них важнейшее средоточие жизни.
Никто не видел его в эти минуты. Было бы странно застать его в этом положении всякому, кто хоть немного был с ним знаком. Ему самому было неприятно. В конце концов, он ведь не женщина, для которой физиологические изменения есть самое большое духовное горе, с которым она так и не научилась справляться. Даже Мария, едва успевшая приобрести зрелое женское обличье, и та иногда застывала перед зеркалом, разглядывая обычные для ее возраста складки в уголках глаз и губ. Она специально кривила лицо, вызывая неестественные морщины, чтобы ужаснуться им и впасть в немотивированную грусть по этому поводу.
Мысль о том, что жизнь уже прошла, так и не успев начаться, была до удивления простой, но до слез грустной в своей безыскусной очевидности. Словно вам приподнесли смертный приговор в праздничном конверте, перевязанным розовыми ленточками. Что может быть печальнее этого? Что это вообще за обман, который творит безразличная неведомая сила, позволяя зачем-то нам быть? Все всегда проходит, пролетает незаметно, так что ты не успеваешь зацепиться ни за что существенное. Да и есть ли это существенное?
Отец давно умер, память о нем сильно поблекла. Мать безвозвратно постарела, замерев на пороге бесконечного ухода. Не было ни жены, ни Марии. Дэн не предавался мучительным воспоминаниям их трагического исчезновения. Он уже давно все знал, но старался не думать об этом, бесконечно обманывая самого себя, А сейчас жизнь продолжала свой нудно-томительный ход, едва напоминая о себе чем-то радостным. Еще противнее стали окружавшие люди, которые, казалось, жили в совершенном довольстве и беспечности. Они не только казались, но, скорее всего и были счастливы, тем своим мелким счастьем, которое, как всегда, думал Дэн, было уделом самых низких людей.
«Жизнь закончилась, не успев начаться» – постоянно сверлило в голове, создавая вокруг гнетущую атмосферу. Казалось, что лучшие годы своей жизни он упустил, не успев совершить ничего значимого. Раньше можно было еще указывать на весь этот мерзкий мир, оправдывая свое неучастие в нем. Но теперь нет, внутри уже что-то не позволяло. Как-то совсем нежданно обрушилась эта нехитрая истина, застав врасплох несчастного Дэна, которому стало так тошно и сумрачно, что он вновь начал думать о конце.
Временами ему казались даже смешными чувства, которые он испытал, потеряв отца. Это было неприятно, но что делать, если поток времени пожирает все самое святое и сокровенное? Появились новые люди и привязанности, но уже не было той наивности в отношении к жизни, которая была прежде. Дэн так и не мог выбрать себе постоянное дело, поскольку его призвание не могло быть воплощено ни в одну из существующих профессий. Он не мог позволить потратить уникальность своего дара на что-то одно. Эта уникальность временами чувствовалась остро и болезненно. И, не находя ни в чем удовлетворения, он все больше разочаровывался и его разочарование ложилось тяжким камнем на его жизнь.
«А вдруг и это не то? Вдруг и это не главное? Разве можно чему-то одному отдать всю свою жизнь?» Поэтому и метался от одного дела к другому, от одной работы к другой, надолго не задерживаясь нигде. Он никак мог понять, как это можно проработать, например, сорок лет на одном месте. Можно ведь умереть. Нет, лучше умереть, чем так жить. И даже творческие профессии. С каким презрением он смотрел на маститых композиторов, актеров, писателей, когда те кичились своим положением, своими достижениями. Все это конечно пустота, или скорее, сокрытие пустоты. По-настоящему даровитых людей, совершивших творческие прорывы, единицы. И все они были, как правило, неустроенны, все были несчастны. А эти полчища «творцов» просто бездарны; они могут всю жизнь делать одно и то же, поскольку это начисто лишено смысла. Они только наводняют мир ненужными звуками, строчками, красками. Они, конечно, не вредили, но Дэн всегда сторонился подобных людей и сообществ.
Это было каким-то нестерпимым противоречием его натуры, но Дэна всегда преследовал страх, что он занимается не тем, что попросту тратит время, даже если его занятие были связаны с самым заветным, с музыкой. Но музыка была неприступным божеством, к которому нельзя было прикоснуться смертными руками. Она существовала отдельно, по ту сторону бытия, всегда выскальзывая из ограниченных временем и пространством человеческих стремлений постичь и выразить ее сущность. И поэтому он не мог полностью отдаться даже музыке и ждал, надеясь на то, что однажды сможет создать абсолютно совершенное творение.
Так он и жил, согревая жизненный холод теплотой совершенного, но, увы, совершенно недоступного идеала. Дэн никак не хотел примириться с тем, что с возрастом необходимо расстаться с романтическими представлениями об идеальном, превратив свою жизнь в массу скучных обязанностей и пошлых удовольствий, которые имели лишь одну цель – заставить его жить как все. И умереть, неизвестно зачем. Он теперь, конечно, уже по-другому смотрел на картину человеческой смерти, не отдаваясь власти темного демона, выворачивавшего его душу при каждой встрече с неизбежным. Он, наверное, теперь совершенно иначе пережил бы смерть отца. Но он продолжал вести эту тяжбу с жизнью, держась своих, становившихся все более и более призрачными, представлений.
* * *
Внешне его жизнь мало изменилась. Дэн оставался преданным своему видению мира, заставлявшему искать уникальное в каждом проявлении жизни. Музыка, возлюбленные, алкоголь по-прежнему были его спутниками, в компании которых он чувствовал, конечно, непрочную, но все же, подлинность жизни. В тоже время, он был наивным и мог радоваться как ребенок простым вещам. Родственники, коллеги, знакомые по-прежнему вызывали презрение, ставшее теперь тягостным бременем, поскольку, вместе с презрением возникала и жалость к ним, ко всем этим ничтожнейшим существам, жалость, невероятно развившаяся с возрастом. Она мешала, но он не хотел бы избавиться от нее, чувствуя, что в ней сохраняются последние капли человечности. Той человечности, которой он не видел в других, но которую он был почему-то обязан терпеть в себе.
Он не собирался отказываться от своего образа жизни, не поддаваясь на трусливые ухищрения взрослого мира «остепениться». Он не хотел ни остепеняться, ни умнеть, ни взрослеть, ни умирать, выбрав, как большинство, медленную смерть, растянутую на долгие годы бессмысленного и пошлого существования. Дэн сохранил в себе искренний и благородный энтузиазм уничтожить этот мир, лишь бы не жить во зле. Не быть с ним заодно. Но он не знал, как это сделать, и поэтому продолжал искать утешения в привычных для себя вещах, к которым так брезгливо и презрительно относится деловой мир успешных людей.
* * *
Окинув взором прошедшие годы, Дэн понял, что в жизни ничего не было такого, о чем можно было бы с полной уверенностью сказать, что жизнь удалась, состоялась. Как часто говорят знаменитые люди, что представься им возможность прожить свою жизнь заново, они бы ни на миг не сомневались, и прожили бы ее от начала до конца, все повторив в ней точь-в-точь. Дэн недоумевал, как можно такое говорить. Неужели и взаправду все эти люди такие глупцы, что не понимают, что жить-то в сущности не зачем не только дважды, но и однажды. Или они такие необыкновенные счастливчики, что им, и только им выпало уникальное стечение обстоятельств, сделавших их жизнь бесконечно драгоценной и значимой?
Не верил Дэн во все эти рассказы о счастливой жизни. Сам-то он не был особенно несчастлив, но жить снова, еще раз он ни за что бы не согласился. Зачем? Но его пугало, обдавая волной нездешнего ужаса то, что и эта, никчемная и, в сущности, пустая жизнь уходит в неведомое, утекает на глазах, не создав ровно ничего, за что можно было бы зацепиться и осесть, осесть так, чтоб навечно, чтоб навсегда.
Много было драгоценного, много интересного, но ничего такого, ради чего можно было бы прожить жизнь дважды, он не находил. Ни дела, ни люди, ни события, ни впечатления не могли побудить его к тому, чтобы видеть в них последнюю величайшую ценность. Он как бы видел пустоту мира, которую не видели другие – не хотели, или попросту не могли. И это было его несчастьем, превращавшим само существование в какую-то метафизическую казнь без вины, без причины, без смысла.
Точно свою жизнь он не стал бы снова проживать, а чужую тем более. Зачем ему чужая жизнь? Да и не только снова прожить, но и умереть за эти вещи вряд ли он согласился. Это не малодушие, просто глупо умирать за несущественное. А то, что Дэн видел перед собой, и было несущественным, включая то, что другие считали великим и драгоценным. Он понимал, что это от лукавства или недостатка ума.
Конечно дети… (Дэн чуть было не подумал: «проклятые дети»). Эти милые дети. Детей он любил, и детей было жалко. Он как-то сразу про них не подумал. Теперь у него был сын, которого ему оставила одна совсем неприметная особа, с которой он сошелся на короткое время. И вот теперь Дэн мог наблюдать за развитием своего сына, понимая, что является для него тем же, чем был некогда его отец для него самого. Какая-то обреченность на то, что бы повторять все отношения, в которых любовь, ненависть и страх перемешаны так сложно и глубоко. Дэн видел, как одновременно сын его любит и испытывает к нему отвращение, то самое отвращение, которое и составляло главный нерв раздора с его собственным отцом. Это проклятый «могильный холод» навсегда испортил все возможные добрые отношения между отцами и детьми.
Дети поэтому не могли быть тем, ради чего стоит жить. Без всякого малодушия и цинизма. У них своя жизнь и судьба, им может больше повезти со смыслом и счастьем. Дети твои лишь на краткий миг. Все остальное время они другие люди, и ты не имеешь никакого права всю жизнь их контролировать, навязывая им свою волю, портя, тем самым, их собственную жизнь. Если хочешь, чтобы дети тебя не проклинали, отпусти их поскорей в их собственный путь, не держи возле себя. Конечно, иные живут ради детей, теша себя иллюзией нужности. Это от недостатка, а не от избытка. Если надо помочь, помогай, но жить ради детей нельзя, неправильно, это какая-то патология, в основе которой собственная беспомощность.
От этих мыслей становилось еще грустней. Вроде бы все правильно логически, но какая-то пустота неприятно проникает в душу. И все-таки как же было больно осознавать, что жизнь, увы, кончается! Но Дэн не сдавался, он хотел надеяться на то, что впереди его ждет нечто, чье наступление оправдает все бесцельно прожитые годы, все томление и, в общем, жизненное невезенье, которым было окрашено его существование, да и существование большинства его соотечественников, как в прошлом, так и в будущем. А соотечественники тем временем проявляли чудеса безропотного смирения, соглашаясь на фальшивую жизнь, ставшую теперь нормой. Нормой стал и абсурд, в котором погибали последние остатки человечности. Ложь и абсурд правили бал, захлестнув мир волной мелких и незначительных событий, в которых постоянно мельтешили политики, проповедники, миротворцы, террористы, гомосексуалисты, трансгуманисты, фундаменталисты, боевики, ополченцы, обновленцы, анархисты, коммунисты, журналисты, атеисты, артисты, христиане, мусульмане, киевляне, россияне… каждой твари по паре. Все это было просто невыносимо; бесконечный поток бессмысленных и пошлых событий, создававший ощущение чего-то значительного, тут же исчезал, не затронув ничего на самом деле существенного.
Впрочем, общественные вопросы мало волновали Дэна; как и прежде он был озабочен собственным положением, которое со временем никак не улучшалось.
Наверное, все эти мысли блажь, эгоизм и, заболей он сейчас смертельной болезнью или попади на войну или в концлагерь, он бы так не думал. Один раз он был в Освенциме, проведя там несколько часов. В эти загробные часы его сознание надломилось, стало понятно, что всегда есть те, кому хуже, есть непереносимые страдания, в свете которых его собственное положение было не таким уж безысходным. Но все эти ситуации тоже искусственны; люди воюют, уничтожают и мучают других, что бы скрыться от собственной пустоты. То же самое делает и природа, насылая смертельные недуги на тех, кого она не может одарить никаким смыслом. В своих самых зверских проявлениях человек копирует действия безразличной природы. И это было ужасно.
Но Дэн и не знал, честно говоря, что лучше, что хуже. Он боялся каким-то последним ветхозаветным страхом, что скупая судьба не одарит его ничем необыкновенным. А просто жить, «радуясь жизни», ему было противно и не хотелось. Умирать тоже не хотелось. Но не столько страшила его смерть, сколько мгновенное утекание жизни в незаметную темную расщелину, где-то притаившуюся на только что покрашенном идеально белом потолке. «Да это же больничная палата! Морг! Могильная камера, предназначенная для вечного сумеречного существования».
Дэн в отчаянии закрыл глаза, подумав о том, что он, в сущности, еще ничего не сделал. А мог ли? Мог ли он сделать то, что хотел, если толком и не знал, что хотел? «Тварь не знает, что хочет…» – промчался в сознании обрывок фразы, когда-то прочитанной или услышанной. А мы ведь действительно не знаем, чего мы по-настоящему хотим. Всегда хотим многое, даже если и думаем, что хотим главное. А жизнь уже ушла, умчалась, соблазнив на миг невероятной надеждой, оказавшейся горьким и жестоким обманом.
Что он мог сделать в жизни, чтобы о нем помнили? А в этом ли суть жизни? Дэн сомневался, чувствуя, что здесь тоже кроется подвох, разгадать который он был не в силах. Эти мысли были настолько сильными, что доставляли физическую боль. Существовать становилось больно. Больше всего не хотелось врать себе, врать, что все нормально, что это лишь «мрачное настроение», иногда приходящее и также бесследно уходящее; только не стоит на нем «зацикливаться». Особенно Дэн ненавидел это слово, которое часто употребляли люди, подчеркивая, как бы ненормальность размышления на серьезные темы. Понятно, какая чудовищная пустота стояла за ними. Дэну стало страшно, он почувствовал, что все они ему совершенно чуждые люди, что они живут совершенно неведомыми для него ценностями, что он им не понятен, они никогда не примут его сомнений и вопросов, и он всегда будет изгоем в их глазах. Ни на кого нельзя опереться, никто не поймет и не поддержит.
Иногда он отправлялся в долгие прогулки один. В бесцельной ходьбе, которая могла длиться часами, он пытался поймать какую-нибудь свежую мысль или новое ощущение. Проходя по неизвестным районам, встречая на пути сотни незнакомых лиц, он надеялся на неожиданность, которая могла притаиться в совершенно непредсказуемом месте. В таких странствиях Дэн острее чувствовал свое одиночество, и это, как ни странно, давало некоторое утешение и облегчение. Но на очень короткое время. В тайне он надеялся уйти и не вернуться. Уйти в беспросветную даль, где о нем точно никто и никогда не вспомнит. Ему странно было видеть беспечные парочки, озабоченные лишь своим эротическим эгоизмом, одиноких прохожих, погруженных в такой же внутренний эгоизм существования. И даже дети и подростки вызывали в нем подозрение и сожаление. Но он не мог никому ничего предложить, никому помочь. Да никто и не нуждался в его помощи.
Дэн понимал, что люди его возраста и положения давно смирились со своей участью, решив прожить вторую часть жизни, как можно меньше досаждая себя всякими неприятностями. Жить без риска и неожиданностей, жить в накатанной колее, которая вела твердо и уверенно к неизбежному и торжественному концу. Юбилеи, поздравления, некрологи, соболезнования, вечная память… От всего этого становилось тошно, противно и омерзительно. Хотелось совершить что-то дьявольское, лишь бы тронуть это подлое благодушие, в котором живет бесконечно послушное большинство. Они думают, что все делают правильно, что жизнь их значима, что они знают какую-то истину, сообразно которой живут и верно ей следуют. Им даже на миг не придет сомнение, что они могут заблуждаться. Они в страшном сне не примут мысли о том, что возможно наше существование – ошибка!
Он понял, что никогда не встроится в жизнь, ни в какой ее порядок. Надо лишь выжить, нет – вынести жизнь, перенести ее через болото сомнений и скитаний. Буквально пережить, чтоб потом забыться. Забыться? Как? Куда же деть прожитое, которое станет в таком случае вечно непрожитым? Но иного пути нет, просто нет. Он понимал, что нужно вынести это бессмысленное существование, так и не найдя в нем никакого смысла. Творчество тоже ничего не даст, это обман, возможно более коварный, создающий иллюзию смысла. Все тщетно, творчество не более значимо, чем мытье полов на вокзале. Надо просто вынести жизнь, просто вынести, как выносят какую-нибудь сильную, но кратковременную боль, веря, что наступит облегчение, которое компенсирует все страдания. Неужели так все? Как-то в это не верилось, когда он разглядывал всегда спешащих куда-то деловых людей, явно имевших четкий план и цель своего существования. Ничего этого Дэн не имел. И главное – не хотел иметь.
Он только ходил и смотрел, как люди существуют, как другие уже навсегда вписались в жизнь. А он только смотрел, как бы боясь попасть в эту жизнь, запачкаться ее навсегда пропавшими ценностями. Никогда он не верил в то, что есть хоть капля какой-то честности и подлинности во всем том, что что называлось социальным порядком. Даже культура вызывала у него отвращение, поскольку и культура была частью того же фальшивого, социального мира. Нужно было бежать. Но куда? И к чему?
Дэн подошел к каким-то предельным вещам. Он любил изнурять свое сознание изощренной мыслительной работой. Но на этот раз он даже удивился необычности своего состояния. Все-таки не надо так глубоко и крепко задумываться, это ни к чему все равно не приведет, изменить-то не удастся ничего. Сознание ведь тоже болезнь, а отчаянное сознание вообще смертельная болезнь. Надо присмотреться к жизни, может в ней все-таки есть что-то, чего раньше он не замечал, игнорировал, попросту не понимал?
Но для этого нужно изменить жизнь, перестать быть тем, кем был все это время до сих пор. Но как?
В голове по-прежнему кружил этот черный ворон, будоража и возбуждая его, насмехаясь и злобствуя: «Как же так случилось, что жизнь прошла, даже и не начавшись?». «Надо делать добро», «надо верить», «надо любить» – робко проскочила мысль. Но от этого стало еще противнее. Какое добро, кому? Нужна ли вера для добра? Нет, дело не в добре и не в вере; понятно, что дело в чем-то другом? Но в чем?
Дэн понимал, что не только он, но вообще никто не понимает, в чем тут дело. Никто не понимает, но все живут. И вот это и было самым странным, нелепым, невозможным. Он ощущал уже физическую невозможность жить в таком неведении.
* * *
Прошло несколько недель, может месяцев, с того момента, когда эта мысль так неожиданно и неприятно посетила Дэна. Кажется, это было не его настоящее имя, но так его звали с детства. Но сейчас не важно, поскольку в имени не осталось ни малейшего смысла, за который можно было бы зацепиться, чтобы жить осмысленно дальше. Он припомнил, что в какой-то период его звали «Дэн – буддист», видимо указывая на сходство с никому до конца не понятным, но всем знакомым словом «дзен-буддист».
Дэн ощутил в своей голове огромную черную дыру, сквозь которую вползла большущая черная ящерица, начавшая пожирать все доброе и светлое, что было в его жизни. Это гадкое животное (рептилия плюс насекомое) – фантасмагорический образ; но именно он более всего подходил к этому состоянию.
Нельзя сказать, что все те мысли, которые его посетили, были плодом больного и расстроенного воображения. Очень многое в них было здравого и в каком-то смысле, высокого, такого, что не пришло бы в «обычном» состоянии. Все настойчивее было ощущение необходимости начать жизнь сначала, начать правильно и верно. Все чаще хотелось вспоминать что-то радостное, чтобы провалиться в него и в нем пожить, как обычно живут люди. Хотя Дэн не имеем ни малейшего доверия и уважения ко всем этим простым людям, но сейчас он нуждался именно в них, именно в их незамысловатой истине, которая помогала им просто существовать, не думая ни о чем.
Один раз Дэн встретил своего старого приятеля. Настолько старого, что искренне удивился тому, что тот вообще существует. Одно время они были близки, но расставшись еще в пору юности, этот человек навсегда выпал из сознания Дэна. Тот также безучастно брел по пустому раннему городу, видимо изживая мучавшую его бессмыслицу. Дэн даже не вспомнил его имени. Встретившись, старые знакомые обрадовались своему такому невнятному положению, молча посмотрели друг на друга, и, не сказав ни слова, разошлись.
* * *
Томительная необходимость существовать стала уже жизненной привычкой Дэна, как однажды его сознание озарила очень простая, но одновременно страшная истина: он становится похож на своего отца! Это неприятное открытие сильно огорчило Дэна: он достиг того возраста отца, когда уже помнил его ребенком. Вспомнилось все, чем была их жизнь… Дэн обнаружил в себе бессознательную установку повторять отца, чувствовать в себе отца, жить отцом. Именно это и показалось ему теперь невыносимым, против этого восстало все его существо. Этому не быть, он ведь уже похоронил его однажды, и теперь должен жить другой человек, ни в чем не похожий на прежнего.
Это откровение словно дикое извержение самого мощного в мире вулкана ошарашило Дэна своей пронзительной истиной. Все, что угодно, только не это! Это ведь верная гибель. Не быть похожим на отца. Не похожим ни в чем: ни внешне, ни образом мыслей, ни внутреннем складом, ни отношением к жизни, ни самой жизнью. Если он повторит жизнь отца, то он погубит их обоих. Уйти от отца и не вернуться к нему никогда, ни в жизни, ни в смерти, ни «после смерти». Вот она разгадка, вот истина, которую он так долго и мучительно искал, отравляя жизнь себе и всем, кто был рядом с ним!
Эти мысли словно отрезвили Дэна, придав ему небывало яростный прилив сил: он сможет все вынести и перенести, лишь бы ни в чем, ни в чем не повторить своего отца. Иначе он пропал, лучше бы ему тогда и не родиться вовсе! Ради этого стоит теперь жить, перенося все ее бессмысленные невзгоды, всю ее пустоту. Жить, максимально отдаляясь от отца, от всего, что было с ним связано. Давно он не был так яростно возбужден. Он почувствовал какое-то освобождение и необыкновенный восторг.
Дэн подбежал к первой попавшейся витрине и как полоумный стал вглядываться в свое отражение, боясь найти хотя бы малейшее сходство с отцом. В зеркальной поверхности он не увидел ничего, кроме смутного образа приближавшейся из черной глубины матери, пытавшейся что-то ему сказать.
* * *
Первоначальный неожиданный подъем, вызванный этим озарением, сменился таким же неожиданным тоскливым упадком. Дэн не понимал, что делать с этим открытием, как его применить. Что поделаешь, если коварные силы природы нацелены на воспроизводство одинаковых форм, которые в отце и сыне могут быть проявлены более всего? Такой уж ее бессмысленный замысел, ему и сопротивляться бессмысленно. А может замысел этот не бессмысленный, а совсем наоборот? Может здесь природа, творя подобие, намекает на какую-то неведомую тайну, которую хранит в себе сила, всегда презренного для такого человека как Дэн, рода?
К тому же, сочувственно подумал Дэн, если истребить в себе все признаки своего подобия отцу, то что ему останется? Не будет ли это его полным забвением и погружением в темную мглу небытности? Как он там? Сейчас, в своей одинокой могиле, которую никто уже не навещал много лет.
Ему стало горько от этих мыслей. Он не то, чтобы раскаялся и пожалел отца; скорее почувствовал неумолимость существующего порядка вещей, принуждающего к какому-то непонятному никому повиновению. Дэн почувствовал себя обманутым и приговоренным.



