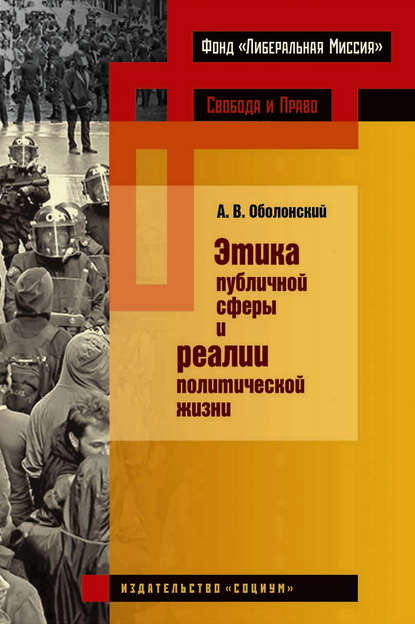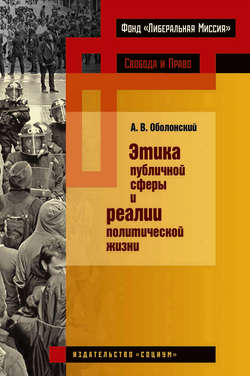
000
ОтложитьЧитал
Посмотрим теперь на положение других общественных слоев.
Финал интеллигентской трагедии: трава под асфальтом
Первые узлы трагической судьбы, выпавшей на долю русской интеллигенции, завязались еще на рубеже 60-х годов позапрошлого столетия, а кульминация трагедии пришлась на конец второго десятилетия XX века. Но эти сюжеты выходят за рамки нашей сегодняшней темы. Речь пойдет о заключительном акте трагедии, ибо происшедшее с российской интеллигенцией в сталинскую эру было, по сути, лишь неизбежным следствием предшествовавшего развития событий.
Сначала о наиболее благополучной ее части. Как известно, на первых порах существования режима незначительная, но все же заметная часть интеллигенции вошла в состав власти. Главным образом это были, конечно, радикалы и их идейные наследники, хотя встречались и исключения. Однако тенденции развития «революционного процесса» работали против этой группы. Кое-кто прозревал и сам выходил из игры, других оттирали набиравшие силу выдвиженцы. И все же ничтожная и неуклонно сокращавшаяся часть интеллигентов еще долгое время кое-как удерживалась на периферии властвующей элиты, либо на подступах к ней. Причем по мере того, как истинный облик режима становился все более отчетливым, идейных его сторонников среди них, естественно, оставалось все меньше.
Но, независимо от мотивов, всем интеллигентам, удерживавшимся на околоэлитной орбите, приходилось за это платить. И во имя сохранения возможностей продолжения профессиональной деятельности, и ради сохранения иллюзии активного участия в общественной жизни, и чтобы обеспечить себе доступ к мирским благам, распределение которых жестко контролировалось новыми хозяевами страны. За все это приходилось поступаться очень многим. В жертву были принесены важнейшие атрибуты сознания и морали: роль носителя общественной совести и выразителя общей боли, сострадание народной судьбе, чувство гражданской ответственности, т. е. своей моральной сопричастности происходящему в стране и в мире, «органическая неспособность подпевать могучему хору сильных мира сего» (выражение В. Шукшина), невозможность поступиться правдой ради житейских выгод, наконец, естественная, как дыхание, критическая рефлексия по широчайшему кругу вопросов. От всего этого номенклатурная (т. е. узкоэлитная и околоэлитная) интеллигенция по существу отказалась. Достаточно вспомнить хотя бы биографию «красного графа» Толстого.
В России, где бескорыстное выполнение функций критического разума и совести общества всегда считалось главным назначением интеллигенции, ее «крестом» (не будем сейчас входить в полемику с авторами «Вех» и другими о последствиях такой установки), этот отказ выглядел самоотречением. Справедливости ради следует сказать, что другие свои важные черты номенклатурная интеллигенция сохранила и в той мере, в какой ее не ограничивали политические обстоятельства и инстинкт самосохранения, использовала их на благо общества. Я имею в виду культуру мышления, профессионализм, навыки продуктивной умственной работы, изобретательность в решении неординарных задач, разносторонность и даже известную терпимость к другим взглядам и мнениям. Однако представляется, что перечисленные черты, при всей их важности и привлекательности, все-таки не являются стержневыми качествами интеллигента. Впрочем, даже в таком оскопленном виде эта полностью ангажированная интеллигенция не смогла удержаться в элитной обойме и вытеснялась из нее, поскольку воинствующе-люмпенский дух времени резко противоречил любым атрибутам интеллигентского образа.
В сталинские времена интеллигентов терпели лишь там и постольку, где и поскольку без них было невозможно обойтись. Но какие удары судьбы ни настигали бы номенклатурных интеллигентов, с какой-то высшей точки зрения они не были абсолютно несправедливыми: их били и третировали по правилам той игры, в которую они сами вступили и в которой стремились к выигрышу. А, главное, их тяготы и проблемы были несравнимы с тяготами и проблемами основной массы интеллигенции, судьба которой в условиях сталинской диктатуры была по-настоящему трагичной. Ведь подавляющая часть интеллигентов не только находилась вне номенклатурно-элитных сфер, но и жила в очень тяжелых условиях – как материальных, так и духовных. И репрессии по отношению к ней практически не прекращались.
В общем же социально-культурном плане главная трагедия состояла в том, что были полностью перечеркнуты фундаментальные основы интеллигентского существования – возможность свободного обмена мыслями и относительная материальная независимость. Еще древнеримский поэт Пакувий заметил: «Жалованье делает человека рабом». Советское государство монополизировало статус работодателя и, соответственно, плательщика жалованья и распределителя прочих благ, что в условиях экономики дефицита было не менее важным. И это монопольное положение у пульта распределения средств существования беззастенчиво использовалось властью в целях принуждения и манипуляции. Начиная со сталинского периода условием получения зарплаты стала для интеллигента безусловная политическая лояльность. При этом требования к проявлениям выражения этой лояльности все повышались, а кары по отношению к не прошедшим проверочных «тестов» становились все более жесткими. Уровень же содержания интеллигентов (пожалуй, именно слово «содержание» точнее всего передает суть отношения к ним власти) был унизительно низок. Достаточно вспомнить о буквально нищенской в ту пору зарплате, установленной для самых массовых и, может быть, самых важных интеллигентских профессий – учителей и врачей.
Что же касается обмена плодами размышлений, то здесь надзор по своей строгости (по «бдительности», используя язык той эпохи) был сравним лишь с контролем над самыми опасными видами уголовной преступности, а в некоторых отношениях и превышал его. Советская интеллигенция постоянно находилась под пристальным опасливо-недоброжелательным наблюдением власти, причем главным исполнителем этой функции были карательные органы. Самые естественные проявления интеллигентского сознания и образа жизни – критическая и скептическая реакция на социальную действительность, потребность публично высказываться и обмениваться мнениями по острым вопросам, склонность к созданию неформальных групп для обсуждения общественно важных проблем – расценивались, преследовались и карались как тяжелейшие преступления.
В качестве дополнительного способа управления (вернее – манипулирования) интеллигентами использовалась тогда еще весьма распространенная в интеллигентской среде установка на жертвенную самоотверженность во имя светлого будущего, во имя народа. Ведь российская интеллигенция традиционно была единственной группой, члены которой в массе своей были способны ради идеи поступиться собственной выгодой, подняться над личными и групповыми интересами[14]. И эти ее альтруистские черты цинично эксплуатировались властями, когда им требовалось получить эффективную отдачу от ее творческого и трудового потенциала. Сознание приносимой пользы (к сожалению, очень часто иллюзорное) согревало интеллигентскую душу, давая ощущение не напрасно проживаемой жизни. А деятели режима с холодной расчетливостью на этом спекулировали. Один из горьких парадоксов положения интеллигенции в том и состоял, что, будучи лишенной возможности проявить себя в каких-либо иных сферах, она устремлялась на единственный сохранившийся для нее открытым путь – в ущелья узко профессиональной деятельности. И подчас добивалась на этом поприще значительных успехов.
Ведь научно-технические основы могущества режима, особенно в военной сфере, но не только, были созданы, главным образом, интеллигентами. В некоторых случаях плоды их труда все-таки в конечном счете шли на пользу объекту их помыслов – народу, в других – объективно приносили ему вред. Но режим выигрывал в любом случае.
Ну, а сама интеллигенция влачила существование, совершенно не соответствовавшее ни ее объективной значимости, ни даже ее социальному статусу в царской России. Исключение делалось лишь для тех групп, которые режим по тем или иным соображениям считал нужным подкармливать особо. Ценность интеллигента определялась только одним: служит ли он «делу революции и пролетариату» (идеологическая зашифровка собственных интересов режима и элиты), и если «да», то насколько он сегодня полезен. Причем подобный цинично-утилитарный подход провозглашался тогда с полной откровенностью, безо всякого камуфляжа, в отличие от последующих времен.
Но даже ограничение интеллигентского существования замкнутыми профессиональными расселинами не гарантировало ей физической безопасности. В периоды прилива репрессий их волны вымывали интеллигентов и оттуда. Конечно, все это не могло не повлечь за собой серьезных деформаций в интеллигентском самосознании. И с начала 30-х годов появились и начали интенсивно развиваться симптомы упадка и даже вырождения нравственных ценностей интеллигенции, произошел ее психологический надлом.
Тем не менее, несмотря на явное снижение качества интеллигентской «породы», ее этика и характер поведения даже в годы самых широких и свирепых репрессий определялись отнюдь не только задачами выживания, физического самосохранения, не одними шкурными и узкопрофессиональными интересами. В целом, не переставали действовать нравственные запреты на доносительство, на делание карьеры на чужой беде, на отказ от посильной помощи преследуемым. Конечно, здесь не следует впадать в идеализацию: эти нравственные установки нередко нарушались по мотивам страха, а порой и личной выгоды. Были случаи и осознания аморальности своих поступков, нередко оканчивавшиеся трагически. Хотя, как известно, интеллигенты бывают весьма изобретательны в нахождении самооправданий. Но нарушители табу встречаются всегда и везде. И до тех пор, пока они подвергаются какой-либо из форм остракизма или хотя бы просто сталкиваются с явно выраженным неодобрением со стороны членов их референтной группы, их действия не влекут за собой общей эрозии норм. Так в те времена было и в интеллигентской среде.
Более того. Ни девальвация интеллигентских моральных ценностей, ни антиинтеллигентская кадровая и идеологическая политика, ни пресс репрессий не смогли парализовать очень важной традиционной общественной функции интеллигенции. Я имею в виду сбережение в условиях «ледникового периода» той совокупности культурных навыков и ценностей, которая служит необходимой предпосылкой выживания самой культуры.
Конечно, эта функция выполнялась исподволь, не в полной мере, часто вперемежку с делами, не красившими облик таких адаптированных интеллигентов. И все-таки, если наше общество и не деградировало до уровня необратимого духовного оскудения и одичания, то лишь благодаря этим полуподпольным хранителям головешек от растоптанных революцией интеллигентских костров.
Церковь на коленях
Теперь несколько слов о месте и положении церкви. Как уже говорилось, она была «уволена» с государственной службы новой властью, поскольку та располагала собственными идеологической доктриной, символами веры и механизмами идеологического принуждения. Наше православие впервые за долгие века фактического духовного монополизма не только лишилось поддержки светской власти, но и оказалось перед лицом сильного, консолидированного противника внутри страны, на которую оно привыкло смотреть как на свою духовную вотчину. Для него настал час действительного испытания жизнестойкости: для клира – необходимости отстаивать свое идейное знамя перед лицом идеологии агрессивно атеистической и к тому же слитой воедино со светской властью, для паствы – необходимости поддержать церковь в нелегкое время. Проявить готовность пострадать «за святую веру отцов». И нужно прямо и с горечью констатировать: этого испытания ни церковь, ни православные миряне в целом не выдержали. Тут нельзя не отметить, что и в дореволюционные времена положение официальной православной церкви почти как государственного института фактически подорвало основы подлинной религиозности.
У церкви не нашлось внутренних ресурсов для духовного противостояния воинствующему безбожничеству, а «народ-богоносец» не поддержал православие в трудный час. Когда оно утратило статус государственной религии да еще и оказалось, что открытая верность ему может привести к некоторым житейским затруднениям, произошло поразительное по масштабам и быстроте отпадение от него основной массы населения.
Кстати, СССР в этом отношении печальным образом отличается от других восточноевропейских стран. Там тоже после прихода коммунистов к власти начались гонения на церковь и верующих по советским рецептам. Однако они натолкнулись на стойкое противодействие вплоть до готовности к самопожертвованию и довольно быстро сошли на нет, уступив место модусу некоего сосуществования в разных вариантах.
Теперь из разных источников[15] мы немало знаем как о гигантских масштабах антицерковных репрессий, о жестоких, порой садистских расправах над священнослужителями, монахами, просто верующими мирянами, о грабежах церквей и монастырей советскими правительственными службами и отрядами, так и о многих актах героического сопротивления государственному бандитизму. Однако самым трагичным во всем этом была практически безучастная позиция основной массы населения страны, пассивно наблюдавшей за разгромом и надругательством над якобы едва ли не извечными основами его мировоззрения. Конечно, объективность требует не забывать о том пассивном сочувствии гонимой церкви, которое существовало среди довольно значительной части населения, а также об отдельных попытках паствы как-то ей помочь или даже за нее заступиться. Но, в то же время, нельзя забывать и о том, что в кампании травли церкви участвовали сотни тысяч, если не миллионы людей, т. е. в большинстве своем тот же «от веку православный народ». И антицерковные активисты показали себя несравненно более мощной и организованной группой (даже отвлекаясь от факта их поддержки государством), чем их оппоненты с противоположного полюса. История же взаимоотношений церкви с властью после временного прекращения прямых преследований, т. е. в «позднесталинский» период – тема особая и, увы, тоже имеющая горький привкус в нравственном плане.
Победоносная война против крестьянства
Обсудим теперь судьбу класса, по численности составлявшего в стране абсолютное большинство, – крестьянства. Не будем касаться «черного передела» и разгрома помещичьих усадеб в 1917 г., террора продразверстки и прокатившихся в ответ на него массовых крестьянских восстаний. Начнем с 1921 г., когда, практически прекратив производство товарной сельхозпродукции вследствие полной утраты стимулов, деревня фактически взяла власть за горло и вынудила ее отступить от политики военного коммунизма, что стало решающим фактором в принятии знаменитого решения XI съезда ВКП(б) о переходе к продналогу и НЭПу.
Новые правила хозяйственного поведения в определенных пределах поддерживали предприимчивость, трудолюбие, способствовали повышению личного жизненного уровня. Новые же хозяева страны поначалу в чем-то даже казались лучше прежних: они устранили некоторые несправедливости прежнего времени и к тому же импонировали крестьянской массе своей социальной близостью и понятной фразеологией. Правда, забирали они в форме обязательных поставок, налогов и т. д. немалую долю крестьянского труда, но к этому крестьянам было не привыкать: раньше случались хозяева и покруче, и отбирали порой поболе.
Главное, что такая полусвободная жизнь не препятствовала естественным процессам социальной дифференциации, при которой более способные и трудолюбивые постепенно добиваются большего благополучия. Все это довольно быстро сказалось и на товарном рынке, способствовало прекращению голода, разрухи, постепенному подъему общего уровня жизни после его катастрофического падения в первые революционных годы. Соответственно, и государство стало получать от сельхозпроизводителя значительно больше продукции и средств. Словом, посредством более или менее нормального хозяйственного развития произошло то, чего тщетно пытались добиться комиссары в кожанках и с маузерами.
Но идиллия продолжалась недолго. Новая власть (как, впрочем, по большей части и прежняя) не могла ужиться даже с относительно независимым от нее классом. Управление с помощью механизмов косвенного регулирования не соответствовало ни российским политическим традициям, ни тем более характеру и духу нового режима. «Не за то боролись» большевики, чтобы выпустить из-под своего контроля жизнь большей части общества, отдав ее во власть «мелкобуржуазной стихии». Ведь при этом, с одной стороны, режим был бы вынужден отказаться от применения тех инструментов и способов управления, которые составляли главный источник его силы (жесткое прямое регулирование при помощи административных, военных и идеологических рычагов), а с другой – деревенское население приобрело бы относительную независимость от власти. А любое подобное самоограничение, с точки зрения автократии, ослабляет власть и потому неприемлемо.
Социально-экономическая ситуация в городе (неспособность власти принять эффективные меры по восстановлению развалившейся в годы революции промышленности, по организации производства нужных населению промышленных товаров, по обеспечению людей работой) тоже подталкивала режим в сторону крайних мер. Перемирие власти с крестьянством оказалось непродолжительным. Очень скоро стали угадываться «кануны» – предвестники рокового поворота событий. Власть все более бесцеремонно вмешивалась в хозяйственную жизнь деревни, усиливала пресс налогов, поборов и всевозможных обложений. Причем доминирующая доля тягот возлагалась на плечи станового хребта деревни – эффективно работающих и потому сравнительно зажиточных крестьян. Шло откровенное заигрывание с «голытьбой», с «деревенским пролетариатом», т. е. с теми, кто даже в условиях значительной государственной поддержки не смог успешно хозяйствовать и выбиться из бедняцкого прозябания. Но и это было лишь прелюдией к последующему тотальному разгрому, закабалению и разграблению деревни.
Экономическая же подоплека событий такова: поскольку власть не могла предложить крестьянам в обмен на их хлеб достаточное количество промышленных товаров, то нужно было либо срочно обеспечить их производство, либо отнять хлеб. И после внутрипартийной дискуссии, в ходе которой сторонники умеренного, основанного на более или менее нормальных экономических предпосылках курса, были задавлены сталинистами, в 1929 году власть приняла однозначное решение. Вместо развития партнерских отношений с крестьянством, избрав стратегию его ограбления и закабаления под лозунгами «сплошной коллективизации» и «уничтожения кулачества как класса».
И страна почти не заметила – еще один из страшнейших парадоксов сталинского времени – какая жуткая вивисекция была произведена на ее теле. О подлинном смысле, масштабах трагедии, ее ближайших и отдаленных последствиях долгое время практически никто не догадывался. Да и о самих событиях, помимо их крайне куцей официальной версии, мало кто знал (во всяком случае в городах). Лишь постепенно правда о судьбе этого «бесписьменного народа» (выражение А. Солженицына) начала просачиваться наружу. Даже число жертв коллективизации до самого конца существования СССР оставалось тайной. Да и существуют ли прямые данные? Кто мог быть заинтересован в подобного рода учете? И сегодня в дискуссиях о голодоморе фигурируют цифры с почти четырехкратным разбросом – от 3 до 11 миллионов!
С точки зрения нормальной политической экономии насильственная массовая коллективизация была полным абсурдом. Вряд ли в европейской истории XIX–XX веков, т. е. во времена, когда теории Адама Смита и его последователей стали неотъемлемой частью сознания образованных людей, можно найти аналогичный пример столь явного пренебрежения законами экономического развития при принятии политического решения.
Экономический детерминизм, на словах провозглашавшийся большевиками, был заменен политикой некомпетентного административного диктата, произвола и террора по отношению к целому классу производителей. По существу, власти провели настоящую кампанию по завоеванию деревни со всеми соответствующими атрибутами – применением военной силы, грабительскими контрибуциями, опустошением целых областей, массовыми депортациями, передачей населенных пунктов под управление присланных комендантов с чрезвычайными полномочиями, опорой на коллаборационистов из числа «покоренного» населения, созданием «пятой колонны» и марионеточных органов самоуправления, идейным разложением и деморализацией «противника» и т. п. Кампания велась со всей серьезностью и закончилась полной победой. Именно так ее стратеги и проводники воспринимали происходившие в деревне события. Не случайно проведенному в 1934 году XVII партийному съезду – первому после завершения коллективизации – было дано название «съезда победителей». Пожалуй, бухаринская формулировка «военно-феодальная эксплуатация крестьянства» достаточно точно передает суть этой кампании.
К несчастью, у нас в России, в отличие от Украины и в меньшей мере от Казахстана, размах трагедии голодомора, масштабы катастрофических последствий войны большевистской власти против «кормильца» общества, а также воцарившейся в деревне системы отношений, мало отрефлексированы общественным сознанием, несмотря на то, что и в художественной литературе, и в публицистике для этого есть довольно много материалов. Мы же обратимся к факторам, обеспечившим режиму перевес и победу в борьбе против составлявшего абсолютное большинство населения класса кормильцев.
Здесь, пожалуй, на первое место следует поставить традиционный стереотип покорности, повиновения сильной власти. Этот фундаментальный стереотип российского национального сознания в наибольшей степени присущ крестьянству. Лишь на первый взгляд противоречат ему периодические крестьянские бунты и поджоги помещичьих усадеб, сполохи которых почти все время мерцают на заднем фоне российской истории. Дело в том, что эти спонтанные импульсы бессмысленной ярости работали на укрепление того же стереотипа, ибо служили лишь клапаном для выпускания социального пара. Подобные вспышки диких страстей, сопровождавшиеся вандализмом, бессмысленной страшной жестокостью имели иррациональную основу. При всем желании в них трудно обнаружить не только сколько-нибудь осознанную программу действий, но даже элементарно разумную линию поведения. Внезапно возникнув, они столь же внезапно гасли, не только не закрепляя в крестьянском сознании каких-либо зачатков идеи о праве народа на сопротивление несправедливым притеснениям власти, но, напротив, порождая синдром «повинной головы», еще больше усиливая стереотип рабского повиновения хозяину. И чем круче на расправу хозяин, тем большим должно быть повиновение ему. Эта установка в полной мере и сработала во время коллективизации.
Во-вторых, значительную роль сыграли, разумеется, прямое принуждение и насилие. Они осуществлялись двумя взаимосвязанными силами – военными частями НКВД, проводившими аресты, расстрелы, высылку в лагеря и на поселение «кулаков и подкулачников», и корпусом 25-тысячников – направленных из города партийных эмиссаров с диктаторскими полномочиями, имевших право применять любые меры для достижения установленных «контрольных цифр» по раскулачиванию, коллективизации и изъятию продовольствия.
В-третьих (по порядку, но не по важности), Сталин и его аппарат использовали в несколько модернизированном виде тот же механизм опоры на люмпенов, который был одним из основных политических факторов, обеспечивших победу режима в революционные годы. Тогда это была опора на деклассированные элементы и тех, кто считал себя несправедливо обиженным судьбой, теперь – опора на деревенских люмпенов-выдвиженцев, а также на «актив». В деревне эта никчемная при других обстоятельствах категория людей зацепилась за большинство ключевых позиций в новой структуре реальной власти. Режим видел в них главных проводников своего влияния и политики. Они же понимали, что их благополучие целиком зависит от готовности служить режиму изо всех сил, а лишившись его поддержки, они неминуемо потерпят крах. Понимание этой своей зависимости, а также распалявшее их подсознательное ощущение собственной ущербности определяли их собачью преданность режиму, способность без колебаний, по первому зову выполнить любую грязную работу.
«Актив», в отличие от эмиссаров Центра, главным образом состоял из тех крестьян, которые по-прежнему оставались органичной частью деревенской социальной структуры, но частью довольно специфичной. «Активизм» в советском понимании слова есть не что иное, как деятельное приспособленчество, активный конформизм, небескорыстная подчеркнутая демонстрация лояльности власти, готовность всячески перед ней выслуживаться. Обычно он присущ тем членам группы, которые, не преуспев на своем основном поприще, в данном случае – в сельском хозяйстве, стремятся взять реванш за счет псевдодеятельности, прежде всего за счет показного рвения при выполнении указаний и даже невысказанных прямо пожеланий партийных и полицейских хозяев, т. е. лиц, способных наказать и поощрить. Подобная активность обычно вознаграждается как хозяйскими подачками, так и присвоением толики отнимаемого у других. Помимо материальных стимулов проводившим раскулачивание сельским «активом» двигали еще зависть к более преуспевшим соседям, пьянящее сознание безнаказанности и другие подобные «возвышенные» чувства, мастерское использование которых всегда отличало режим. В поведении «активистов» играл, конечно, свою роль и идеологический фактор – вера в абстрактную справедливость совершаемого, которая поразительным образом усиливается, если совпадает с личной выгодой.
В-четвертых, кампания коллективизации оживила и проэксплуатировала традиционные стереотипы крестьянского сознания, в совокупности составлявшие общинную этику. Ведь в известной степени лозунги коллективизации об обобществлении и уравнении отвечали еще далеко не отмершим тогда извечным традициям крестьянской общины – «мира». И традиции эти, принципиально не противоречащие экспансии деспотизма, во многом содействовали еще более жестокому закрепощению российской деревни.
Наконец, назову такой фактор, как массированная идеологическая кампания социально-психологического принуждения и деморализации «классового врага».
В качестве интегрирующего обстоятельства, предопределившего успешность действий власти, представляется, что ее политика, включая самые жесткие, репрессивные акции, осуществлялась руками выдвиженцев, т. е. «социально близких» элементов. Тем самым создавалась иллюзия народовластия, что значительно повышало устойчивость политической системы. Механизм этот использовался не только в деревне. Он носил универсальный характер. Н. Бухарин, уже на краю гибели, в своей последней опубликованной статье «Маршруты истории – мысли вслух»[16], говоря о тоталитарных режимах, прозрел его зловещую сущность.
Власть рабочих?
Пока что мы видели, что за исключением «нового класса» – новой «элиты», послереволюционное развитие страны несло разным слоям населения гораздо больше зла, чем добра. Но, может быть, такой ценой было оплачено счастье «передовой части общества»? Ведь принято считать, что рабочий класс был гегемоном революции, что советские преобразования совершались прежде всего в его интересах. Но подобная конструкция, на мой взгляд, далека как от исторической справедливости, так и от исторической истины.
Претензии ее на справедливость перечеркиваются тем обстоятельством, что рабочие и перед революцией, и долгое время после нее составляли очень незначительную часть населения страны. По официальным данным, в 1913 г. в России их было около 3 млн – всего около 2 % населения; за годы революции и гражданской войны их число сократилось более чем вдвое – даже в 1925 г. оно не доходило до 2/3 предвоенного уровня и составляло всего 1,8 млн; лишь после десяти лет форсированной индустриализации, к 1937 г., количество рабочих достигло 10-процентного рубежа, что составляло 17,5 млн. Даже если считать рабочих вместе с членами их семей (а, зная обычаи советской статистики, тут никак нельзя поручиться за отсутствие в этих случаях так называемого «повторного счета», т. е. учета одних и тех же лиц по несколько раз), то в 1928 г. они составляли 12,4 %, а в 1939 г. – 33,5 % населения[17]. И интересы этого явного меньшинства были провозглашены высшим приоритетом, в жертву которому были принесены интересы всех прочих!
Теперь об истинности лозунга о пролетарском государстве. Здесь, видимо, следует обратиться к внутренней структуре рабочего класса. Перед революцией его ядром были кадровые рабочие, хотя они и не составляли арифметического большинства. Однако мировая, а затем гражданская война, эпидемии, голод уничтожили большую их часть. Постепенное восстановление численности рабочих, а затем ее скачкообразный рост в годы индустриализации происходили главным образом за счет выходцев из деревни. В итоге кадровые рабочие стали составлять ничтожную часть класса. Большинство же образовалось из вчерашних крестьян, которые либо не нашли себе применения в деревне, либо бежали оттуда, спасаясь от коллективизации. Поэтому по своей культуре и психологии они были теми же люмпенами, только не нагло-агрессивными, как выдвиженцы, а неуверенными, запуганными, плохо ориентирующимися в новой жизненной обстановке и податливыми для любого внушения и давления.
В советские времена было принято считать, что именно кадровые, потомственные пролетарии всегда оказывали большевистской партии наиболее твердую поддержку, видя в ней свое представительство. В число кадровых рабочих входила значительная прослойка так называемой рабочей аристократии, т. е. наиболее квалифицированных и, соответственно, высокооплачиваемых рабочих, которые по своему образу жизни и типу сознания были ориентированы не столько на «братьев по классу», сколько на средние слои городского населения. Они были более или менее удовлетворены своим материальным положением, заинтересованы в социальной стабильности и потому не могли быть последовательными сторонниками большевистского экстремизма. Но, помимо того, известно и об упорном сопротивлении, которое оказывала большевистской власти в первые месяцы и даже годы после переворота значительная часть «рядовых» рабочих.
- Стандарты справедливого правосудия. Международные и национальные практики
- Интеграция мигрантов: концепции и практики
- Этика публичной сферы и реалии политической жизни
- Апология журналистики. В завтрашний номер: о правде и лжи
- Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием
- Билль о правах
- Верховенство права как фактор экономики
- Власть и закон. Политика и конституции в России в XX-XXI веках