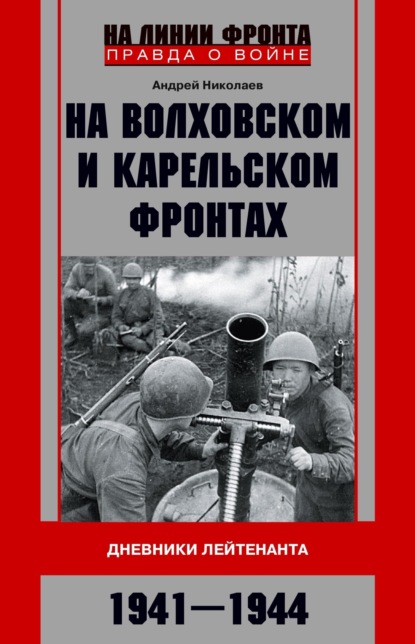На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг.
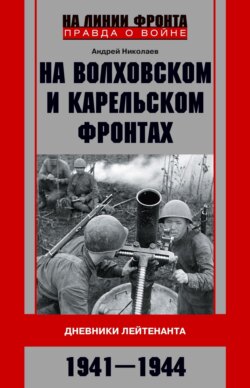
000
ОтложитьЧитал
– Гунченко наш состоял первым номером пулеметного расчета, – начал свой рассказ Женька Холод, – а пулемет этот находился на особо ответственном участке – прикрывал брод на этой речушке, где мы в оцеплении были. Ночь, тишина, ни единого звука. И вдруг. Слышим: пулемет Гуна бьет длинными очередями, захлебывается огнем. Мы к нему, бежит взводный. А Гун кричит: «Диверсанты переправляются!» И не отрывает пальца от гашетки. Ну, мы тоже – кто из винтовок, кто из автоматов, пока патроны не кончились. Тишина. Всматриваемся в темноту, а там никого и ничего. Только перекатная волна камешки по броду катает. «Ты чего, – говорит взводный, – сдурел? Такую панику поднял?» А Гун ему и отвечает: «Так скучно же, товарищ лейтенант, тут ночью да в темноте сидеть».
Диверсионную группу противника в конце концов обезвредили бойцы истребительного батальона. Мы при этом не присутствовали. Но ходили слухи, будто бы когда их брали, они сидели спинами друг к другу со скрещенными на груди руками, с оружием, сложенным в трех шагах, как бы демонстрируя свое «арийское превосходство над нами». Так ли это было, не знаю! Слышали мы и о том, что диверсионная группа противника натолкнулась где-то на подразделение 909-го авиационного полка, была перестрелка, в которой погибло несколько девушек.
История гибели девушек из 909-го авиационного полка впоследствии послужила мотивом для повести Б. Васильева, а затем и для великолепного фильма режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».
5 марта 1998 года я получил письма из Каргополя от Сергея Федоровича Голикова, бывшего курсанта 2-й роты 3-го стрелкового батальона, участника тех самых событий по ликвидации диверсионной группы противника в районе погоста Никольское, Рябово, Кузьмины Горы в октябре 1942 года:
«Девчата погибли. Их похоронили и поставили памятную тумбочку…
А безымянной могила стала где-то с 1954–1955 годов.
Чтобы восстановить, кто был захоронен, мне пришлось писать в „Подольский архив“, ветеранам 909-го авиационного полка. И только через семь лет установили, что девушки были из БАО – батальона авиационного обслуживания.
Договорился я с комендантом. Он дал мне автобус и четырех солдат. Могилу привели в порядок. Поставили новую тумбочку-памятник.
И вот не был я на этой могиле года три. Приходим с товарищами. А могилы-то и нет.
Нет и тумбочки-памятника.
Надо теперь опять все восстанавливать».
1 ноября. Начались регулярные занятия по строевой, по огневой, по уставам, по теории артиллерийской стрельбы, по тактике, по топографии. Пока мы еще живем в помещении школы, спим прямо на полу, на одних только матрацных наволочках. Но к праздникам обещают перевести нас в бараки бывшего Карглага на Красной Горке. Как утверждают, бараки вместительные, теплые. Их теперь ремонтируют, дезинфицируют и приспосабливают к требованиям военного училища. На территории своя баня, клуб, кино, больница, гауптвахта и даже карцер.
Утвержден новый проект боевого устава пехоты, подытоживающий практику первого года войны и по-новому переосмысливающий боевой опыт нашей армии. На выпускную роту нашего дивизиона дали лишь несколько экземпляров, и мы, сидя прямо на полу на своих местах, выписываем для себя под диктовку основные положения новых оперативно-тактических принципов. В огромной комнате под потолком вполнакала горит лишь одна маленькая лампочка – электроэнергию в городе экономят, и свет дают только с пяти вечера и до двух ночи. Читать и конспектировать приходится теперь как никогда много. Анализ тактических и стратегических операций минувшего периода войны показал, что сами принципы ведения боя в рамках устаревших традиций предшествующих войн пагубно влияли на развитие успехов со стороны наших войск. При возросшей мощи и плотности огня артиллерии и танков, при маневренности и силе удара современной авиации, при скорострельности автоматического оружия новейших систем боевые порядки нашей пехоты изжили себя. Возникла насущная необходимость их срочной реорганизации. И несомненно, проект нового устава был одним из первых моментов кардинальной реформации тактики наших войск на основе накопленного боевого опыта. Особое внимание устав отводил положению о месте командира в бою. Первые месяцы войны привели к тому, что командный состав, особенно в среднем звене, оказался просто выбитым. Случалось порой, что батальонами командовали лейтенанты, а взводами и ротами – сержанты. Согласно положениям нового устава, место командира в боевом порядке отводилось в тылу подразделения. Командир должен был теперь отвечать лишь за выполнение боевой задачи и не обязан был уже, как того требовало положение прежнего устава, воодушевлять бойцов личным примером.
3 ноября. Все предыдущие дни мы отрабатывали эти параграфы нового устава на местности, в поле. На жнивье лежит снег, дуют сильные ветры. Западные окрестности Каргополя равнинные и безлесные. В пилотках и без перчаток холодно и мозгло. Ползать по земле нас никто не заставляет. Параграфы нового устава мы изучаем применительно к местности в принципиальном варианте. Обсуждаем вводные, то есть теоретические возможности непредвиденных оперативно-тактических ситуаций.
Вечерами, после обеда, расположившись на своих местах прямо на полу, составляем конспекты или пишем письма домой.
В связи с изменением тактики боя пехотных подразделений меняется и тактика полевой артиллерии. Теперь пушечные и гаубичные системы должны сопутствовать пехоте, прямой наводкой подавлять огневые точки противника, своевременно отражать танковые атаки врага и поддерживать пехоту не только огнем, но и колесами – то есть продвигаться наравне со стрелками в боевых порядках пехоты. Особое значение, как в обороне, так и в наступлении, приобретают 120-миллиметровые минометы, оказавшиеся незаменимой артиллерийской системой при подавлении живой силы противника, укрывшейся в траншеях, а равно при ведении боя в горной и лесистой местности.
4 ноября. На стене в полный лист висит схема боевой операции в районе озера Лаче и юго-восточнее Каргополя 23–24 октября 1942 года. Разбор операции производит лейтенант Нецветаев, непосредственный ее участник и наш командир. Курсанты сидят на полу полукругом, многие ведут запись. Это было наше первое участие в «деле». Стрельба из орудия боевыми снарядами по вражескому гидросамолету воспринималась нами как подвиг «общегосударственного масштаба». Это мы обезвредили диверсионную группу противника, это мы обеспечили бесперебойную работу железнодорожной линии Москва – Архангельск. И мы все горды были этой победой!
И как бы в награду, нам выдают новые шинели. Наконец-то мы можем избавиться от провонявшей кислым запахом прели, видавшей виды, кургузой и вытертой «поддевки», которую мы носили без малого пять месяцев. Я выбрал себе из новых длинную, едва не до пят. Товарищи смеются: «Зачем такую?» Но я знал: длинная шинель на войне – это спасение от холода!
Вечером получил письмо от матери. Она извещает меня, что собирает мне посылку, что у нее уже припасены теплые вещи и что для меня есть теплые портянки, которые она обметала швом по краям. Я много раз говорил своей матери, что портянки не обметывают, портянка должна быть эластичной по краям, вытягиваться по ноге, облегать стопу. Грубый шов края может поранить ногу, натереть ее, а в военное время за подобное отдают под суд военного трибунала. Но мать оставалась глуха к моим увещеваниям, и в конце концов портянки я получил обметанные по краям толстым швом. Моя мать настояла-таки на своем.
5 ноября. Переезжаем в бараки на Красной Горке. Помещения, отведенные под казармы, свободные и просторные, отапливаются дровами. Наших художников – Шишкова, Володина и Капустина – тут же мобилизовали расписывать стены плакатной живописью прямо по белой штукатурке. Получалось некое подобие фрески. Особенно выразительной оказался рисунок головы солдата в каске, написанной черной гуашью по красному фону Васей Шишковым. У меня же обнаружилась чесотка, и я не попал в состав бригады монументалистов. Случаи заболевания чесоткой были не редкими, и врач училища предполагал, что эту заразу мы получили от наших предшественников – карглагских зэков. Фельдшер мажет меня вонючей мазью Вилькенсона, после чего я отправляюсь в городскую баню. Баня в Каргополе одна на весь город, маленькая, деревянная и уютная. Одна в городе и парикмахерская – в ней царствует приветливая, плотная женщина с идеально уложенной прической под тоненькой сеткой, в старинных бирюзовых сережках и белом крахмальном халате. У меня уже солидная шевелюра, и я не обхожу парикмахерской. Дело в том, что на двадцатом году жизни начинает расти борода и возникает необходимость бритья. Бритвы у меня нет, собираясь в армию, я как-то об этом не подумал. Купить бритву здесь невозможно. Посещая баню, я захожу бриться в парикмахерскую. В остальные же дни одалживаю бритву у Олега. «Из таких-то вот мелочей и складываются порой серьезные осложнения в жизни», – записываю я в своем дневнике.
Разговорившись с фельдшером, я узнал от него, что в санчасти содержится парень из нового набора по обвинению в покушении на самострел. Он лежит в отдельной палате, у дверей дежурит часовой. Парню грозит суд военного трибунала.
6 ноября. Завтра праздник, а сегодня день свободный. Из начальства в казарме никого. Старшина Шведов не надоедает. Курсанты лежат на койках. Матрацы набиты сухой соломой. Печи натоплены, и в помещении сухой воздух, пробуждающий в теле приятную истому. Разговор касается происшествия с парнем из нового набора.
– Что может побудить человека решиться на членовредительство, – спрашивает Олег Радченко, как бы ни к кому конкретно не обращаясь, – он же ведь заведомо должен знать, что это грозит неминуемым расстрелом?
– Этого я тоже не понимаю, – говорит Костя Бочаров, – возможно, он думал – пронесет.
– Но это точно самострел? – переспрашивает Курочкин.
– Фельдшер говорит, без сомнения, – отвечаю я, – к тому же типичный самострел: ранение кисти правой руки в области большого и указательного пальца.
– А вам не кажется, что этот парень из какой-то секты? – услышали мы из угла голос Васи Шишкова. – Есть такие секты, которые идут на членовредительство, только бы не служить в армии. А тут ведь такая дичь. Парень-то, видать, из местных.
7 ноября. Торжественное построение на плацу перед лагерем. Митинг, как и положено, похожий на все митинги. И в конце торжественное прохождение поротно перед трибуной с начальствующим составом училища.
К вечеру ощущается значительное похолодание. Люди опытные предполагают, что не исключена возможность морозов.
9 ноября. Взвод наш заступил в наряд караула на мосту через реку Онегу. Как и предполагали, завернули крутые морозы. Сколько градусов, мы не знаем, но там, где мы стоим, ветер такой, что захватывает дыхание, леденит легкие, глаза слезятся, а в носу образуется колючая изморозь.
10 ноября. Пришло сообщение из штаба: ночью температура опустилась до минус двадцати шести градусов. А русло Онеги – это гигантская аэродинамическая труба, вытянувшаяся почти в северном направлении с небольшим уклонением на восток. На середине моста люди выдерживают на посту не более десяти минут. Табельной караульной одежды – тулупа, меховых шапок, рукавиц, валенок, теплого белья – у нас нет. На пост мы надеваем по две шинели враз, голову укутываем поверх пилотки полотенцем. На всех у нас всего лишь одна пара байковых перчаток и ни одного теплого шарфа. В холодных, холщовых портянках и дырявых сапогах ноги стынут моментально. Одна отрада – караульное помещение. Печь раскалена так, что к кирпичам не притронуться. Дров сухих, березовых сколько угодно. Возвращающегося с поста сажают к огню, отогревают и отпаивают чаем. Днем стало легче – температура поднялась до десяти градусов. Ветер стих, дышать стало легче. Пришла подмога из курсантов. На посту теперь стоим по двое. С рассветом через мост пошли автомашины и пешеходы. У нас приказ: всех тщательно проверять и подозрительных задерживать. Но все обошлось благополучно, и никакого ЧП не произошло.
11 ноября. В стрелковых батальонах срочная аттестация и выпуск. В общей сложности они учились восемь месяцев, и 80 % из них получили звание младшего лейтенанта. У нас же согласно вывешенному учебному плану до окончания курса остается ровно 19 дней. В бараках появились военторговские спекулянты – шепотом предлагают лейтенантские кубики по 70 рублей за четыре штуки.
14 ноября. Пришла посылка из дома, от матери. «Николаев, – услышал я голос дневального, – давай быстро в штаб училища!» Наконец-то. Опрометью бросился я в город, получил долгожданный ящик и скорее назад в казарму. В тесном и дружеском курсантском кружке получение посылки из дома стало своего рода праздником, а момент вскрытия ящика приобретал черты торжественного ритуала. Вокруг собираются только избранные друзья и товарищи. Лица, в той или иной мере посторонние, тактично держатся поодаль, и лишь вездесущий Парамонов всюду сует свой нос. Никто из присутствующих тут ни на что не претендует.
Весь интерес ограничивается лишь тем, через какие конкретно предметы осуществляется связь получателя посылки с домом.
Вскрываю и я свой ящик. Сверху два свитера. «Вот это да, – слышу я восторженный вскрик, – целое богатство!» Из ящика извлекаются теплые носки, варежки, портянки с подрубленными краями. Не забыла мать и гостинцев: какао, пряников, печенья, а в маленьком мешочке, перетянутом шнурком, кусочки колотого сахара.
– Вот что значит мать, – слышу я восхищенный голос Жоры Арутюнянца, – ведь от своего карточного пайка отрывает, чтобы сына ублажить.
Действительно, в сахаре мы не нуждались. А мешочек этот я должен принять как изъявление материнской любви и жертвы. От тети Лиды, материной сестры, пачка табака. Было в посылке и сукно: черное и красное, и золотой галун. Не догадалась она прислать этого галуна побольше – я бы мог выменять его на кубари. Нашел я в посылке и ложку, без которой испытывал сущие муки, и ножик – не такой, как я просил: складной, универсальный, а столовый и к тому же тупой. Ну да ладно.
Окончив разбор вещей, я написал своей матери: «Сегодня я как в раю – шутка ли, два свитера, и такие теплые. Не забудь от меня поблагодарить тетю Лиду и поцеловать ее. Сегодня у нас настоящий праздник. Но есть у нас люди, для которых наши посылки становятся источником тяжкого состояния. У Падалки, например, все родные на территории занятой немцами, и он даже не знает, что с ними. Сегодня он сказал мне: „У тебя вон родные, а мне и написать некому. Грустно это. Обидно“. Этот человек уже дважды побывал на фронте, а сегодня он плакал».
Вечером у печки собралась тесная компания: Олег Радченко, Костя Бочаров, Вася Шишков, Саша Гришин и я. Электричества не было – выключили. В комнате приятный полумрак, тепло и уютно. По стенам мечутся оранжевые отблески огня, споря с холодными отсветами угасающего дня.
В эмалированных кружках у нас вскипяченное какао, – мы пьем этот благодатный напиток и строим планы на будущее. Всех нас интересует вопрос: как скоро окончатся наши занятия и как пройдут выпускные и государственные экзамены.
– Вчера Матевосян говорил, сам слышал, что лейтенантские кубики уже в воздухе витают. – Костя изображает рукой нечто витающее в воздухе и, жмурясь, прихлебывает из кружки.
– Кубики кубиками. Они от нас никуда не уйдут, – спокойно рассуждает Саша Гришин, – а вот когда теплое белье выдадут, портянки байковые да шапки меховые?! Наверху, там, думают о чем-нибудь или нет?! Нам что, в пилотках на фронт ехать?!
19 ноября. Выдают новые сапоги на кожаной подошве, пробитые медными гвоздями. И теплые стрелковые варежки с двумя пальцами, на байковой подкладке. Шапок зимних пока не ожидается, и мы по морозу ходим в пилотках. Штаб училища занят нашими характеристиками и аттестациями. Жора Арутюнянц и Глеб Лемке откомандированы в качестве специалистов в области делопроизводства и юридического права на помощь сотрудникам нашей строевой части.
21 ноября. Вечер. Рота вернулась с ужина. По всему бараку нет света. Люди сидят у печек, болтают, а кто-то, завалившись на койку поверх одеяла, мирно похрапывает, ожидая вечерней поверки. И никто не заметил появившейся на пороге входной двери сгорбленной фигуры старика Матевося-на. Дневальный растерялся и впопыхах отрапортовал:
– Товарищ полковой комиссар, выпускная рота готовится к госэкзаменам.
Старик опешил. Он стоял с раскрытым ртом, удивленно вытаращив на дневального и без того выпуклые глаза. Если бы он услышал, что личный состав роты отдыхает, возможно, он сказал бы, что отдыхать еще не время, пожурил бы нас за нерадивость. Тут же ему «втирали мозги», обманывали, и старик обиделся.
– О такой подготовке к экзаменам напиши своей бабушке, и пусть она тебе поверит! – гортанно выкрикнул старый комиссар и, погрозив кому-то кулаком, заложив руки за спину, ушел прочь из барака.
Мы не знали случая, чтобы старик Матевосян когда-либо на кого-то наложил взыскание, посадил на губу или же гонял в поле по-пластунски.
Но тут он не выдержал, не простил и наказал.
22 ноября. Утром, вместо физзарядки, дежурный по роте устроил нам выволочку в поле – двадцатиминутное ползание по-пластунски. День был хмурый и холодный, мела поземка. Было неприятно и тоскливо.
Не знаю, простудился ли я или, возможно, сказалось нервное перенапряжение, но я занемог и угодил в лазарет. В палате на соседней койке наш гармонист Орлов. Он москвич и работал до войны шофером. Его память – неистощимая кладовая всякого рода историй и анекдотов из жизни московских таксистов. Слушают его, разинув рты и развесив уши, а расплачиваются с ним за его байки излишками своего госпитального пайка.
В стационаре я провалялся до 28-го числа и выписался в день официального окончания курса обучения в Великоустюгском пехотном училище, в его пятом минометно-артиллерийском дивизионе.
1 декабря. Первый экзамен – топография. Как и во всяком учебном заведении, мы тянем билеты, затем готовимся за отдельным столом и, наконец, отвечаем экзаменатору. Комиссия особое внимание обращает на знание и навык в работе с картой, на безукоризненное умение читать с листа топографические знаки и на основании их составлять исчерпывающее описание характера и особенностей данной местности. Вторая половина экзамена проводилась в поле. Там мы демонстрировали свое умение в работе с теодолитом и буссолью, выполняли практические задания на планшете и решали по ходу дела различные вводные задачки.
В тот же день на плацу сдавали строевую подготовку. Погода великолепная, солнечная, с легким морозцем. В новых шинелях, новых меховых шапках, выданных накануне экзаменов, в новых сапогах мы имели вид вполне приличный, особенно по тем временам. Царит торжественно-приподнятое настроение. Экзаменационная комиссия состоит из опытных строевиков, и кое-кто из них имеет за плечами опыт старорежимной школы фрунтовой муштры. Но и нам опасаться нечего – в среднем всем нам по двадцать-двадцать пять лет, в большинстве своем стройные парни, которым фрунтовой режим давался легко, а ежедневные упражнения и тренировки выработали известный автоматизм действий. Даже Артюх, не отличавшийся врожденной статностью фигуры, сдал экзамен на пятерку. Каждый из нас командовал отделением и взводом по очереди, а стоя в строю, должен был исполнять команды четко, отработанно и ритмично. Комиссия осталась довольной, и в экзаменационной ведомости сплошь стояли пятерки. И лишь одна тройка – ее схлопотал наш нескладный и мешковатый Абрам Гуревич.
2 декабря. Экзамен по огневой подготовке. Спрашивали дотошно, и я немало волновался. Нужно знать строение материальной части и технические данные многих систем стрелкового и артиллерийского вооружения, уметь пользоваться им, собирать и разбирать механизмы в установленные сроки. Техника всегда представляла для меня известные трудности, и в экзаменационном табеле появилась у меня первая и единственная четверка.
3 декабря. Сдавали тактику общевойсковую и тактику полевой артиллерии. Артиллерийскую стрельбу по планшету и на ящике с песком. Воронов никому не давал спуску, но и мы не ударили в грязь лицом.
4 декабря. Комиссия гоняет нас по уставам, но и тут мы не сдаемся. Подавляющее большинство – пятерки. Представители политотдела принимают экзамен по политической подготовке и военной истории. Только бывших московских студентов и аспирантов не удивить этими предметами.
С почтой пришло известие о смерти моего двоюродного дедушки Осипова Александра Семеновича, которого я очень любил и звал Дядясаша. Он был удивительный добрый старик, и у нас с ним сложились особенные отношения. В молодости он служил поручиком в артиллерии и был участником Русско-японской войны. Дядясаша был широко образованным человеком, знал семь иностранных языков и в старости подрабатывал переводами. Разбирался он и в радиотехнике, и в фотографии, и в изобразительном искусстве, и в переплетном деле. Мы собирали с ним радиоприемники, печатали фото, а с его этюдником я ходил в училище живописи. Это он приучил меня к работе и терпению, привил мне интерес к истории и литературе. В последнем письме ко мне, в училище, он писал: «Все мои друзья-сверстники уже ТАМ, и я должен идти за ними вслед». И вот он умер! Умер, и остались после него на земле только лишь его вещи – свидетели его жизни и его дел: настольная лампа, которая до сих пор стоит на моем письменном столе, его бронзовая собачка, его этюдник, его книги и фотографии. Когда я смотрю на них, то вспоминаются мне стихотворные строки нашего Виктора Федотова:
Еще вчера здесь человек дышал,
и жили вещи, вещи жили,
была у них его душа,
его привычки были.
5 декабря. Окончены государственные экзамены. Мой общий балл – 4,9. Это достаточно высокая оценка, и я уверен в том, что звание лейтенанта мне обеспечено. Круглые пятерки лишь у нескольких человек, и среди них Олег Радченко. Настроение у всех приподнято-удовлетворенное. Наши бывшие командиры теперь такие приветливые, поздравляют нас, жмут руки, желают успеха в будущем. Конечно же, и они волновались за нас не меньше нашего. Но всё позади – учеба, походы, наряды, экзамены. А впереди боевая жизнь, полная неожиданностей и опасности!
6 декабря. После завтрака мы чистим свое учебное оружие, наши мосинские трехлинейки с двуглавым орлом на клейме, которые мы должны передать новому, только что прибывшему пополнению, набора двадцать пятого года. Худые, низкорослые мальчишки, стриженные под машинку, ходят строем мимо наших окон в столовую. Большинство из них местные – вологодские и коми. Новое пополнение будет размещаться в наших бараках, а нас переводят в другое помещение. Кое-кто уже успел сходить и посмотреть – говорят, на новом месте комнаты лучше и уютнее. Тимощенко сдал нашу выпускную роту Козлову, старшему лейтенанту, бывшему командиру двадцатой роты, человеку симпатичному и приятному. Он ходит, прихрамывая и опираясь на палку, – разболелась раненная в сорок первом нога. После госэкзаменов о нашем существовании словно забыли.
Из дома пришла вторая посылка, и в ней настоящий комсоставский планшет из великолепной желтой кожи. Ника выпросила его у своего отца. Пользуясь свободным временем, принялся за изготовление комсоставских петлиц и нарукавных знаков – шевронов из присланного мне черного и красного сукна. У спекулянтов из «Военторга» достал четыре пары кубарей рубиновой эмали. Теперь я полностью обеспечен комсоставскими знаками различия и на шинель, и на гимнастерку. Остается только ждать приказа о производстве.
7 декабря. Четверо наших выпускников – Олег Радченко, Евгений Холод, Геннадий Васильев и Иван Баев – аттестуются досрочно и остаются в училище на командно-преподавательской работе.
«Жаль, что уходит от нас Олег, – пишу я домой, – я так привязан к нему. Что касается меня, то мне бы не хотелось оставаться в этой каргопольской дыре». И это действительно так – я не лгал и не обманывал себя. Откровенно говоря, мы уже устали тянуть курсантскую лямку, нервы напряжены до предела, и любая перемена кажется желанной. Училище готовит кадры командного состава – то есть вчерашних мальчишек, школьников и студентов, избалованных физически и нравственно, перековывало в людей, способных не только воевать, но и командовать. Всё неспособное, непригодное извергалось вон в результате жестокого отбора. Я понимаю: в мире существует явление, имя которому ВОЙНА, то есть явление реальности, ужасающей своей бесчеловечной конкретностью. Миллионы людей сталкиваются, убивают, жгут, калечат друг друга, испытывая при этом и нравственные, и физические страдания… «Для чего все это?!» – спрашиваю я себя и не нахожу ответа. И вспомнился мне разговор с Дядя-сашей зимой сорок первого года, в холодной, нетопленой комнате.
– Тебя интересует, почему в мире война? – Он говорил тихо, мягко и ласково смотрел на меня поверх очков своими выпуклыми глазами. – Да потому, что человек пристрастен к убийству. Первое действие человека, изгнанного из Рая, – Каин убивает Авеля. Убивает в силу ненависти, зависти и злобы. Злом зла, конечно, не искоренить. Но военные действия предусматривают боевой отпор агрессору и устанавливают своего рода военный баланс или равновесие сил. Как это ни печально, Андрюша, но люди почему-то предпочитают судить о том, какая должна быть жизнь, и совершенно не обращают внимание на то, какая она есть!
Наверное, это так, думал я. Дар видения жизни в ее подлинном, неискаженном варианте можно было бы, очевидно, назвать исключительным даром, даром прозрения, присущим, естественно, не всем людям.
14 декабря. Жора Арутюнянц, вернувшись вечером из штаба училища, где он помогает оформлять наши документы, сообщил, будто сам видел приказ о присвоении мне «младшего лейтенанта». Эта новость буквально подкосила меня: слезы горькой обиды душили меня, нервный спазматический ком подкатывал к горлу. До боли стискивал я зубы – только бы не выплеснуть наружу разбушевавшуюся стихию чувств. Как же так?! Мой экзаменационный балл один из лучших – 4,9. «Откуда же такая несправедливость?» – спрашивал я сам себя. Во взводе волнение, с жаром обсуждают случившееся.
15 декабря. С утра Жора Арутюнянц отправился в штаб к знакомым писарям и вскоре вернулся с известием о том, что в выпускной пулеметной роте есть курсант Николаев Андрей Владимирович двадцать второго года рождения – вот он-то и аттестован младшим лейтенантом.
По нашей просьбе Жора самолично проверил все аттестации и сообщил нам, что все мы уже лейтенанты и только Петров и Гуревич – младшие. Официально разрешено нашивать комсоставские петлицы и шевроны, не велено пока носить кубики до официального приказа о производстве. Мы теперь состоим как бы в резерве. Свободно ходим в город, посещаем кино. Единственное, чем бы хотело заручиться начальство, так это соблюдением некоторой благопристойности с нашей стороны, чтобы выходы в город не сопровождались пьянством и дебошами.
Зима вошла в свои права, и под снегом Каргополь преобразился и стал похожим, по моим представлениям, на Москву прошлого века, так хорошо мне знакомую по картинам Кустодиева и Юона и которую я еще застал в раннем детстве.
Вечером я заступил дневальным, а дежурным по батальону оказался на этот раз Генка Васильев – тот самый, аттестованный досрочно и оставленный в училище в качестве командира взвода.
16 декабря. Два часа ночи. Казарма спит, и тяжкий воздух насыщен разноголосым храпом сотни людей. Чтобы хоть немного освежиться, глотнуть свежего воздуха, стряхнуть сонливость, я отворил входную дверь и вышел на крыльцо. Морозило, в лунном свете искрился снег.
Именно в этот момент через соседнюю дверь в барак прокрался Генка Васильев и, опередив меня, встретил вопросом:
– Товарищ курсант, почему вы оставили свой пост?
Я оторопел. Дневальный не часовой и может свободно двигаться по казарме. И вдруг бывший товарищ, однокашник зло цедит сквозь зубы:
– Снимаю вас с дневальства, о вашем поведении будет доложено по начальству.
Подобной подлости я никак не ожидал. Но вот я начинаю ощущать, как во мне накатывает приступ дикой ярости, в висках стучит, кулаки сжимаются сами собой. Но я обязан овладеть собою!
– Какой же ты дурак, Генка, – налегая на «ты», выдавливаю я из себя, еле сдерживая гнев, – «квадратный дурак» и последняя сволочь.
Меня заносило. Назвав его «квадратным дураком», я оскорблял уже не только его лично, но и как лейтенанта, знаком отличия которого был всеми нами почитаемый «кубик», «кубарик» или «квадратик».
И, не дожидаясь, пока меня снимут, я сдернул красную нарукавную повязку и с вызовом отправился спать на свой индивидуальный топчан, которым пользовался с того времени, как заболел чесоткой.
Утром за мной пришел наряд с гауптвахты и объявил, что я арестован на пять суток. В шинели с комсоставскими петлицами и шевронами, в сопровождении охраны из курсантов, отправился я в комендатуру. Наряд сопутствовал мне молча и не знал, как со мною обращаться. Дежурный по гауптвахте пришел в недоумение: командный состав не положено по уставу содержать на гауптвахте, особенно же совместно с рядовыми. Для содержания командира на гауптвахте нужна санкция военного прокурора. Меня, естественно, привели без такой санкции. Дежурный был в нерешительности. Он, конечно же, знал о нашем производстве, о том, что все мы в резерве. Я молчал. Молчание становилось тягостным, и дежурный, видимо, решил: раз не он меня арестовал, а «другие», то пусть эти «другие» и разбираются! Меня отвели в камеру. Несколько курсантов нового набора при виде моих петлиц и шевронов почтительно встали. «Садитесь», – сказал я спокойно. Курсанты сели. Разговор смолк. Они уже знали, что такое военная субординация в военном училище, называли меня «товарищ лейтенант» и не пытались даже выяснять, каким образом я очутился в их компании.
Вечером караул сменили, и новый дежурный потребовал, чтобы я вышел вместе со всеми на работы – чистить снег. Я отказался. Лейтенант попробовал прикрикнуть.
– Не вздумай брать на глотку, – отрезал я. – Подавишься.
Лейтенант растерялся, не знал, что делать, и, откашлявшись, пробурчал, что бы я в камере не оставался, потому что может быть поверка. Я вышел на улицу и ходил взад-вперед, засунув руки в карманы. Часовой, присутствовавший при стычке с дежурным, не знал, как со мной обращаться.
Так прошли все пять суток. За это время у меня свистнули комсоставский алюминиевый котелок – Никин подарок.
21 декабря. Перетянув шинель ремнем, я возвращаюсь к себе в казарму. Друзья встретили меня радостными криками и возбужденно стали рассказывать, какую обструкцию они устроили Генке Васильеву.
- Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941—1945
- Записки наводчика СУ-76. Освободители Польши
- В немецком плену. Записки выжившего. 1942-1945
- Русское государство в немецком тылу. История Локотского самоуправления. 1941-1943
- Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945
- Нацистская пропаганда против СССР. Материалы и комментарии. 1939-1945
- От летчика-истребителя до генерала авиации. В годы войны и в мирное время. 1936–1979
- Война солдата-зенитчика: от студенческой скамьи до Харьковского котла. 1941–1942
- Ночные рейды советских летчиц. Из летной книжки штурмана У-2. 1941–1945
- От Заполярья до Венгрии. Записки двадцатичетырехлетнего подполковника. 1941–1945
- Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и большевиками. 1941-1944
- Морские десантные операции Вооруженных сил СССР. Морская пехота в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны. 1918-1945
- Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции «Цитадель». 1943
- Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение. 1901-1971
- Флагманы Победы. Командующие флотами и флотилиями в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
- Американский доброволец в Красной Армии. На Т-34 от Курской дуги до Рейсхтага. Воспоминания офицера-разведчика. 1943–1945
- Белорусские коллаборационисты. Сотрудничество с оккупантами на территории Белоруссии. 1941–1945
- Курская битва. Наступление. Операция «Кутузов». Операция «Полководец Румянцев». Июль-август 1943
- Варшавское шоссе – любой ценой. Трагедия Зайцевой горы. 1942–1943
- Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941-1944
- От Ленинграда до Берлина. Воспоминания артиллериста о войне и однополчанах. 1941–1945
- Александр Маринеско. Подводник № 1. Документальный портрет. Сборник документов
- Фронтовые будни артиллериста. С гаубицей от Сожа до Эльбы. 1941–1945
- Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США для СССР во Второй Мировой войне. 1941-1945
- Записки военного альпиниста. От ленинградских шпилей до вершин Кавказа 1941–1945
- Долгая дорога домой. Воспоминания крымского татарина об участии в Великой Отечественной войне. 1941–1944
- Война глазами участника Парада Победы. От Крыма до Восточной Пруссии. 1941–1945
- Будни советского тыла. Жизнь и труд советских людей в годы Великой Отечественной Войны. 1941–1945
- Герои подводного фронта. Они топили корабли кригсмарине
- Подвиг подплава Балтийского флота. Боевые действия в Финском заливе. 1943 г.
- Огненный шторм над Севастополем. Военная техника и вооружения в битве за Крым. 1941–1942
- В вяземском окружении. Воспоминания бойцов 6-й дивизии народного ополчения. 1941–1942
- В батальоне правительственной связи. Воспоминания семнадцатилетнего солдата. 1943—1945
- Последние дни обороны Севастополя. Неизвестные страницы знаменитой битвы. Июнь – июль 1942 г.
- Армия и флот в битве за Кавказ. Совместные операции на Черноморском побережье 1942–1943 гг.
- На ростовском направлении. Южный фронт в боях на Миусе. Январь-август 1943 г.
- Мобилизация и московское народное ополчение. 13 дней Ростокинской дивизии. 1941 г.
- На Волховском и Карельском фронтах. Дневники лейтенанта. 1941–1944 гг.
- Освобождая Европу. Дневники лейтенанта. 1945 г
- На службе в Генеральном штабе. Воспоминания военного историка. 1941—1945 гг.
- «Чужие среди своих». Польское население в советском партизанском движении на территории Белорусской ССР. 1941—1944