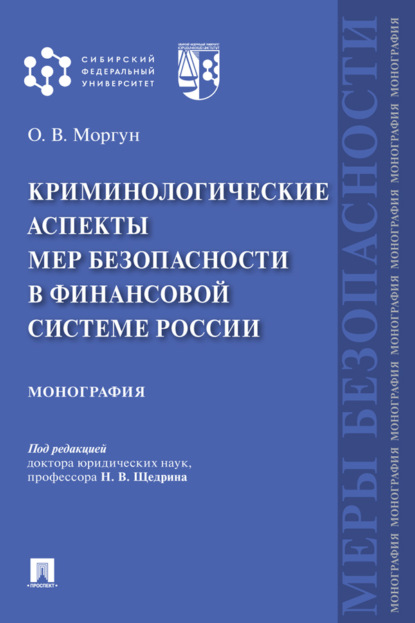Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе России
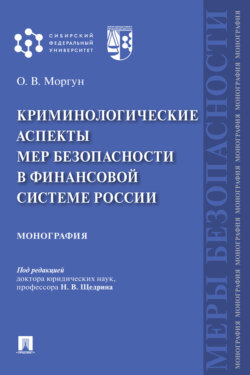
000
ОтложитьЧитал
§ 3. Источники опасности для финансовой системы
Выделение объекта повышенной или особой охраны, как было отмечено в предыдущем параграфе, осуществляется во взаимодействии с установлением степени опасности воздействующих на такой объект сил или угроз. Показав, что финансовая система нуждается в обеспечении безопасности как в части своих компонентов, так и в части системообразующих свойств, рассмотрим в данном разделе разновидности и особенности факторов, влекущих необходимость такого охранительного воздействия. Ясно, что состав источников опасности будет определять требования к объектам охраны и, следовательно, влиять на процедуру обеспечения безопасности.
Опасность можно охарактеризовать как наличие и действие сил (факторов), которые являются деструктивными и дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе. При этом деструктивными и дестабилизирующими следует считать те силы (факторы), которые способны нанести ущерб данной системе, вывести ее из строя или полностью уничтожить87. Опасность классифицируют по источникам, действующим силам, объектам их воздействия, по уровню развития и степени опасности.
Источником опасности служит явление или процесс, свойство или развитие которого может причинить вред или разрушить систему. Источник опасности может находиться внутри самой системы (внутренняя опасность) либо вне ее (внешняя опасность).
Источник опасности – это свойство одной, чаще всего неустойчивой, системы (деятельности, ее объекта или субъекта), развитие или проявление которого слабо поддается или не поддается контролю и с высокой вероятностью может произвести необратимые разрушительные изменения в этой или другой системе88. В правовой науке наиболее развиты теории, согласно которым источником опасности может быть какой-либо объект89, деятельность90, субъект91. Источники опасности различаются по степени: источник опасности, источник повышенной опасности, источник особой опасности.
Применительно к финансовым отношениям наибольший интерес представляют такие источники опасности, как деяния (действия физических лиц или деятельность организаций) и субъекты (единоличные и коллективные92).
Указанные источники тесно взаимодействуют между собой, так как правовой статус субъектов финансовых отношений определяется осуществляемой ими деятельностью и наоборот: иногда деятельность является формой конкретизации субъекта – источника опасности. Например, 22 и 23 рекомендации Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принятые в 2012 году, содержат указания на субъектов (казино, риелторов, дилеров по драгметаллам, адвокатов, нотариусов и пр.), подлежащих обязательной проверке финансовыми учреждениями при осуществлении ими определенных видов деятельности, также поименованных в рекомендациях93.
Перейдем непосредственно к источникам опасности, характерным для современных финансовых систем.
3.1. Противоправная деятельность как источник опасности для финансовой системы
Источниками опасности для финансовой системы могут являться как определенная деятельность субъектов финансовых отношений, так и сами субъекты, участники таких отношений. Для финансовой, как и для любой иной системы, источником опасности является противоправная деятельность94, поэтому в настоящем параграфе остановимся более подробно на деяниях, представляющих опасность для финансовой сферы государства.
Регулятором финансовых отношений является финансово-правовая норма, представляющая собой «своеобразный каркас (эталон, модель) общественных отношений в сфере финансов»95, характеризующая их наиболее устойчивые, типичные черты. Несоблюдение каких-либо требований финансово-правовой нормы неизбежно влечет различные негативные последствия, вплоть до признания подобного финансового правоотношения правонарушением. В то же время противоправная деятельность может как обладать признаками правонарушения, так и не являться таковой.
В соответствии с общей теорией права правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и граждан96.
Следует отметить, что финансовое законодательство не содержит единого комплексного понятия финансового правонарушения. Возможно, именно поэтому в теории финансового права вопрос о данном понятии является одним из наиболее спорных. Одни авторы отрицают не только такой вид правонарушений, как «финансовые», но и в целом существование финансового права в качестве самостоятельной отрасли права. Так, Ю. Н. Белошапко полагает, что «на настоящее время нет специфического вида правонарушения – финансового правонарушения и специфической санкции – финансово-правовой санкции. Следовательно, нельзя говорить и о финансовом праве как самостоятельной отрасли права. Для этого необходимо выделить самостоятельный метод правового регулирования, который с позиций общей теории права рассматривается в качестве одного из главных критериев, обусловливающих структурирование правовой системы, обособление относительно автономных отраслей (подотраслей) права. Проявлением искомого метода является наличие самостоятельного вида юридической ответственности и специфической санкции. Но любой их пример <…> характерен для уже существующих отраслей права – административного или уголовного (штраф), гражданского (пени) и т. д.»97.
Финансовое право, по мнению автора, «это межотраслевой правовой институт, то есть совокупность финансово-правовых норм, закрепленных в действующем законодательстве и регулирующих однородные финансово-экономические отношения»98.
Другие авторы рассматривают категорию «финансовое правонарушение» в качестве новой разновидности правонарушений, «которая сравнительно недавно была закреплена в действующем законодательстве. В связи с развитием законодательства в юридической литературе стали отмечать наличие банковских, бюджетных, налоговых и валютных правонарушений. Понятие финансового правонарушения – родовое, а налоговое, бюджетное, валютное, банковское правонарушения – видовые. Объединить эти правонарушения в один род позволяет их отраслевая принадлежность, так как они предусмотрены нормами финансового права, а их разграничение возможно на основе объектов посягательства, которые существуют в рамках общего родового объекта99.
Некоторые авторы, в свою очередь, полагают, что в связи с отсутствием законодательного закрепления соответствующего понятия «определение финансового правонарушения является обобщающей (собирательной) категорией, отражающей совокупность юридических признаков внутриотраслевых правонарушений»100. При этом под последними автор имеет в виду налоговые правонарушения, нарушения бюджетного законодательства, а также указания на элементы финансовых правонарушений, содержащиеся в законодательных актах федерального уровня, регулирующих валютные, страховые, кредитные, расчетные, публичные банковские отношения и т. д.
Е. Н. Кондрат по данному поводу справедливо, на наш взгляд, отмечает: «отсутствие законодательного определения финансового правонарушения скорее следует рассматривать как недостаток действующего законодательства, нежели как основание для отрицания существования таких правонарушений. Гражданское законодательство также не содержит определения гражданского правонарушения, однако никто не оспаривает существование таких правонарушений»101. Действительно, если следовать логике, то отсутствие легального определения не может означать отсутствия явления. Например, некоторое время назад отсутствовало легальное определение коррупции, но это же не означает, что ее не было.
С учетом формирования в России самостоятельного финансового центра, сопровождаемого активной законотворческой деятельностью в сфере финансового регулирования (так, Стратегией развития финансового рынка до 2020 г. предусматривалось завершить принятие находящихся в разработке законопроектов, касающихся построения системы пруденциального надзора за участниками финансового рынка и компенсационных схем для инвесторов)102, вряд ли стоит отрицать самостоятельность отрасли103 финансового права. Нарушение же норм финансового права определенными субъектами, по нашему мнению, справедливо называть финансовым правонарушением.
Необходимо в то же время отметить, что даже авторы, признающие категорию «финансовое правонарушение», в определении данного понятия расходятся.
Так, А. А. Мусаткина предлагает следующее определение финансового правонарушения: «общественно опасное, виновное, противоправное (в нарушение финансового законодательства) деяние, посягающее на финансовые отношения, за совершение которого предусмотрены меры финансовой ответственности»104. Е. Ю. Грачева и Э. Д. Соколова, в свою очередь, в данное понятие не включают такие признаки, как общественная опасность и объект посягательства: «финансовое правонарушение – это виновно совершенное деяние, нарушающее нормы финансового права, за которое законодательством установлена финансово-правовая ответственность»105. Последней точки зрения придерживается и М. В. Карасева106.
По мнению Е. Н. Кондрат, финансовому правонарушению присущи следующие признаки:
– «финансовое правонарушение – это поведенческий акт (деяние) субъектов публичных финансов;
– для финансового правонарушения характерно нарушение норм, закрепленных актами финансового законодательства, что свидетельствует о его противоправности;
– финансовое правонарушение причиняет вред публичным финансам;
– финансовое правонарушение – это виновное деяние;
– за совершение финансового правонарушения предусмотрено применение к виновному лицу мер финансово-правового принуждения, направленных на умаление его имущественного положения, иными словами финансовое правонарушение является основанием реализации финансовой ответственности. При этом финансовым правонарушением может признаваться только деяние, совершенное лицом, которое в соответствии с действующим законодательством способно нести финансовую ответственность»107.
Анализ приведенных точек зрения и выработанного общей теорией права понятия правонарушения позволяет сделать вывод о том, что под правонарушением в финансовой сфере следует понимать виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), заключающееся в нарушении норм финансового законодательства, влекущее установленную законом ответственность.
Следует отметить, что во всех приведенных выше определениях финансового правонарушения авторами делается акцент на финансовую ответственность (финансово-правовую ответственность). При этом под таковой авторы понимают применение финансовых санкций, направленных на «умаление имущественного положения» правонарушителя.
Финансовые санкции, по мнению указанных авторов, – это меры государственного принуждения, предусмотренные финансово-правовыми нормами, возлагающими на правонарушителей дополнительные обременения в виде финансовых пеней и штрафов. Иначе говоря, большинство авторов придерживается мнения, что финансово-правовые санкции – это и есть меры финансово-правовой ответственности, имеющие исключительно имущественный (денежный) характер.
В свою очередь Ю. Н. Белошапко, отрицающий финансовую ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, полагает, что финансовое правонарушение влечет административную или уголовную, а также гражданско-правовую ответственность. Термин же «финансовая санкция» автор предлагает использовать только для обозначения специфики применения административных (штраф, предупреждение), уголовных (штраф или иные санкции по УК РФ), гражданско-правовых санкций (неустойка в виде пени или штрафа) как мер государственного принуждения за нарушение финансово-правовых норм действующего законодательства108.
При этом большинство исследователей правовой природы финансовых правонарушений в круг нормативных актов, предусматривающих финансовую ответственность, включают Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и «ряд других нормативно-правовых актов»109.
В то же время ст. 25 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» является отсылочной и предусматривает, что ответственность лиц, нарушивших положения актов валютного законодательства, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации110. При этом таковая предусматривается как в КоАП РФ111, так и в Уголовном кодексе РФ112, то есть является административной и уголовной, но не финансовой. Иными словами, вряд ли стоит согласиться с авторами, полагающими, что данный Закон предусматривает исключительно финансовую ответственность.
Анализ остальных указанных нормативных правовых актов также приводит нас к выводу о том, что, во-первых, санкции за нарушение норм финансового законодательства не обязательно носят имущественный характер; во-вторых, ряд упоминаемых авторами нормативных правовых актов регламентирует процедуру применения различных видов ответственности за нарушение содержащихся в них норм; в-третьих, совершение правонарушения в финансовой системе может повлечь применение не только уголовных, административных или гражданско-правовых санкций.
Как указывается в Современной энциклопедии, термин «санкция» имеет несколько значений (от лат. sanctio – строжайшее постановление):
1) мера воздействия, важнейшее средство социального контроля; различают негативные санкции, направленные против отступлений от социальных норм, и позитивные санкции, стимулирующие одобряемое обществом или группой отклонение от норм;
2) государственная мера, применяемая к нарушителю установленных норм и правил;
3) часть правовой нормы, содержащая указание на меры государственного воздействия в отношении нарушителя данной нормы;
4) в международном праве меры воздействия, применяемые к государству при нарушении им своих международных обязательств или норм международного права;
5) утверждение чего-либо высшей инстанцией, разрешение113.
Таким образом, когда мы говорим о последствиях противоправного поведения в финансовой системе, термин «санкция», на наш взгляд, используется в его втором значении, то есть это государственная мера, применяемая к нарушителю установленных в данной сфере норм и правил, вне зависимости от того, имеют ли они форму денежного выражения.
Финансовое законодательство содержит довольно разнообразный перечень санкций, применяемых в случае несоблюдения обязательных правил поведения. Так, согласно ст. 282 БК РФ, действующей до 4 августа 2013 г., к нарушителям бюджетного законодательства могли быть применены следующие меры: «предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; блокировка расходов; изъятие бюджетных средств; приостановление операций по счетам в кредитных организациях; наложение штрафа; начисление пени; иные меры в соответствии с настоящим Кодексом и федеральными законами»114. Как видно из текста закона, наряду с «умалением имущественного положения» предусматривались и меры, специфичные именно для финансово-правовой сферы.
В соответствии с ч. 2 ст. 114 НК РФ налоговые санкции устанавливаются и применяются только в виде денежных взысканий (штрафов). Аналогично в виде штрафов были предусмотрены санкции за нарушения законодательства России о страховых взносах (ст. 46–51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»). Более того, сравнение данного нормативно-правового акта и КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что законодатель различает ответственность за нарушения законодательства о страховых взносах и административную ответственность, поскольку согласно ч. 2, 3 ст. 40 упомянутого закона «Привлечение к ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется органами контроля за уплатой страховых взносов. Привлечение к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»115.
В Федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» наряду со штрафами в качестве мер воздействия за нарушение в части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения предусмотрены пени и штрафы. При этом «сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и независимо от применения мер ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации» (ч. 3 ст. 25 Закона116).
Нарушение норм Федерального закона «О национальной платежной системе», если такое нарушение влияет на бесперебойность функционирования платежной системы либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, может повлечь применение Банком России следующих мер:
1) направление предписания об устранении нарушения с указанием срока для его устранения;
2) ограничение (приостановление) предписанием оказания операционных услуг, в том числе при привлечении операционного центра, находящегося за пределами Российской Федерации, и (или) услуг платежного клиринга. Кроме того, Банк России может исключить оператора платежной системы, являющегося кредитной организацией, из реестра операторов платежных систем (в случае неоднократного в течение года применения мер), а также привлечь поднадзорную организацию и ее должностных лиц к административной ответственности (ч. 9, 11 ст. 34 Закона117).
Все перечисленные меры лишь подчеркивают, на наш взгляд, тот факт, что санкции за нарушения правовых норм в финансовой системе вряд ли следует именовать «финансовыми», так как не все они имеют форму денежного выражения. Кроме того, уголовные, административные и гражданско-правовые санкции наказания не охватывают всего многообразия мер, возможных для применения к субъектам, допустившим нарушения требований финансового законодательства, что неминуемо приводит нас к необходимости иной классификации возможных последствий таких нарушений.
Полагаем, разделяя позицию Н. В. Щедрина, что в качестве возможных последствий противоправного поведения в финансовой системе, заключающегося в нарушении специальных требований в виде обязанностей и запретов (правил финансовой безопасности), можно выделить применяемые к субъектам различные по своему содержанию санкции118, в том числе санкции наказания (ответственности), санкции восстановления и санкции безопасности (гражданско-правового, административного, уголовного или дисциплинарного характера)119.
С учетом изложенного и в зависимости от степени общественной опасности противоправная деятельность в финансовой системе может быть выражена в следующих формах:
– финансово-правовые проступки, совершение которых влечет применение санкций наказания имущественного характера (штраф), санкций восстановления и (или) санкций безопасности;
– административные правонарушения, посягающие на финансовые отношения и влекущие применение наказания (ответственности), предусмотренного законодательством об административных правонарушениях, с применением иных санкций (восстановления, безопасности) либо без такового;
– преступления, посягающие на финансовые отношения и влекущие применение санкций наказания (ответственности), предусмотренных уголовным законодательством, с применением санкций восстановления или санкций безопасности либо без такового.
Особенностью финансово-правовых проступков является то, что зачастую данные нарушения специальных требований финансового законодательства могут выступать источниками опасности для финансовой системы и при отсутствии признаков правонарушения.
Например, в случае совершения деяний, затрагивающих охраняемые финансовым законодательством отношения, при отсутствии необходимости установления вины субъекта к наступившему противоправному результату120, а также если их совершение не влечет применения мер юридической ответственности. Полагаем, что последнее может быть вызвано не только несовершенством юридической техники, включающим недостаточное внимание законодателя к конкретному виду источника опасности121, но и объективными обстоятельствами.
Так, признание той или иной противоправной деятельности источником опасности и определение санкций за нарушение установленных требований обусловлено в том числе необходимостью осуществления предупредительного воздействия угрозе причинения вреда, вызванной таким источником опасности. В связи с чем, если совершены противоправные деяния, к субъектам финансовых отношений в ряде случаев целесообразно применение в первую очередь иных санкций, направленных на предупреждение или пресечение дальнейшего причинения вреда (санкций безопасности) или на восстановление нарушенного права (санкций восстановления) при отсутствии оснований для реализации мер ответственности. Например, при нарушении требований законодательства, определенных ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банку России предоставлено право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений (санкции восстановления) либо ограничивать проведение отдельных операций (санкции безопасности)122.
Административные правонарушения, посягающие на финансовые правоотношения, относятся к источникам повышенной опасности для финансовой системы. Составы данных деяний преимущественно содержатся в гл. 15 КоАП РФ, именуемой «Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг…», и гл. 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)». Однако отдельные нормы, регулирующие ответственность за посягательства на финансовые отношения, располагаются и в иных главах данного нормативно-правового акта. Так, административная ответственность за нарушение порядка финансирования деятельности политических партий предусмотрена ст. 5.64–5.66 КоАП РФ, за незаконное получение кредита (не влекущее причинения крупного ущерба) – ст. 14.11 КоАП РФ, за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), – ст. 19.4 КоАП РФ, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) – ст. 19.4.1 КоАП РФ и т. д.
Противоправные деяния, посягающие на финансовые отношения и обладающие признаками преступления, образуют группу источников особой опасности123 для финансовой системы государства124.
В действительности формальный подход, в соответствии с которым деятельность, представляющая повышенную опасность, находит выражение в составах административных правонарушений, а особую опасность – исключительно в качестве объективной стороны составов преступлений, не всегда соответствует фактически сложившимся общественным отношениям.
Традиционно различие между преступлениями и иными правонарушениями, в том числе предусмотренными КоАП РФ, проводится по показателям, характеризующим общественную опасность, а именно по ее характеру и степени. При этом необходимо согласиться с точкой зрения авторов, отмечающих тот факт, что общественной опасностью характеризуются не только преступления, но и любые правонарушения125. И если дисциплинарные проступки и деликты гражданско-правового характера с учетом принципиальной разницы в объектах охраны существенно отличаются от преступлений и административных правонарушений по своей качественной характеристике – характеру общественной опасности, то последние, как правило, различаются между собой лишь по степени общественной опасности, то есть по количественной характеристике правонарушений.
Так, действующая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях содержит целый ряд бланкетных диспозиций, предусматривающих составы административных правонарушений, связанные по объективной стороне с различными составами преступлений. Маркером таких норм служит формулировка «…если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния». При этом соответствующая связь между административным правонарушением и конкретным преступлением зачастую может быть выявлена лишь в результате системного анализа уголовного законодательства и в правоприменительной практике представляется не всегда очевидной, следствием чего может являться неправильная квалификация действий виновного.
Применительно к финансовым отношениям такого рода составы административных правонарушений предусмотрены, прежде всего, гл. 14, 15, 16 КоАП РФ, например ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ, которые соотносятся с преступлениями, предусмотренными ст. 195, 196, 197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и преднамеренное банкротство), ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ и ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение денежных средств граждан – участников долевого строительства), ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ и ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств), ст. 15.14 КоАП РФ и ст. 285.1 УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств), ст. 15.17, 15.18, 15.19 (ч. 1), 15.21, 15.24.1, 15.30 КоАП РФ и ст. 185–187 УК РФ (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; ненадлежащее исполнение обязанности о предоставлении и раскрытии информации на финансовых рынках; неправомерное использование инсайдерской информации; манипулирование рынком и пр.), ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств) и ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).
Подобного рода «смежные» составы, связанные с финансовой безопасностью государства, закреплены и в других главах Кодекса РФ об административных правонарушениях, например ст. 5.18, 5.19, 5.20 КоАП РФ (нарушения законодательства о финансировании выборов) и ст. 141.1 УК РФ (нарушение порядка финансирования избирательной компании), ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и ст. 145.1 УК РФ (несвоевременная выплата заработной платы), ст. 19.7.3 КоАП РФ (непредоставление информации в Банк России) и ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) УК РФ126 и другие.
Анализ приведенных правонарушений позволяет сделать вывод о том, что основным признаком, отграничивающим «объект повышенной охраны» от «объекта особой охраны», выступает, в первую очередь, количественный показатель (степень) общественной опасности, а именно размер причиненного вреда (ущерба), извлеченного от незаконной деятельности дохода, сокрытых денежных средств и пр.
В отдельных случаях, как например в ст. 145.1 УК РФ (в отличие от ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), предусмотрен «смешанный» показатель, сочетающий объем невыплаченных денежных средств, повторность деяния, а также особый мотив – «корыстная или иная личная заинтересованность», что, в сущности, является проявлением той же степени общественной опасности.
Кроме того, особенности конструкции отдельных составов административных правонарушений позволяют выявить ряд общих закономерностей с уголовно-правовыми нормами, что указывает на наличие в административном законодательстве замаскированных «составов преступлений», совершаемых юридическими лицами.
Во-первых, не вызывает сомнения, что целью многих из вышеуказанных составов административных правонарушений (особенно в случае совершения их юридическими лицами с причинением крупного ущерба) и преступлений является противодействие угрозам безопасности особого порядка, связанным с нарушениями в финансовой сфере, при этом уголовная ответственность физических лиц и административная ответственность лиц юридических наступает за совершение одних и тех же действий.
Во-вторых, обращает на себя внимание размер применяемых в отношении юридических лиц штрафных санкций: например, по ст. 14.28 (ч. 1), 14.62 (ч. 1), 15.24.1, 15.27 (ч. 4) КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн руб., а по ст. 15.27.1 КоАП РФ – от 10 до 60 млн руб. Причем на данный момент по ряду преступлений, совпадающих по объективной стороне с административными правонарушениями, предусмотренный уголовным законом размер штрафа даже ниже аналогичного наказания за совершение юридическим лицом соответствующего деяния, предусмотренного КоАП РФ, что противоречит концепции признания административных правонарушений менее опасными, чем преступлений, и, соответственно, наказуемыми менее строго.
При этом предусмотренные штрафные санкции с учетом характера и последствий совершенного административного правонарушения, степени вины юридического лица, его имущественного и финансового положения, а также иных значимых обстоятельств, в целях обеспечения назначения справедливого административного наказания могут быть уменьшены ниже низшего предела или заменены на предупреждение, что соответствует также уголовно-правовым принципам соразмерности наказания.
О взаимосвязи общественной опасности преступлений и административных правонарушений свидетельствует и отсутствие в российском законодательстве института уголовной ответственности юридических лиц. Очевидно, что совершение организацией правонарушения, в том числе имеющего отдельные признаки преступления, влечет в отношении нее исключительно административную ответственность.
С учетом того, что субъектами финансовых отношений в большинстве случаев являются юридические лица, факты привлечения организаций к административной ответственности в связи с осуществлением ими противоправной деятельности носят весьма распространенный характер. Так, если объективная сторона совершаемого физическим лицом деяния в силу повышения степени общественной опасности образует уже признак уголовно-наказуемого деяния, юридическое лицо за те же действия продолжает нести административную ответственность.
В сложившейся правоприменительной ситуации целесообразно было бы ввести специальные «квалифицированные» административные составы в отношении исключительно юридических лиц, указывающие на то, что данные деяния характеризуются бо́льшей общественной опасностью, а объекты данных правонарушений являются объектами особой охраны.