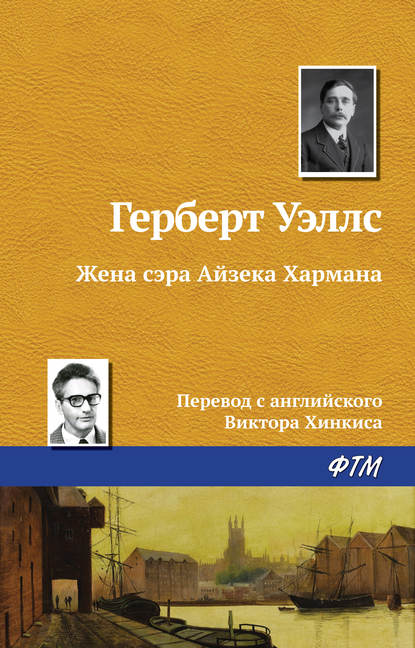© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
* * *
Глава первая
Знакомство с леди Харман
1
Автомобиль въехал в маленькие белые ворота и остановился у крыльца, над которым густо сплелись зеленые кудри жасмина. Шофер мотнул головой, словно хотел сказать: ну вот, приехали наконец. Высокая молодая женщина с большим нежным ртом, пышными иссиня-черными волосами, почти совсем закрывавшими широкий лоб, и карими глазами, такими темными, что они казались почти черными, слегка наклонилась вперед, окинув дом тем восхищенным и проникновенным взглядом, который у людей сдержанных выражает порой смутное еще желание…
Маленький домик сонно смотрел на нее из-под ставень своими окнами в белых рамах и не подавал никаких признаков жизни. За углом его виднелась лужайка и клумба дельфиниума, из-за которой доносилось тарахтение тачки.
– Кларенс, – сказала женщина уже не в первый раз.
Кларенс, всем своим видом давая понять, что это не входит в его обязанности, соблаговолил все же ее услышать, вышел из автомобиля и подошел к дверям дома.
– Кларенс, может быть… вы поищете звонок…
Кларенс бросил на дверь неприязненный взгляд, ясно показывавший, что, по его мнению, она ни к черту не годится, хотел было что-то возразить, но повиновался. Повиновался с таким видом, будто был уверен, что вслед за этим его заставят варить яйца или тачать башмаки. Он нашел звонок и дернул его слишком сильно, как и следовало человеку, который не обучен звонить в звонки. С какой стати ему это уметь? Ведь он шофер. Звонок не зазвонил, а, можно сказать, взорвался, и его звуки наводнили дом. Звон вырвался наружу из окон и даже из труб. Казалось, он никогда не умолкнет…
Кларенс подошел к автомобилю и поднял капот, заранее демонстративно повернувшись спиной ко всякому, кто выйдет на звонок. Как-никак он не лакей. Ладно уж, так и быть, он позвонил, а теперь ему надо заняться мотором.
– Ох, как громко! – беспомощно сказала женщина, обращаясь, по-видимому, к Господу Богу.
За изящными белыми колоннами отворилась дверь, и на крыльцо вышла маленькая красноносая старушка в чепце, который, видимо, надела наспех, не посмотревшись хорошенько в зеркало. Она бросила на автомобиль и на пассажирку недружелюбный взгляд поверх очков, сдвинутых, как и чепец, набок.
Женщина в автомобиле помахала розовой бумажкой – это был смотровой документ от агента по продаже недвижимости.
– Скажите, пожалуйста, это Блэк Стрэндс? – спросила она.
Старушка медленно подошла, враждебно глядя на розовую бумажку. Двигалась она осторожно, словно подкрадывалась.
– Это Блэк Стрэндс? – снова повторила женщина. – Может быть, я не туда попала, тогда простите, пожалуйста, за беспокойство, за этот громкий звонок и за все прочее. Не думайте…
– Блэк Стрэнд, – поправила старушка таким тоном, словно хотела пристыдить приехавшую даму, и вдруг взглянула на нее не поверх очков, а прямо сквозь стекла. Взгляд ее от этого не стал дружелюбнее, только глаза теперь казались гораздо больше. Она рассматривала даму в автомобиле, но при этом все время косилась на розовую бумажку.
– Я так понимаю, вы приехали дом осмотреть? – спросила она.
– Если только я никого не побеспокою, и если это удобно…
– Мистера Брамли нету, – сказала старушка. – А ежели у вас бумага, чего уж тут, смотрите.
– Если позволите. – Дама встала, высокая и стройная, закутанная в блестящий черный мех, – видимо, искушение боролось в ней с нерешимостью. – Очаровательный дом.
– Чистый сверху донизу, – сказала старушка. – Можете глядеть сколько душе угодно.
– В этом я не сомневаюсь, – сказала дама и, сбросив со своего гибкого, стройного тела пушистую шубу, осталась в красном платье. (Кларенс с неожиданной услужливостью открыл перед ней дверцу.) – Окна так и сияют, словно хрустальные.
– Этими вот самыми руками, – сказала старушка и посмотрела на окна, которые похвалила дама. Ее суровость сразу смягчилась, одрябла, как кожура упавшего яблока, когда оно полежит день-другой на земле. В дверях она обернулась и вдруг взмахнула рукой, как будто держала жезл. – Здесь холл, – объявила она. – Вот шляпы и трости мистера Брамли. К каждой шляпе или фуражке полагается специальная трость, и к каждой трости – специальная шляпа или фуражка, а на столе – перчатки к ним. Дверь справа ведет на кухню, а слева – в большую гостиную, там теперь кабинет мистера Брамли. – Потом, заговорив о вещах более нескромных, она понизила голос. – Вон за той дверью туалетная комната, там и умывальник.
– Здесь очень мило, – сказала женщина. – Так просторно, хоть потолок и не слишком высокий. А краски какие, просто чудо! И эти огромные итальянские картины! И какой прелестный вид открывается из окна!
– Вы еще не то скажете, когда по саду пройдете, – сказала старушка. – Миссис Брамли в нем души не чаяла. Почти все своими руками сажала. А теперь пожалуйте в гостиную, – продолжала она и открыла правую дверь, из-за которой послышался невнятный возглас, что-то вроде «А, черт!». Несколько полный, невысокий мужчина в широкой зеленовато-серой куртке, какие носили художники, стоял на одном колене у открытого окна и зашнуровывал башмак. У него было круглое, румяное, доброе и довольно приятное лицо, каштановые волосы были зачесаны набок, большой шелковый галстук бабочкой слегка сдвинут в сторону, как это принято у артистов и модных писателей. Черты лица были правильные, красивые, глаза выразительные, рот – совсем недурной формы. Сначала на лице у этого человека мелькнул лишь наивный ужас, как у робких людей, когда их застанут врасплох.
Но тотчас же в его умных глазах появилось восхищение.
Оба окинули друг друга оценивающим взглядом. Потом дама, которая с таким воодушевлением начала осматривать дом и теперь вынуждена была остановиться, извинилась и хотела уйти. (Между прочим, гостиная была просто восхитительна, вся такая веселая, а в нише у окна стояла большая белая статуя Венеры.) Она попятилась к двери.
– А я-то думала, вы вышли через балкон, сэр, – фамильярно сказала старушка и хотела было закрыть дверь, что прервало бы наш роман перед самой завязкой.
Но он окликнул ее, прежде чем она успела это сделать.
– Простите… Вы осматриваете дом? – спросил он. – Одну секунду. Позвольте, миссис Рэббит.
Он прошел через комнату, позабыв про шнурки, которые с неприличным шумом волочились по полу. Дама подумала, что совсем не так уж давно, в школьные годы, она не преминула бы ответить на такой вопрос: «Нет, гуляю вниз головой по Пикадилли», – но вместо этого она снова помахала розовой бумажкой.
– Агенты очень рекомендовали ваш дом, – сказала она. – Простите, что я врываюсь к вам вот так, без предупреждения. Конечно, мне следовало бы сначала написать, но я решила приехать неожиданно для самой себя.
Однако мужчина в галстуке, какие носили ценители искусства – а у него был и глаз ценителя, – уже заметил, что дама молода, восхитительно стройна, очень мила или даже красива – этого он пока еще не определил – и на редкость элегантно одета.
– Я очень рад, что не ушел, – сказал он с удивительной решимостью. – Я сам покажу вам дом.
– Помилуйте, сэр, как можно? – возразила старушка.
– Ну вот! Показать дом! Что ж тут такого?
– Кухня… вы ничего не понимаете в плите, сэр – где уж вам! И потом – верхний этаж. Не можете же вы показать этой леди верхний этаж.
Хозяин дома поразмыслил обо всех этих затруднениях.
– Ну хорошо, я покажу все, что можно. И тогда, миссис Рэббит, милости прошу. А пока вы свободны.
– Боюсь, что ежели вы сейчас не пойдете на прогулку, то после чая совсем расклеитесь, – сказала миссис Рэббит, скрестив на груди жесткие маленькие руки и сурово глядя на него.
– Встретимся на кухне, миссис Рэббит, – твердо сказал мистер Брамли, и миссис Рэббит после короткой внутренней борьбы удалилась с недовольным видом.
– Мне не хотелось бы вас затруднять, – сказала дама. – Ведь я ворвалась без предупреждения. Надеюсь, я вас не обеспокоила… – Казалось, она хотела этим ограничиться, но не удержалась и добавила: – …не обеспокоила слишком сильно. В противном случае скажите мне прямо, прошу вас.
– Ничуть, – сказал мистер Брамли. – Не выношу эти дневные прогулки, как арестант не выносит свой подневольный труд.
– Какая она милая, эта старушка!
– Она заменяет нам мать и теток – с тех самых пор, как умерла моя жена. Поступила к нам, как только мы поженились. Весь этот дом, – объяснил он, поймав вопросительный взгляд гостьи, – создала моя жена. Когда-то это был ничем не примечательный домик на опушке вон того соснового леса – его предложил нам торговый агент. Ей понравилась планировка и этот холл. Конечно, мы его расширили. Вдвое. Здесь были две комнаты, поэтому и осталась приступка посередине.
– А окно с нишей?
– Это тоже она устроила, – сказал мистер Брамли. – Здесь всюду видны ее вкусы. – Он помолчал в нерешимости и снова заговорил. – Обставляя дом, мы полагали, что дела наши будут лучше… чем потом оказалось… и она могла дать волю фантазии. Многое тут привезено из Голландии и Италии.
– Какое чудесное старинное бюро с одной-единственной розой в вазочке!
– Это все она. Можно сказать даже, что и цветок она поставила. Конечно, время от времени его меняют. Это делает миссис Рэббит. Моя жена сама всему обучила миссис Рэббит.
Он тихонько вздохнул, видимо, подумав еще что-то о миссис Рэббит.
– И вы… вы пишете?.. – Дама помолчала, потом изменила свой вопрос, который, видимо, показался ей слишком прямым: – Вы пишете за этим бюро?
– Очень часто. Я, так сказать… немножко писатель. Быть может, вам попадались на глаза мои книги. Это не бог весть какие шедевры, но иногда их все же читают.
Румянец на ее щеках стал гуще. В маленькой головке лихорадочно застучала мысль: «Брамли? Брамли?» И наконец мелькнул спасительный луч.
– Неужели вы Джордж Брамли? – сказала она. – Тот самый Джордж Брамли?
– Да, я Джордж Брамли, – ответил он скромно, но не без гордости. – Быть может, вы видели мои книжечки о Юфимии? Их до сих пор читают больше всего.
Она лицемерно пробормотала что-то, подтверждая его слова, и покраснела еще сильней. Но в это мгновение собеседник смотрел на нее не слишком пристально.
– Юфимия – это моя жена, – сказал он. – Или, во всяком случае, моя жена дала мне этот образ, вдохнула его в меня. – А это, – он понизил голос в неподдельном благоговении перед литературой, – был дом Юфимии.
– Я и сейчас еще пишу, – продолжал он. – Пишу о Юфимии. Не могу иначе. Здесь, в этом доме… где жива память о ней… Но это уже мучительно, просто невыносимо. Как ни странно, теперь это еще мучительней, чем вначале. И я хочу уехать. Хочу наконец порвать со всем этим. Вот почему я решил сдать или продать дом… пусть не будет больше Юфимии…
Он умолк.
Она окинула взглядом длинную светлую комнату с низким потолком, так уютно и удобно обставленную; белые стены, голландские часы, голландский шкаф, изящные кресла у камина, удобное бюро, окно, выходившее в сад, на солнечную сторону; во всем ощущалась страстная жажда жизни, и она остро почувствовала бренность всего сущего. Ей представилась женщина, такая же, как она, – только гораздо, гораздо умнее, – она старалась, обставляла комнату. А потом исчезла, превратилась в ничто. И оставила этого несчастного человека на попечении миссис Рэббит.
– Вы говорите, она умерла? – Дама мягко посмотрела на него своими темными глазами, и ее тихий голос прозвучал мило и естественно.
– Да, вот уже три с половиной года, – ответил мистер Брамли. Он подумал. – Почти день в день.
Он замолчал, и она тоже сочувственно молчала.
А потом он вдруг оживился, ободрился, стал очень деловитым. Он снова вывел ее в холл и начал объяснять:
– Тут у нас не только холл, но и столовая. Если мы не едим на веранде, то стол накрывают вот здесь, у этой стены. Дверь направо ведет в кухню.
Она снова обратила внимание на длинные, красочные, монументальные полотна, которые понравились ей с самого начала.
– Это копии с двух картин Карпаччо, изображающих подвиги святого Георгия, подлинники находятся в Венеции, – сказал он. – Мы купили их, когда вместе ездили туда. Но вы, без сомнения, видели подлинники. Помните, в маленьком старом домике, совсем темном, там же живет хранитель. Это один из уголков, где так много чудесного своеобразия, столь, мне кажется, характерного для Венеции. А ваше мнение?
– Я никогда не была за границей, – сказала она. – Ни разу. Мне очень хотелось бы поехать. А вы и ваша жена, наверное, часто там бывали.
На миг он удивился, что такая красивая женщина никогда не путешествовала, но ему так хотелось показать себя в самом лучшем свете, что он не стал об этом задумываться.
– Да, несколько раз, – сказал он. – Пока не родился наш мальчик. И мы всегда привозили что-нибудь для дома. Вот взгляните! – Он перешел красивый мощенный кирпичом дворик, остановился на изумрудной лужайке и повернулся к дому. – Вон тот рельеф делла Роббиа мы привезли из самой Флоренции, а маленький каменный бассейн, в котором купаются птицы, – из Сиены.
– Как красиво! – сказала она, молча полюбовавшись мрамором. – Просто изумительно. Кажется, даже если солнце зайдет, он все равно будет весь сверкать.
И она принялась восторгаться домом и садом, уверяя, что, как ни расхваливал их агент, на деле все оказалось еще лучше. А ведь стоит ей только захотеть, все это будет ее, стоит только захотеть!
Мелодичный голос, не очень сильный для ее роста, но необычайно приятный, чистый и нежный, как птичка, порхал по саду. Был погожий, тихий день; даже невидимая тачка перестала тарахтеть и словно прислушивалась…
Одна только мелочь портила их непринужденную прогулку: его шнурки так и остались незавязанными. Он никак не мог улучить минутку, чтобы нагнуться и зашнуровать башмаки. Обычно, нагибаясь, он кряхтел, сетовал на головокружение и с трудом попадал в петли. Он надеялся, что этот беспорядок в его туалете останется незамеченным. Указывая дорогу очаровательной гостье, он все время ловко держался чуточку позади. А гостья боялась, что ему будет неприятно, если она заметит эту небрежность его туалета и предложит ему без стеснения привести себя в порядок. Шнурки были довольно длинные, кожаные, они упорно волочились по земле, радуясь свободе, ни с чем не считаясь, точно какой-нибудь невежа, который насвистывает игривую песенку в древнем храме; «шлеп-шлеп, хлоп-хлоп» выстукивали они в свое удовольствие, и порой мистер Брамли, наступив на один из них, вдруг останавливался, а порой она чувствовала, что он никак не может приноровиться к ее шагу. Но человек ко всему приспосабливается, и вскоре оба они, привыкнув к этим неудобствам, почти перестали их замечать. Они относились к шнуркам так, как воспитанные люди относились бы к тому невеже, – тактично не обращали на них внимания, подчеркнуто их игнорировали…
В саду было много такого, о чем люди часто мечтают, но дальше этого дело обычно не идет. Там был цветущий розарий с колонками и арками из роз – целый каскад роз, словно высыпавшихся из рога изобилия, – тщательно ухоженные плодовые деревья, стволы которых были побелены ровно до половины, каменная стена, увитая лимоном, а на веревке сушились синие и белые фланелевые рубашки мистера Брамли, такие яркие, что они казались неотъемлемой принадлежностью сада. Кроме того, там была широкая куртина вечнозеленых трав, с дельфиниумом и аконитами, которые уже расцвели, и с мальвами, на которых распускались бутоны; куртина казалась еще красочней на фоне холма, поросшего темными соснами. Этот чудесный сад не был обнесен изгородью; он переходил прямо в сосновый бор, и только невидимая сетка отмечала границы сада и оберегала его от любопытных кроликов.
– Весь этот лес наш, до самой вершины холма, – сказал он. – А оттуда открывается прекрасный вид на две стороны. Не угодно ли вам…
Она объяснила ему, что для того и приехала, чтобы увидеть как можно больше. Это желание так и светилось на ее лице. И он, перекинув через руку ее боа, зашлепал вверх по склону. «Шлеп-шлеп-шлеп». Она застенчиво пошла следом.
– Я могу показать вам только вид в эту сторону, – сказал он, когда они добрались до вершины. – С той стороны было еще лучше. Но ее испортили… Ах, эти холмы! Я знал, что они вам понравятся. Какой простор! И… все же… тут не хватает сверкающих прудов. А там, вдали, есть чудесные пруды. Нет, я должен показать вам и ту сторону. Но там проходит шоссе, и теперь появилась эта гадость. Пройдемте сюда. Вот. Пожалуйста, не смотрите вниз. – Он жестом как бы зачеркнул передний план. – Смотрите прямо поверх всего этого, вдаль. Вон туда!
Она оглядела пейзаж с безмятежным восхищением.
– Не вижу, – сказала она. – Пейзаж нисколько не испорчен. Это – само совершенство.
– Не видите! Ах! Вы смо́трите выше. Поверху. Если бы я мог так! Но какая кричащая реклама! Хоть бы этот человек подавился своими корками!
И в самом деле, прямо под ними, у поворота шоссе, была установлена реклама питательного хлеба, восхвалявшая этот животворный продукт, который продается только «Международной хлеботорговой компанией»; яркая желтизна и берлинская лазурь так и лезли в глаза, опошляя пейзаж.
Дама с недоумением взглянула туда, куда он указывал пальцем.
– А! – сказала вдруг она таким тоном, словно поняла, что совершила ужасную глупость, и слегка покраснела.
– По утрам это выглядит еще ужасней. Солнце светит прямо на нее. И уж тогда пейзаж совсем испорчен.
Некоторое время она молчала, глядя на дальние пруды. А потом он заметил, что она покраснела. Она повернулась к нему, как ученик, не выучивший урока, к учителю.
– Но ведь это действительно очень хороший хлеб, – сказала она. – Его делают… Право же, его делают наилучшим образом. Добавляют в тесто тонизирующие вещества. И надо ведь, чтобы люди об этом знали.
Услышав это, он удивился. Он был уверен, что она покорно с ним согласится.
– Но рекламировать его здесь! – сказал он.
– Да, пожалуй, здесь не место.
– Не хлебом единым жив человек.
Она едва слышно согласилась.
– Это дело рук одного ловкача по фамилии Харман. Вы только представьте себе его! Только вообразите! Вы не чувствуете, что он незримо здесь присутствует и портит все? Это какая-то куча, гора теста, он ни о чем не способен думать, кроме своих презренных, жирных барышей, не находит в жизни никакой прелести, не видит красоты мира, ничего, кроме того, что кричит, бросается в глаза, помогает ему торжествовать над его несчастными конкурентами и несет нам вот это! Перед вами квинтэссенция всей мировой несправедливости, грязное, бесстыдное торгашество! – Потом вдруг мысль его приняла иное направление. – И подумайте только, четыре или пять лет назад этого осквернителя пейзажей наградили титулом баронета!
Он посмотрел на нее, ожидая сочувствия, и тут в голове у него мелькнула догадка. Мгновение назад он ничего не подозревал и вдруг понял все.
– Видите ли, – поспешно сказала она, как будто он вскрикнул от охватившего его ужаса, – сэр Айзек – мой муж. Конечно… я должна была сразу назвать себя. Как глупо с моей стороны…
Мистер Брамли бросил на рекламу отчаянный взгляд, но ни единым словом не смягчил свое суждение. Это была низменная реклама низменного товара, низменно, с претензией преподнесенная.
– Дорогая моя леди, – сказал он в самом возвышенном стиле, – я в отчаянии. Но слово не воробей… Это очень некрасивая реклама. – Он вспомнил, какие употреблял выражения. – Умоляю вас простить мне некоторые… слишком сильные слова.
Он отвернулся, словно решив не замечать больше рекламу, но дама, слегка нахмурив брови, продолжала рассматривать этот объект его нападок.
– Да, некрасивая, – сказала она. – Я иногда об этом думала… Некрасивая…
– Умоляю вас забыть мой порыв, мое невольное раздражение, вызванное, вероятно, тем, что я особенно люблю вид, который открывается отсюда. Это все… воспоминания…
– Как раз недавно я задавала себе вопрос, – продолжала она, словно размышляя вслух, – что́ люди об этом думают. И вот любопытно было услышать…
Оба замолчали. Она рассматривала рекламу, а он – ее высокую фигуру, замершую в непринужденной позе. И он подумал, что никогда в жизни не видал еще такой красоты. Пусть хоть вся округа покроется рекламами, если благодаря им здесь появилась такая женщина. Он чувствовал необходимость что-то сказать, как-то исправить положение, но не знал, как быть, его умственные способности отказывались служить ему и словно целиком обратились в зрение, а она тем временем снова заговорила с искренностью человека, который думает вслух.
– Видите ли, – сказала она, – многое узнается слишком поздно. Правда, кое-что подозреваешь… и вот… когда девушка выходит замуж совсем юной, она многое склонна принимать как должное. А потом…
«Как много она сказала, не сказав почти ничего!» – подумал он, все еще не находя спасительной фразы. А она продолжала свою мысль:
– Эти рекламы видишь так часто, что наконец перестаешь замечать.
Она снова повернулась к дому; он радовал глаз яркими полосами меж красноватыми стволами сосен. Она смотрела, подняв голову, с безмолвным одобрением, – стройное, очаровательное создание, полное достоинства – а потом наконец заговорила так, будто никакой рекламы и в помине не было.
– Здесь словно уголок какого-то иного мира; такой веселый и такой… прекрасный.
Она сказала это с едва заметным вздохом.
– Надеюсь, вам понравится наш грот, – его мы особенно старались украсить. Из каждой заграничной поездки мы привозили что-нибудь – семена заячьей капусты, или альпийских цветов, или какую-нибудь луковицу, выкопанную у дороги.
– И вы можете расстаться со всем этим!
Он хотел расстаться со всем этим, потому что все это надоело ему до смерти. Но так уж сложно устроен человеческий ум, что мистер Брамли ответил с полнейшей искренностью:
– Я буду очень тосковать… Но мне необходимо уехать.
– Ведь вы здесь так долго жили, здесь написали почти все свои книги!
Уловив сочувствие в ее голосе, он заподозрил, что она думает, будто он продает дом из-за бедности. Если писатель беден, значит, он не популярен, а мистер Брамли ценил свою популярность – разумеется, в избранном кругу. Поэтому он поспешил объяснить ей причины своего отъезда.
– Я вынужден сделать это, потому что ни я, ни мой сын не можем здесь жить полной жизнью. Слишком много воспоминаний связано с этим домом, где мы достигли идеала красоты. Сына уже нет здесь, он учится в приготовительной школе в Маргейте. И я чувствую, что для нас лучше, здоровее уехать совсем, хотя мы будем тосковать. Конечно, для нового хозяина все будет иначе, но для нас здесь все исполнено воспоминаний, от которых нам не избавиться никогда, до самой смерти. Здесь все неизменно. А жизнь, знаете ли, это сплошные перемены, перемены и движение вперед.
После этого обобщения он многозначительно замолчал.
– Но вы, наверно, хотите… хотите, чтобы дом попал в руки… людей, которые могут вам сочувствовать. Людей… – она запнулась, – которые поймут…
Мистер Брамли сделал решительный шаг – разумеется, только на словах.
– Поверьте, я никого так не хотел бы видеть в этом доме, как вас, – сказал он.
– Ну что вы… – запротестовала она. – Ведь вы меня совсем не знаете!
– Есть вещи, которые узнаешь сразу, и я уверен, что вы… все поймете так, словно мы знаем друг друга двадцать лет. Вам это может показаться нелепым, но когда я поднял голову и в первый раз вас увидел, я подумал: вот она, новая хозяйка. Это ее дом… Тут не может быть сомнений. Вот почему я пошел не на прогулку, а с вами.
– И вы в самом деле хотите, чтобы мы сняли этот дом? – спросила она. – Не передумали?
– Лучшей хозяйки я не мог бы пожелать, – сказал мистер Брамли.
– Несмотря на эту рекламу?
– Пускай их будет хоть сотня, я отдаю вам дом…
«Мой муж, конечно, согласится, – подумала леди Харман. Она заставила себя отбросить мрачные мысли. – Я как раз мечтала о чем-нибудь таком, без вульгарной пышности. Сама я не сумела бы такое создать. Ведь это не каждый может – создать дом…»
2
Весь их дальнейший разговор показался мистеру Брамли воплощением чудесного сна. Оживленно болтая, он вскоре снова обрел непринужденность и уверенность в себе, в душе у него ликовали десятки тщеславных демонов, восхваляя его за чуткость, за то, что он решительно отказался уйти на прогулку. А случай с рекламой теперь каким-то удивительным образом казался просто невероятным; он чувствовал, что ничего этого не было, а если было, то совсем не так. Во всяком случае, сейчас ему недосуг было раздумывать об этом. Он повел гостью к двум маленьким оранжереям, обратил ее внимание на то, как ярки осенние краски куртины, а потом они направились к гроту. Наклонившись, она ласково гладила и, казалось, готова была целовать нежные головки заботливо выращенных камнеломок; она оценила хитроумное приспособление для мхов – там же росла росянка; опустилась на колени перед горечавками; у нее нашлось доброе слово для этого праздничного уголка, где запоздало цвела «Гордость Лондона»; она ахнула, увидя нежные исландские маки, которые пробивались меж грубыми камнями мощеной дорожки; так, довольные друг другом, они дошли до скамейки, стоявшей на возвышении, в самом сердце сада, присели и одним взглядом окинули все: дальний лес, густые куртины, аккуратно подстриженную лужайку, еще аккуратнее обработанный плодовый сад, увитую зеленью беседку, прелестные цветы среди камней, шпиль над сверкавшим белизной домом, створчатые окна, высокий мезонин, тщательно подогнанную старую черепицу на крыше. И все это купалось в ласковом свете солнца, которое не палило и не обжигало, а золотило и приятно согревало кожу – в свете того летнего солнца, какое знают лишь северные острова.
Мистер Брамли, оправившись от удивления и неловкости, снова стал самим собой, сделался разговорчивым, интересным, тонким и слегка язвительным. Это был тот редкий случай, когда можно без преувеличения употребить избитое выражение: он был очарован…
Мистер Брамли принадлежал к числу тех непосредственных людей с пылким воображением, для которых женщины – самое интересное в нашем огромном мире. Это был превосходный человек и, можно сказать, профессиональный поборник добродетели, своим пером он поддерживал нерушимость домашнего очага, был враждебен и даже решительно враждебен всем влияниям, которые могут подорвать или изменить что бы то ни было; но женщины влекли его к себе. Они постоянно занимали его мысли, он любил смотреть на них, бывать в их обществе, всячески старался доставить им удовольствие, заинтересовать их, втайне часто о них мечтал, любил покорять их, пленять своим умом, дружить с ними, обожать их и чтобы они его обожали. Порой ему приходилось себя обуздывать. Порой, чтобы скрыть свое пылкое нетерпение, он становился странным и замкнутым… К представителям своего пола он был более или менее безразличен. Словом, это был мужчина в полном смысле слова. Даже такие отвлеченные понятия, как добродетель и справедливость, представлялись ему в образах очаровательных женщин, и когда он брался за перо, чтобы написать критическую статью, то его вдохновляла красивая фигурка дельфийской сивиллы.
Так что за каждым движением леди Харман следил изощренный, очень внимательный глаз, и опытное ухо ловило каждое слово, каждую нотку ее голоса, когда она изредка открывала рот, чтобы принять участие в беседе. В обществе мистер Брамли пользовался преимуществами популярного и светского писателя, и ему приходилось иметь дело с самыми разными женщинами; но он еще не встречал ни одной, хоть в малейшей степени похожей на леди Харман. Она была прелестная и совсем еще юная; он не дал бы ей даже двадцати четырех лет; она держалась с такой простотой, как будто была гораздо моложе, и с таким достоинством, как будто была гораздо старше; и потом, ее окружал ореол богатства… Такими бывают иногда молодые еврейки, вышедшие замуж за богачей, но, несмотря на очень темные волосы, леди Харман была совсем не еврейского типа; ему подумалось, что она, вероятно, родом из Уэльса. О ее выскочке муже напоминало только одно – она явно платила бешеные деньги за самые дорогие, красивые и изысканные вещи; но это никак не сказывалось на ее манерах, таких спокойных, скромных и сдержанных, что лучше трудно себе представить. Что же до мистера Брамли, то он любил богатство и на него произвели впечатление меха, стоившие целую кучу гиней…
Вскоре он уже сочинил коротенькую историю, которая была недалека от истины: отец, вероятно, умер, небогатая семья, едва сводившая концы с концами, брак по расчету лет в семнадцать, и вот…
Пока глаза и мысли мистера Брамли были заняты всем этим, язык его тоже не бездействовал. Мистер Брамли играл свою роль с искусством, приобретенным за многие годы. Делал он это почти бессознательно. Он сыпал намеками, как бы нечаянными откровенностями и случайными замечаниями с небрежной уверенностью опытного актера, и постепенно в ее воображении возникла картина: молодые влюбленные, изысканные, счастливые – в них есть что-то от богемы, и одному из них суждено умереть, они живут вместе среди лучезарного счастья…
– Наверное, чудесно было начать жизнь вот так, – сказала или, вернее, вздохнула она, и у мистера Брамли мелькнула радостная мысль, что эта прелестная женщина завидует его Юфимии.
– Да, – сказал он, – по крайней мере у нас была своя Весна.
– Жить вместе и в такой восхитительной бедности… – сказала она.
В отношениях между людьми, каковы бы они ни были, неизбежно наступает минута, когда нельзя обойтись без обобщений. Мистер Брамли, довольно искушенный в таких разговорах с женщинами, утратил свежесть чувств. Во всяком случае, он, не поморщившись, изрек:
– Жизнь порой так удивительна!
Леди Харман помолчала немного и отозвалась задумчиво, словно припоминая что-то.
– Да, конечно.
– Когда теряешь самое ценное, кажется, что невозможно жить дальше, – сказал мистер Брамли. – И все-таки живешь.
– А у других ничего ценного и нет… – проговорила леди Харман.
И замолчала, почувствовав, что сказала слишком много.
– В жизни есть какое-то упорство, – сказал мистер Брамли и остановился, словно на краю пропасти.
– По-моему, главное – надеяться, – сказала леди Харман. – И не думать. Пусть все идет своим чередом.
– Пусть все идет своим чередом, – согласился мистер Брамли.
На некоторое время они оба задумались об одном, как две бабочки, играя, садятся на один цветок.
– Вот я и хочу уехать отсюда, – снова заговорил мистер Брамли. – Сначала поживу с сыном в Лондоне. А потом, когда его отпустят на каникулы, мы, пожалуй, отправимся путешествовать: поедем в Германию, в Италию. Когда он со мной, мне кажется, что все как бы начинается сначала. Но и с ним мне придется расстаться. Рано или поздно я должен буду отдать его в закрытую школу. Пускай изберет собственный путь…