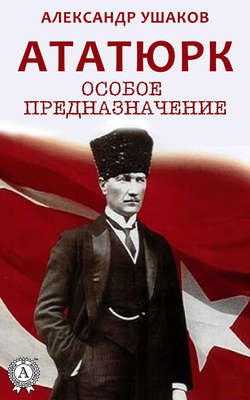
000
ОтложитьЧитал
Глава III
Получив на подкуп шейхов кругленькую сумму в тысячу золотых лир, Кемаль отправился в Африку и на глазах у изумленного шейха в клочья порвал правительственные бумаги.
Пораженный таким необычным началом араб удостоил эмиссара Порты долгим внимательным взглядом, в котором уже сквозило нечто похожее на интерес, и… согласился свернуть военные действия.
Как утверждали немногие свидетели этой сцены, Кемаль и на самом деле был неотразим, и все же куда большее впечатление на шейха произвело привезенное им золото.
Ободренный таким началом, Кемаль поспешил в Бенгази, где бунтовал другой могущественный шейх – Мансур.
Он и там попытался было пустить в ход то же оружие, но не тут-то было/
Мансур остался совершенно равнодушным и к его красноречию, и к предложенной ему взятке.
Понимая, что для этого сделанного из железа воина нужны совсем другие аргументы, Кемаль сменил тактику и под видом инспекции устроил… военный парад!
Зрелище возымело действие, и смущенный игрой мускулов Мансур заговорил о мире.
Блестяще исполнив порученное ему задание, Кемаль возвратился в Салоники и торжественно отрапортовал лидерам «Единения и прогресса» о своих успехах.
К его великому разочарованию и обиде, те даже не поблагодарили его и заткнули им очередную дыру, назначив начальником штаба Семнадцатой резервной дивизии.
И, снова отрезанному от политической жизни, ему не оставалось ничего другого, как только заняться своими прямыми обязанностями.
Но и здесь его ждало сплошное разочарование.
Все его начинания упирались в глухую стену непонимания, и он все больше убеждался в том, что до столь любимой им армии никому не было никакого дела.
Устав от бесплодных попыток пробить стену отчуждения, он решил махнуть на все рукой.
Но… не получилось…
Живший в нем дух противоречия и амбиции не отпускали, и снова началась депрессия с ее бессонными ночами, тягостными размышлениями и, конечно, ракы.
Время от времени он оживал и даже пытался поговорить с лидерами «Единения и прогресса», что называется, по душам, но тем было в те дни не до него.
Обстановка в стране осложнялась с каждым днем, и во многом в этом были виноваты они сами.
Добившись свержения самодержавия и введя турецкую буржуазию в высшие эшелоны власти, «Единение и прогресс» посчитал свою задачу выполненной.
И ошибся!
Мало того что реакция очень быстро восстанавливала свои силы, не было единства и в рядах самих младотурок.
Как это и всегда бывает в таких случаях, после победы над общим врагом главные идеологи движения разделились на два лагеря, которые придерживались различных взглядов на будущее страны.
И в то время как принц Сабахеддин выступал за децентрализацию и религиозно-национальную автономию, его противники были приверженцами строгой централизации и насильственного отуречивания народов империи.
В результате Сабахеддин создал целый ряд политических группировок, среди которых особенно выделялись «Либералы».
В своей борьбе со сторонниками «Единения и прогресса» их лидеры быстро нашли общий язык с консервативной османской бюрократией и правым крылом парламентариев.
Парламент оказался расколотым и так и не принял ни одного важного решения.
Так ничего и не сделав в социальной сфере, младотурки быстро теряли популярность у турецкого населения империи, получившего взамен сладких обещаний еще больший налоговый гнет.
Косо смотрели на них и нетурецкие народы, поскольку младотурки с непостижимой быстротой забыли все свои обещания, и на деле «политика оттоманского единства» свелась к отуречиванию других национальностей.
Печально складывались дела и во внешней политике.
После того как 5 октября Болгария объявила о своей полной независимости от султанской власти, а на следующий день Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, за считанные месяцы империя потеряла больше, нежели Абдул-Хамид за все время своего правления.
Что сразу же дало ему повод обвинить «Единение и прогресс» в «оскорблении нации и религии».
Недовольные политикой младотурок все выше поднимали голову, и Абдул-Хамид не сомневался в том, что он и на этот раз сумеет покончить с ненавистной ему конституцией.
В ход снова пошла религиозная пропаганда, и в столице начались бесконечные демонстрации учеников религиозных школ, требовавших восстановления старых порядков.
Волновались и казармы, где реакционно настроенные офицеры подстрекали солдат на выступления против новой власти.
Против иттихадистов выступили при негласной поддержке султана влиятельные мусульманские фундаменталисты, требовавшие возврата к законам шариата, сторонники партии Ахрар.
Как и всегда в подобных случаях, для решающего выступления нужен был только хороший повод, и его, конечно, нашли.
На одном из собраний одетый в офицерскую форму неизвестный убил близкого к клерикальным кругам журналиста Хасана Фетми-бея, и с быстротой молнии по столице распространились слухи о том, что это дело рук младотурок.
В ночь с 12-го на 13 апреля солдаты Первой армии и многочисленные горожане окружили парламент и потребовали немедленной отставки правительства, восстановления шариата и власти султана.
Затем озверевшая толпа штурмом взяла здание парламента и убила двух депутатов.
Общее число мятежников достигло 100 тысяч.
Началась расправа с приверженцами младотурок.
Русский посол в Стамбуле И.А.Зиновьев в одной из своих депеш сообщал, что «движение вызвано было пропагандой низшего мусульманского духовенства».
Великий везир Хусейн Хильми подал прошение об отставке, и с несказанным удовольствием султан приказал новому правительству удовлетворить требования «восставшего народа».
На великих радостях он закрыл глаза на начавшуюся в Стамбуле вакханалию, и опьяненные победой мятежники с великим знанием дела грабили столицу в течение целых двух дней.
Причем доставалось, как и всегда бывает в таких случаях, и правым и виноватым!
И все же больше всех били, конечно, не успевших бежать в Салоники младотурок.
Однако лидеры «Единения и прогресса» и не думали сдаваться на милость победителей.
За ними стояла расквартированная в Македонии Третья армия, и именно в эти дни Кемаль получил великолепную возможность проявить себя в полном блеске.
Назначенный начальником штаба созданной при его самом активном участии стотысячной «Армии действия», он двинулся в поход на мятежную столицу.
Кемаль сам дал название своей армии.
– Я, – рассказывал он, – хотел найти название, которое не задевает никого и с которым каждый может согласиться. Я выбрал слово «харекет», соответствующее французскому слову «движение», к тому же мы действительно находились в движении…
Он очень надеялся отличиться в боях и занять достойное его дарованиям место в политическом руководстве «Единения и прогресса».
19 апреля «Армия действия» вступила в пригороды Стамбула, и Кемаль от имени командующего пообещал наказать всех «преступивших через конституцию и позорящих всех честных офицеров Османской армии мятежников» и простить раскаявшихся.
В почтовом отделении, откуда он давал свои телеграммы, он познакомился с морским офицером Хусейном Рауфом, будущим командиром легендарного крейсера «Хамидие» и его соратником в борьбе за Независимость.
А затем… командование «Армии действия» возглавили командующий Третьей армией Махмут Шевкет-паша, примчавшийся на звук выстрелов из Берлина Энвер и другой герой революции майор Ниязи.
Кемаль снова оказался на вторых ролях.
Впрочем, ему в любом случае ничего не светило, так как он умудрился испортить отношения с командующим, и, как указывают некоторые документы, он был снят с должности и отослан в Салоники еще до смены руководства армией.
22 апреля члены разогнанного парламента приняли решение о смещении султана, а еще через несколько дней произошло кровопролитное сражение со стоящими на стороне султана воинскими частями.
Прекрасно организованная стараниями Кемаля «Армия действия» одержала победу и вошла в Стамбул, где встретила не менее яростное сопротивление особо рьяных защитников Абдул Хамида.
Особенно жестокие бои шли у здания правительства, где мятежники заблаговременно возвели баррикады.
Снова отличился взявший штурмом казармы бунтовщиков Энвер.
По занятию Константинополя, Махмуд Шевкет-паша окружил своими войсками дворец Йылдыз, где жил Абдул-Хамид, и прекратил все его сношения с внешним миром.
Лишенный пищи, воды и освещения, окруженный своими телохранителями и фаворитами, осыпавшими теперь его упреками, Абдул-Хамид через 2 дня выразил желание вступить в переговоры.
Вторая дивизия с боем взяла султанский дворец, и победители прошли победным маршем по столичным улицам, толкая перед собой длинную вереницу евнухов, шпионов и рабов султана.
Назначив себя военным комендантом, Махмут Шевкет-паша ввел в городе военное положение, и суды военного трибунала приступили к своей кровавой работе.
Отныне всех замеченных в сопротивлении властям ждала либо казнь, либо арест, либо ссылка.
Затем Шевкет-паша послал своих офицеров в провинции для сбора налогов.
Так под знаменем конституции и демократии армия на какое-то время установила в стране свой собственный контроль.
Окончательная развязка наступила 27 апреля, когда на совместном заседании палаты депутатов и сената в Святой Софии бывший великий везир Саит-паша зачитал столь долгожданную фетву шейх-уль-ислама о низложении самого кровавого в истории Османской империи султана и лишении его сана халифа.
Депутаты отправились во дворец, и глава делегации зачитал Абдул-Хамиду фетву о возведении на престол его брата Решида.
– Это судьба! – гордо ответил султан. – И все же Бог покарает творящих зло!
Ночью султана посадили на уходящий в Салоники поезд.
На пустом вокзале не было ни почетного караула, ни блестящих орденами царедворцев.
Выполнявший роль тюремщика Али Фетхи небрежно махнул рукой, и поезд медленно тронулся в ночь.
Так прозаично закончилась самая страшная эпоха в истории Османской империи…
Да, это было страшное время, и все же нельзя красить правление Абдул Хаида II только черной краской.
За 30 лет его нахождения у власти был построен ряд железнодорожных линий, доходы государства возросли вдвое, в судебную систему были внесены видимые изменения, открывались новые учебные заведения, и делалось многое другое.
Но в то же самое время другие государства, в том числе и соседние с империей, развивались намного быстрей.
Мы еще увидим, какое восхищение вызвала у Кемаля Болгария, в которую он был направлен военным атташе.
Но… никому не дано прыгнуть выше головы, и Абдул-Хамид II не являл собой исключения.
Причин тому было много.
«Больной человек, – говорил по этому поводу в 2002 году председатель Совета по высшему образованию Турции профессор Кемаль Гюрюз, – стал смертельно больным» не без постоянного вмешательства в реформы консервативных кругов ислама, поэтому так и не стали реальностью принципы танзимата и конституции».
Была ли вина в этом султана?
Вряд ли, поскольку он был продуктом воего времени.
И если сам Кемаль в начале Освободительной борьбы будет часто прибегать к помощи религии, дабы не отпугнуть от себя население Анатолии, то, что же говорить о султане, который одновременно являлся и халифом?
– В нашем труде, – говорил Кемаль на одном из выступлений, – в наших усилиях мы по-прежнему будем опираться на бесконечную милость к нам и покровительство Аллаха и на несгибаемую волю и решимость нашей нации перед лицом любых трудностей…
Как тут не вспомнить Эклессиаста.
«Всему свое время, время собирать и разбрасывать камни…»
И время собирать их еще не пришло…
Глава IV
Апрельские события означали окончательное завершение младотурецкой революции.
И, что бы ни говорил о ней сам Кемаль, начатая как военный путч, она обрела свое историческое значение, открыв простор сдерживаемым султаном новым социальным силам.
Стамбул стал центром политической активности, и в него сразу же устремились деятели эмиграции, балканские и иранские революционеры, деятели арабской культуры и даже представители тюркских народов России.
Вместе с ними в страну широким потоком хлынули идеи мусульманской реформации, популизма, национализма и социализма.
Благодаря этому, эпоха младотурок была самой интересной с точки зрения борьбы мировоззрений.
Именно тогда в непримиримой и, что самое главное, открытой схватке сошлись между собою сторонники османизма и уже зарождавшегося национализма, либералы и консерваторы, демократы, автократы и выразители прочих идей.
Это были тяжелейшие для пережившей подряд четыре тяжелых войны Турции времена.
Безвольный и болезненный Мехмет V Решид царствовал, но не управлял.
Суды военного трибунала продолжали свою кровавую «жатву», однако ставший военным диктатором Шевкет-паша и не думал злоупотреблять своей безграничной властью.
Твердо веривший в идеалы конституции, он тесно сотрудничал с гражданскими членами комитета, которые стали фатическими правителями страны.
Но именно тогда на стыке танзиматской и младотурецкой эпох зарождались те самые идеи, которые спустя всего два десятка лет станут основой строительства новой Турции.
Что же касается снова забытого лидерами младотурок Кемаля, то его ждало новое разочарование.
Для проведения столь долгожданной им военной реформы лидеры «Единения и прогресса» пригласили немецкого генерала фон дер Гольтца, и немецкие фирмы начали поставлять империи новейшее вооружение, боеприпасы и экипировку.
Внимательно наблюдавший за всеми этими свершениями Кемаль испытывал к происходящему двойственные чувства.
С одной стороны, он был несказанно счастлив тем, что воз наконец-то сдвинулся с места и армия начала свое великое возрождение.
Но в то же самое время ему не нравилось то, что первую скрипку в ее возрождении играла германская военная миссия.
Но делать было нечего, и ему снова пришлось смириться, благо что его назначили в управление по подготовке кадров Третьей армии, и перед ним открывалось достаточно широкое поле деятельности.
Кемаль с редким для него удовлетворением погрузился в работу.
Его блестящие лекции имели огромный успех, и офицеры быстро прониклись уважением к прекрасно своему образованному и энергичному преподавателю.
Но Кемаль поражал сослуживцев не только обширными знаниями, но и своей поистине нечеловеческой выносливостью.
Он последним уходил из казино и первым появлялся на службе.
А в перерыве между этими достойными занятиями успел перевести книгу бывшего директора Берлинской военной академии генерала Литцемана.
Но Кемаль не был бы Кемалем, если бы только слепо копировал чужие сочинения, и он по возможности исправлял давно устаревшие идеи немецкого генерала.
Вскоре начались военные маневры, и Кемаль отправился в Кепрулу, где предложил главе германской военной миссии маршалу фон дер Гольтцу собственный план учений.
И фон Гольтц с интересом ознакомился с ним.
– Конечно, – говорил довольный Кемаль друзьям, – одобрение такого блестящего военного, как фон дер Гольтц, имеет большое значение, но куда более важным мне казалось доказать то, что мы и сами могли кое-что предложить для защиты своей страны…
И для обеспечения этой самой защиты он буквально лез из кожи.
Он проводил полевые занятия и постоянно изыскивал возможность повысить эффективность ведения боевых действий.
Жесткий и требовательный, он нередко срывался и, возмущенный несообразительностью и неумением своих подчиненных, вел себя так, что многим за него становилось стыдно.
Точно так же он повел себя и с давно уже отслужившими свое старшими офицерами, обвинил их в совершенном непонимании принципов управления войсками.
– Нашей армии, – ничуть не смущаясь присутствием «старой гвардии», во всеуслышание заявил он в офицерском клубе, – совершенно не нужно ее высшее командование. И было бы прекрасно, если бы ее командная структура заканчивалась майорами, поскольку уже завтра из их рядов выйдут прекрасные командиры!
Обиженная «старая гвардия» решила проучить наглеца и поставила Кемаля командовать пехотным полком, очень надеясь на то, что на практике этот воинствующий теоретик сломает себе шею.
Но Кемаль быстро разочаровал их, блестяще справившись со своими обязанностями.
Еще одну причину слабой подготовки офицеров Кемаль видел в их чересчур активном занятии политикой.
– Какой толк, – вопрошал он на очередном конгрессе «Единения и прогресса», благо, что сам Шевкет-паша придерживался точно такого же мнения, – от заседавшего в парламенте генерала? Его дело учить солдат! Повальное участие офицеров в политической жизни гибельно для армии. И именно поэтому Третья армия, многие офицеры которой являются членами «Единения и прогресса», не может считаться современной армией!
И какова же была радость Кемаля, когда такие видные деятели движения, как Исмет и Кязым Карабекир, поддержали его предложение.
Но, увы, дальше разговоров дело так и не пошло.
Да, офицеры перестали посещать партийные клубы, но комитет по-прежнему продолжал опираться на военных.
А вот отношщения самого Кпемаля после конгресса с некоторыми членами комитета испортились окончательно.
С кем именно так и осталось неизвестным.
В связи с этим надо заметить, что выступавший под общим девизом «Спасение империи и контроль над султаном» комитет «Единения и прогресса» являл собой удивительный ансамбль противоборствующих кланов, во главе которых стояло около тридцати лидеров.
А на вершине пирамиды возвышаля странный триумвират в составе Энвера, Талаата и Джемаля.
Странным он был по тому, что даже при всем желании было сложно найти столь различных людей.
И тем не менее…
Надо полагать, что Кемаль не полаждил с кем-то из лидеров, поскольку ему сначала угрожали, а потом дважды (в 1909 и 1911 годах) его пытались убить.
После многих лет, проведенных в подполье, «Единение и прогресс», даже добившись власти, сохранил жесткие привычки подполья.
И его руководители безжалостно расправлялись со всеми неугодными.
Для своих темных дел они использовали профессилнальных убийц из секты федаев.
И если верить воспоминаниям Кемаля, то в течение нескольких недель федаи охотились за ним и даже стреляли в него.
Говоря откровенно, странные это были покушения.
Федаи всегда довдили дело до конца и никогда не промахивались, и Кемалю, если дело обстояло именно так, крупно повезло…
Тем не менее, Кемаль не спешил покидать ряды комитета, хотя и превратился в то время в обыкновенного наблюдателя.
Что же касается высших руководителей партии, то между ними и Кемалем лежапа огромная пропасть, и преодолеть ее он смог только в отношениях с Джемалем…
Глава V
Летом 1910 года с группой османских офицеров Кемаль был послан на учения французской армии в Пикардию.
И надо ли говорить, с какой радостью и интересом ехал он в даровавшую миру великую революцию страну!
Как только они переехали границу, он сменил феску на фуражку, и майор Саляхеттин недовольно заметил:
– Что ты делаешь? Разве ты забыл, что м представляем наше государство? И все должны видеть, что мы османы!
Кемаль только пожал плечами.
Но когда поезд остановился на одной из сербских станций и один из мальчишек заорал пронзительным голосом на весь перрон «чертов турок!», майор тут же достал из своего чемодана фуражку.
Кемаль с огромным интересом наблюдал за всем происходящим на полях Пикардии.
Но, увы, в империи снова обострилась обстановка, и вместе с военным министром Махмутом Шевкет-пашой его отправили на подавление восстания в Албании.
Шевкет-паша сдержал данное им в Стамбуле слово и со свойственной ему жестокостью принялся уничтожать бунтовщиков.
Сам Кемаль почти не принимал участия в боевых действиях и занимался в основном разведкой.
Албанцы получали оружие из пограничных с ними стран, и он был обязан перекрыть эти пути.
Говоря откровенно, он не был в восторге от своего участия в исполнении жандармских функций по подавлению восстания.
Ведь это был не просто бунт, а борьба двух идеологий: османизма, за который все еще цеплялись младотурки, и национализма нетурецких народов.
Более того, судя по его поведению в Сирии и дальнейшим высказываниям, Кемаль оказался в затруднительном положении: прогрессивно мыслящий человек, он был обязан самым жестоким образом подавлять ростки национального самосознания.
Да и чего особенного требовали албанцы?
Независимости?
Так это естественное стремление любого народа!
Развития своего собственного языка?
Так и здесь не было ничего удивительного, поскольку язык являлся неотъемлемой частью национальной культуры, и любой народ имел право говорить на своем собственном языке!
Да и в желании албанцев видеть на всех ключевых постах в управлении страной своих соотечественников тоже не было ничего странного.
И когда на званом обеде в Салониках немецкий полковник фон Андертен произнес здравицу в честь «великой Османской империи, сокрушившей сопротивление албанцев», Кемаль демонстративно поставил свой бокал с шампанским на стол.
– Турецкая армия, – заявил он, – выполняет свой долг, когда защищает страну от иностранной агрессии и освобождает нацию от фанатизма и интеллектуального рабства! К сожалению, турецкая нация намного отстает в своем развитии от Запада, и главной нашей целью является как можно быстрейшее вхождение в современную цивилизацию! И как турецкий офицер, я не могу гордиться подобными победами!
Все были шокированы его поведением, и особенно словом «турецкий», которое в Османской империи означало «невежественный».
Да и само слово «турок» служило не обозначением национальности, а употреблялось как ругательство.
Кемаль продолжал развивать свои идеи в кругу друзей и не раз заявлял о том, что вся сложность нынешнего положения Османской империи кроется в ее имперском мышлении и что в национальных движениях заложен глубокий исторический смысл.
Конечно, подобное понимание приходило к нему не только под влиянием всего увиденного им за эти годы.
Определенное влияние оказал на него и великий турецкий мыслитель того времени Зия Гёкальп.
Отдав неизбежную по тем временам дань османизму, он стал склоняться к тюркизму – турецкому национализму, который представлял у него уже не какое-то отвлеченное и чисто философское понятие, а реальное явление со своими традициями, фольклором, языком и всем тем, что формирует национальное сознание.
Конечно, он не изобрел ничего нового, и первыми о тюркизме заговорили жившие в России татары и узбеки.
Так, еще в 1904 году в газете «Тюрк», издававшейся в Каире, появилась статья Юсуфа Акчуры «Три вида политики».
В ней были названы три варианта выбора государственной идеологии, стоявшие перед османским государством – османизм, исламизм и тюркизм.
Османизм означал равенство родового происхождения, религий и учений во имя создания совместной родины.
Исламизм – это собирание всех мусульман мира в едином исламском союзе.
Что же касается тюркизма, то автор статьи считал, что «мысль о необходимости осуществлять национальную политику на расовой основе абсолютно нова и не существовала ранее ни в Османском государстве, ни в других тюркских государствах».
Выходец из России и татарин по национальности Акчура стал одним из лидеров течения тюркизма.
«Тюркский союз, – писал автор, – начинается с тюрок.
В этом большом сообществе самую главную роль будет играть Османское государство – наиболее сильное, наиболее передовое и цивилизованное из тюркских обществ».
Практически всеми исследователями его взгляды оцениваются как пантюркистские.
«Идею Туранизма, – отмечал Поултон, – унификацию всех тюркских народов от Балкан до Китая в единую страну, именуемую Туран – изначально можно заметить в идеях Акчуры.
Туранистское движение, которое в известной степени можно рассматривать как крайнее проявление этнического национализма, заявило о себе после младотурецкой революции и было привнесено эмигрантами из России».
Поултон был убежден, что именно при младотурках получила распространение «идея Турана как прародины всех тюрок».
Был он убежден и в том, что эти российские тюрки надеялись сделать Османскую империю локомотивом тюркизма во имя свободы тюркских Народов России.
Тем не менее, турецкие историки главенствующую роль в детальной разработке более вариативной и гибкой концепции тюркизма признают за «своими» идеологами и, прежде всего, за Зиёй Гёкальпом.
Дабы облегчить проникновение своих идей в народ, Зия стал излагать их в стихах, сказках и легендах, прославлявших прошлое турецкого народа и доказывавших его неразрывную связь с Центральной Азией.
И, посещая облюбованное знаменитым философом кафе, Кемаль с интересом слушал его в высшей степени неординарные по тем временам рассуждения о качественно новой турецкой нации, имевшей крепкие корни и обеспеченное будущее.
Больше всего Кемаля интересовало отношение философа к цивилизации и культуре, которую надлежало не только сохранять, но и всячески развивать.
– Да, – часто повторял Зия, – мы должны перенять у Запада его цивилизацию, но при этом опираться только на собственную культуру, игравшую решающую роль в становлении национального самосознания…
– Что для этого надо? – вопрошал философ и отвечал: – Прежде всего, заменить малопонятный народу османский язык на турецкий, что будет способствовать сплочению нации.
Считая ислам не только частью национальной культуры, но и величайшим источником этического воспитания, Зия, тем не менее, был сторонником светского государства
Турецкие мусульмане должны поддерживать отношения со своими братьями во всем мире, но на первом месте должны стоять интересы турецкой нации.
И именно поэтому арабские традиции в исламе необходимо заменить турецкими, а службы отправлять только на турецком языке.
Да и сам Коран, по мысли Зии, надлежало изучать только на турецком языке, дабы верующие могли лучше понимать свою религию, а не выхватывать из нее малопонятные отдельные фразы на чужом языке.
Прекрасно понимая роль семьи в становлении здоровой нации, Зия выступал за предоставление женщине равных прав с мужчиной, упразднение полигамии и прочих пережитков старины.
В противовес панисламистам он обосновывал необходимость разделения светской и духовной власти и развития турецкой нации на основе достижений европейской цивилизации.
А чтобы как можно скорее добиться успеха на этом пути, считал он, надо было объединить все тюркоязычные народы в рамках единого государства.
В опубликованном им стихотворении «Туран» он писал:
Родина для турок – это не Турция и неТуркестан,
Родина – это великая и вечная страна – Туран.
Иными словами, он проповедовал пантюркизм.
Как это ни удивительно, но впервые об идее создания Великого Турана заговорили отнюдь не восточные идеологи.
Первопроходцем стал Арминий Вамбери, венгерский еврей-эмигрант, ученый и путешественник, работавший на британскую разведку.
Человек прямо-таки легендарный.
Востоковед Пургисталь возбудил в нем интерес к изучению восточных языков.
Изучая их, Вамбери заметил, что в венгерском языке можно было найти слова, схожие с теми, которые употребляют тюркоязычные народы.
Надо заметить, что ученых давно волновала загадка происхождения венгров, или, как они себя называли, мадьяров.
Откуда явились они на берега Дуная?
С какой прародины принесли язык, столь отличающийся от языков их европейских соседей?
Значит, прародиной венгров была Центральная или Средняя Азия?
Барон Этвеш, венгерский лингвист, к которому Вамбери пришел в дырявых башмаках, сочувственно отнесся к его предложению – отправиться на Восток для выяснения сходства венгерского языка с языками азиатских народов.
В Турции Вамбери прожил шесть лет.
Сначала он был странствующим чтецом.
На второй год стамбульской жизни Вамбери часто видели во дворах мечетей, где, сидя у ног учителей-хаджи, он постигал премудрости ислама.
В Стамбуле он оказался, когда ему было примерно 20 лет.
Вскоре он стал учителем модного в то время в Турции французского языка.
Прошло еще три года, и Вамбери стал появляться в министерстве иностранных дел и на приемах в посольствах – владея уже тридцатью языками, он мог быть переводчиком решительно всех дипломатов при дворе султана.
Приняв ислам, Арминий работал некоторое время секретарем у Мехмеда Фуад-паши, министра иностранных дел Турции.
Постепенно настоящее его имя забылось и важного господина, имеющего собственную карету, стали называть Рашид-эфенди.
И он, вероятно, не преувеличивал, когда много лет спустя говорил, что в турецких делах разбирался не меньше, чем любой эфенди, рожденный в Стамбуле.
Вместе со странствующими дервишами он прошел весь Восток.
Чалма дервиша прикрывала голову тесно связанного с Венгерской Академией наук знатока восточных языков и уникального британского разведчика Арминия Вамбери, от природы обладавшего редким даром перевоплощения.
Лингвистические исследования прославили Арминия Вамбери.
Но в поисках прародины венгров он не нашел верного пути.
Общей прародиной предков венгров, ханты, манси было, вероятно, Южное Приуралье.
В своих исследованиях Вамбери выполнял заказ английских правящих кругов.
Тем не менее, в своем «Путешествии по Средней Азии из Тегерана через Туркменскую пустыню по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару, Самарканд, предпринятом с научной целью, по поручению Венгерской Академии в Пеште, членом ее А.Вамбери», британский разведчик Вамбери писал: «Русское образование и культура ловкой рукой была пересажена в Среднюю Азию, в эту крепость дикого фанатизма, алчности и тирании.
Завоевание русскими Туркестана было счастьем для населения этой страны.
В этом должна сознаться даже Англия».
Демонстративно расставшись с родиной, где его недостаточно оценили и вознаградили, Вамбери переселился в Лондон, с которым уже давно поддерживал тесные связи.
Он занялся политикой и уже открыто считался специалистом по «восточным и русским делам».
В том же своем «Путешествии по Средней Азии» Вамбери провозгласил и новую геополитическую доктрину – пантюркизм, основывающийся на приоритете этнической общности и происхождения турок и других тюркских народов.
В стамбульский период своей жизни, Вамбери был наставником лидера новых османов Мидхат-паши, который еще в 1876 году, по мнению некоторых ученых, намеревался спасать шедшую к упадку империю с помощью пантюркизма.
Эта же программа в основных своих принципах оставалась доминирующей в идеологии младотюрков уже в начале XX века.
Многие исследователи пантюркизма и сейчас уверены в том, что Вамбери путешествовал по Средней Азии под видом суфия с целью объединения вокруг турецкого султана всех антироссийских сил.
«Турецкая династия, – писал Вамбери, – оплот Османского могущества, создала из многих элементов на основе общего языка, религии и истории империю, простирающуюся от берегов Адриатики до самого Китая, более могущественную империю, чем ту, что собрал Романов из самых разнородных и разрозненных материалов.



