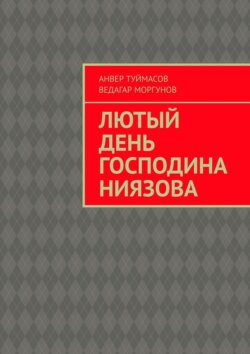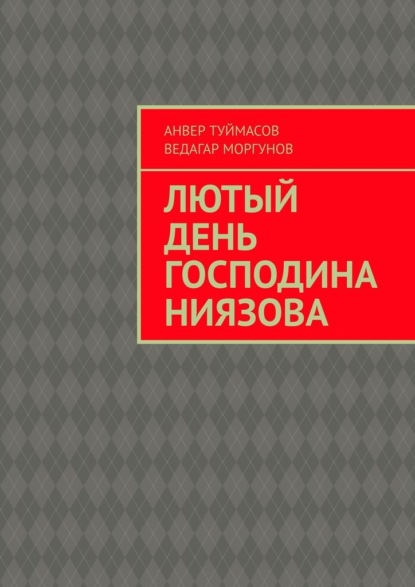© Анвер Туймасов, 2024
© Ведагар Моргунов, 2024
ISBN 978-5-0064-9142-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
Безжалостно быстро наступило утро выходного дня. Не успел Яков Насреддинович Ниязов сомкнуть свинцовые веки, находясь в сладостном вечерне-пятничном угаре, как грянул новый день. Вестниками его стали протестующие возгласы Григория Израилевича Сопельника. А уж в том, что Григорий Израилевич протестует, не было никаких сомнений.
– Я протестую, и протестую некультурно! – словесно изгалялся Сопельник. – Отворяй, Яков Насреддинович, татарское твое лицо!
Открывать Ниязов не спешил. Все дело в том, что на вчерашнем светском рауте, устроенном Яковом Насреддиновичем, Сопельник повел себя откровенно вульгарно и в присутствии коллег Ниязова весьма недвусмысленно высказался в пользу пересмотра итогов Куликовской битвы. Тем самым пламенный оратор мгновенно обрек себя, а заодно и всех здравомыслящих потомков Моисея, на праведный гнев собравшихся персон. У Григория Израилевича незамедлительно разбились нос и очки, после чего он с позором был выставлен вон.
Судя по утреннему дебошу, Сопельник окончательно пришел в себя и явно жаждал отмщения.
– Немедленно пошлите за Прохором, он-таки рассудит нас окончательно! – не унимался за дверью Сопельник, весьма слабо надеясь на отзывчивость соседей по подъезду и нервно стуча в дверной косяк костлявым кулачком. – Причем факт татарского ига достаточно спорен, и мною по-прежнему отрицается вовсе!
Автослесарь Прохор Савкин, которого-то и требовал призвать Григорий Израилевич, проживал этажом ниже Ниязова. Он был тем человеком, чью голову довольно редко посещала какая-либо конструктивная мысль. Мало того, каждое утро, наступавшее вслед за обильными возлияниями накануне, Савкин обычно находился в некоем особом состоянии. Японские самураи называли это «сатори» или состояние безмыслия, обучаясь и практикуя его годами. Прохор же, имея весьма скудное представление о Японии вообще (и о самураях в частности) входил в состояние «сатори» мгновенно и перманентно пребывал в нем, на зависть всем японцам.
Здесь следует заметить, что тщедушный Сопельник самым непостижимым образом превратил грозу квартала громилу Савкина в своего личного друга. Как Сопельник сумел наладить диалог с Прохором и одержать столь трудную психологическую победу, понять никто так и не смог, потому как словарный запас гражданина Савкина составлял максимум 5 цензурных слов, да и то в минуты наивысшего душевного подъема, который случался преимущественно в день получки. В остальное же время Прохор пользовался энергичными междометиями и языком грубых жестов.
Внезапно негодующие вопли Григория Израилевича смолкли. Но напрасно Яков Насреддинович воздал хвалу небесам. Сопельник вовсе не ушел, просто его кулачок весьма неудачно соприкоснулся с дверным косяком при очередном ударе, и неустрашимый борец с татарским засильем пискнув, грузно осел на пол. Так он сидел довольно долго, сморщив личико и, уподобившись большому неуклюжему птенцу, тряся большеносой головой, будто желая клюнуть негодного Якова Насреддиновича в отместку за все свои вчерашние и сегодняшние несчастья.
Помедлив минут пять после внезапного завершения утренней агрессии, Яков Насреддинович соколом спорхнул с продавленного дивана, проворно метнулся к двери и весь обратился в слух. Не услыхав ничего подозрительного, Ниязов мигом распрямился и, гордо вскинув подбородок, плавно шагнул вглубь своих апартаментов, по праву рассчитывая как минимум на боевую ничью. Цветастые сатиновые трусы победным знаменем колыхались на жилистых ногах Якова Насреддиновича, явственно обозначая стойкость татарской цитадели. На втором шаге из-под двери до Ниязова донесся виноватый, со страдальческой хрипотцой, голос Сопельника.
– Отопри же засовы, и забудем все былое, друг! – развернул вспять свой внешнеполитический курс Григорий Израилевич. А надо заметить, подобные метаморфозы происходили с ним весьма регулярно в силу врожденной интеллигентской нервозности и вытекающей из нее частой смены настроения. Ниязов замер на полушаге и, окончательно смирившись с потерянным утром, щегольски развернулся на носках заношенных тапок, после чего шустро засеменил к двери.
– Ниязыч, а я-то думаю, дома ты или ушел куда! – воскликнул Григорий Израилевич прямо в распахнувшийся дверной проем и, вытянув руки вперед, шагнул в прихожую.
– Не злюсь, не злюсь уже, но чаю с плюшками хлебну! – утробно урчал Сопельник, яростно тиская маленького Ниязова в своих костлявых объятьях. Любой почтенный гражданин, не знающий обычаев и нравов обитателей 3 подъезда дома №231, что по улице Пулеметной, не поверил бы, что пять минут назад этот носатый весельчак представлял собой комок всесокрушающей ярости.
Некоторое время спустя окончательное примирение сторон было скреплено ароматным чаем, заваренным в литровой стеклянной банке лично Яковом Насреддиновичем. Чай в пакетиках он не воспринимал вовсе, а употреблял лишь грузинский байховый с добавкой ароматных трав, полученных от бабушки в качестве гостинца. После двух мощных хлебков из красной чашки с пафосной надписью «Яков» дурное настроение хозяина квартиры №33 улетучилось прочь, и ему вдруг нестерпимо захотелось прервать наступившую паузу доброй фразой. Тут следует упомянуть, что сам по себе Ниязов был добрейшим человеком, но при этом весьма замкнутым и молчаливым, ну а уж если испытывал желание изречь пространную тираду, это говорило о невообразимом душевном ликовании. Слегка раскачиваясь на допотопном табурете, что само по себе было нонсенсом в поведении всегда сдержанного Ниязова, Яков Насреддинович с умилением смотрел в собственноручно вымытое позавчера кухонное окно, и все вокруг его радовало. Яркое апрельское утро вкупе с мягкими еще вчерашними плюшками, так хорошо совместимыми с горячим чаем, сообща дарили Ниязову заряд бодрости; чуть меньше, но так же радовало присутствие в кухне неумолкающего Сопельника. Одним словом, все говорило о следующем – жить хорошо. Заботы и волнения прошедшей недели казались ему чужими и далекими. Вот примерно об этом и собирался душевно поведать Григорию Израилевичу разомлевший от внезапного осознания своего житейского благополучия Ниязов. В предвкушении сладостного мига он набрал воздух в легкие, и первые слова уже готовы были заполонить пространство хрущевской кухоньки, но этого не случилось. Судьба решила резко вмешаться в утреннюю идиллию квартиры №33. На хрупкое плечо Ниязова тяжело легла огромная, вся в пятнах мазута ладонь, а Яков Насреддинович так и остался сидеть с открытым ртом и округлившимися глазами, словно карп, внезапно выброшенный на сушу.
– Григорий, я тут, – громовым раскатом сообщил о своем нежданном явлении Прохор, находившийся, ко всему прочему, в глубочайшем «сатори», хотя членораздельное оповещение говорило о вчерашнем авансе за апрель, и в этом был шанс Ниязову выжить.
Сопельник смотрел на слесаря с немым недоумением, совершенно забыв, что четверть часа назад сам призывал Прохора совместно обуздать татарскую диаспору. Ну а мысли Ниязова крутились, как в калейдоскопе. Он уже проклял на десять поколений вперед сердобольных соседей, разбудивших-таки Савкина, проклял Сопельника, забывшего закрыть входную дверь – и все это в доли секунды.
– Я закрыл дверь! – словно прочитав мысли Ниязова, завопил Григорий Израилевич, проворно падая с табурета под стол, стремясь таким образом сохранить хоть часть своего весьма хрупкого здоровья.
Сопельник действительно запер за собой дверь, но для Прохора не существовало преград, когда на помощь звал друг. Он просто открыл входную дверь так, как если бы она была не заперта, причем совершил это действие настолько просто, что шума оное не произвело совершенно никакого. Однако узнать это Ниязову было не суждено физически, поскольку его седалище уже оторвалось от табурета, и он завис в пространстве, чувствуя могучую подъемную силу руки Прохора. Шансы на спасение таяли стремительно, на решительное действие оставалась максимум пара секунд, Ниязов крепко зажмурился… И тут что-то изменилось.
Яков Насреддинович вдруг увидел себя, а заодно и всех своих гостей со стороны. Словно комар, сидящий на потолке, Ниязов обозревал всю кухню, и это новое необычное состояние ему очень даже сильно нравилось. Все происходящее в кухне показалось ему скорее забавным, он не чувствовал ни страха, ни злости – ничего, кроме тихого умиротворения.
Между тем, со стороны картина виделась просто захватывающей. Савкин поднял оцепеневшего Ниязова почти до уровня дешевенькой люстры, причем какие-либо эмоции на лице Прохора категорически отсутствовали, а Сопельник орал из-под стола: «Проша, уймись, верни Якова на место, я нисколько не шучу!» Сатиновые цветастые трусы Ниязова мрачно повисли, словно штандарты поверженного противника, выражая на сей раз полную покорность переменчивой судьбе. Глядя на все это с потолка, Ниязов-второй все также продолжал лихорадочно искать выход из безвыходной, в общем-то, ситуации. Параллельно в его голове возникла и не уходила мысль: и чем же все это безобразие, в конце концов закончится?
Между тем в комнате все оставалось в замершем состоянии, Прохор держал Ниязова за шкирку, Сопельник трусливо выглядывал из-под кухонного стола, а собственно Ниязов покорно висел между небом и землей, отдавшись судьбе на милость. Внезапно все снова изменилось невообразимо и стремительно. Яков Насреддинович «вернулся» в свое бренное тело и стоп-кадр отменили – орал Сопельник, пыхтел Савкин, а Ниязов приподнялся еще чуть вверх, явно понимая, что продолжением синусоиды его движения станет стремительное пикирование вниз на встречу с истертым кухонным линолеумом. И ничего не смогло бы помешать этому вполне логическому завершению уже совсем грустного субботнего утра, да нет – еще одна метаморфоза произошла с Яковом Насреддиновичем Ниязовым. Его тщедушное тело мягко приземлилось обратно на табурет, однако ничего ужасного дальше не произошло. Даже наоборот – грудь Якова Насреддиновича наполнили гробовая тишина и чувство полного блаженства. Он вдруг понял, что никакой там Проша Савкин, да и вообще никто не сможет причинить ему физического ущерба ни сейчас, ни когда-либо вообще. Он это понял резко, раз и навсегда.
Далее происходило следующее. Озадаченный Прохор плавно наклонил мятую физиономию с перегарной поволокой к лицу Ниязова, совсем не понимая, почему он вдруг не смог удержать этого доходягу в своей руке, которой на спор пробивал стену родного автосервиса. Яков стал другим. Это понял даже Савкин, не говоря о вконец одуревшем от такого поворота Сопельнике. Ладонь Ниязова резко пошла вправо и приложилась ребром к переносице Прохора, чем принудила того бодро обмякнуть. Затем Яков мощно встал с табурета и шагнул к зеркалу. Оттуда выглядывал бугай с борцовской шеей и хмурым взглядом решительных глаз. Нет-нет, лицо Ниязова осталось почти тем же. Почти. Но все остальное – будто фото своей прежней хорошо знакомой головы он приклеил к торсу неизвестного культуриста.
ГЛАВА 2
Прохор Гиацинтович Савкин, тридцати семи лет от роду, рост двести восемь сантиметров, вес сто сорок килограммов живой дури и крови, никогда не был ударен кем-либо в жизни. По всей видимости, до сегодняшнего дня в бурной жизни Прохора встречались люди, сплошь думающие, адекватные и категорически не желавшие быть покалеченными в схватке с монстром. Почетное звание мастера спорта по боксу Прохор получил, проведя в ринге всего несколько боев в финалах различных региональных соревнований. Его возили на эти мероприятия как Кинг-Конга, с целью как следует попугать народ и показать ему, то бишь народу, будущего чемпиона страны, а затем (наверняка) и мира. Соперников с подобными параметрами даже близко не находилось, а те, которые осмеливались выйти против Савкина в ринг, выбрасывали полотенце по истечении первой минуты боя. Осознав к двадцати годам, что бокс – это не его призвание, Прохор нашел себе другое применение, как он посчитал, более возвышенное – в местном автосервисе. Савкин занимался тем, что огромной кувалдой правил кривые кованые диски автомобилей с ювелирной точностью. Тем не менее, бойцовская слава Прохора гремела до сих пор и вкупе с габаритами и вечно угрюмым выражением лица не позволяла никому даже подумать предложить этому парню конфликтный сценарий.
И вот сейчас этот самый Голиаф улицы Пулеметной и окрестностей висел в самой унизительной позе над унитазом в квартире номер тридцать три вниз головой, а держал его в своих руках никто иной, как Ниязов Яша, человек до сего дня, наверное, самый тихий и незаметный во всем квартале. Да не просто держал, а жестоко тряс так, что все вши, годами блуждавшие в нечёсаных волосах Савкина, срочно снимались с насиженных мест и летели в тартарары, то есть в унитаз Якова Насреддиновича под его же, Якова Насреддиновича, злобный раскатистый рык: «Всю дурь вытрясу из тебя, волчина, ты мне золотую дверь поставишь!» Ниязов бурно источал вокруг себя волны агрессии, всесокрушающей мощи и выглядел со стороны пугающе великолепно. Прислонившись к кухонной двери, беззвучно рыдал от страха Сопельник, уже совершенно не понимая происходящего, но явно понимая, что с Ниязовым теперь следует разговаривать учтиво и на «Вы».
А Ниязов все свои действия осуществлял, будто находясь в прекрасном сне, где ему все было позволено, где его все боялись, и ни одна сволочь не смела даже глянуть неподобающе в его сторону. Вволю наиздевавшись над бедным Прохором, Яков Насреддинович вышвырнул истерзанное тело последнего на лестницу и тут же решил ковать железо, пока оно еще горячо. В возбужденной голове Ниязова ярко вспыхнула идея – отправиться к своим горячо любимым соседям с официальным и полномочным визитом. Пинком открывая свою уже сломанную дверь и направляясь к двери квартиры №36, где проживал некто Станислав Гольдман, или просто Стасик, Яков услышал позади себя лишь слабые возгласы Сопельника: «Насреддиныч, вот туда точно не ходи, они тебя посодют, как пить дать! Да я как чувствовал, что чаек-то у тебя с сюрпризом, но чтоб с таким!!!» Ниязов, не обращая на этот шепот никакого внимания, уже стучал в дверь Стасика уверенно и непреклонно. Дверь открылась почти сразу, и на пороге нарисовался кудрявый толстячок с залысинами, он дожевывал что-то вкусное и, оглядывая Ниязова, довольно быстро менялся в лице.
– А где Прохор, я же привел его сюда пять минут назад, – растерянно булькнул толстячок.
Сразу после произнесения данной фразы Гольдман (а это был именно он) был откинут метра на три от входной двери, и дожевывал уже лежа на полу своей прихожей.
– А я-таки не понимаю, Яша, это ты или твой родственник—спортсмен? – вновь пробулькал Стасик, чуть приподняв голову от пола.
– Все, хана сионистскому режиму в нашем подъезде, татарское иго возвращается, это я вам всем говорю. Теперь будете есть конину и ходить в мечеть! – громыхал Яков на весь подъезд, пытаясь схватить ускользающего Стасика. А тот уже мчался вглубь своей квартиры, утробно вереща на ходу: «Мирра, меня убивают жестоким образом!» Яков мчался за ним и вместе они достигли зала, где, застыв с утюгом в руках, довольно злобно смотрела на вбежавших смутьянов тетя огромных размеров. Это была жена Стасика Мирра, и сегодня у нее был день глажки белья, другими словами – страшный день для Станислава Эммануиловича. Последний был примерно на полторы головы ниже и на пару пудов легче супруги, ну а в дни частых семейных конфронтаций бывал бит, причем в прямом смысле этого слова.
– Станислав, я не поняла, что за кавардак в нашей приличной квартире, или я не предупреждала, что сегодня нуждаюсь в покое как никогда! – прошелестела Мирра так, что качнулась люстра, жалобно звякнув дешевыми стекляшками, которые, впрочем, Стасик безбоязненно выдавал за натуральный чешский хрусталь.
– Мой птенчик, сегодня определенно день несуразных происшествий, а этот мужлан имеет ко мне явные претензии, только я еще не понял какие, сейчас он наверняка все нам расскажет, ведь так, Яков? – заканчивал свою тираду Стасик, поспешно прячась за гладильную доску.
– Яша, уже пора отбыть в наш лагерь, – запищал под ухом Ниязова Сопельник, который неотступно следовал за другом по всей траектории татарской агрессии. Умом Яков Насреддинович и сам это понимал, но боялся – а вдруг волшебное чувство силы и могущества скоропостижно уйдет, и он никогда не сделает того, о чем всегда втайне мечтал.
– Станислав, настало время принятия взвешенных, но трудных решений, – размеренно начал Ниязов, не узнавая свой голос. Это был раскатистый бас, лишь отдаленно напоминавший голос прежнего Якова. – Время измывательств осталось в прошлом, сейчас будешь платить по счетам…
Мирра с недоумением смотрела то на Стасика, то на Якова Насреддиновича, явно не все понимая. Зато Гольдман понял все, сразу посерел лицом и вжался в стенку резного шкафчика, продолжая обреченно лежать на полу…
Здесь следует сделать небольшую паузу и разъяснить читателю некоторые моменты из жизни Якова Насреддиновича, Станислава Гольдмана и их совместной трудовой деятельности. Гольдман являлся начальником жилищно—эксплуатационного управления, другими словами – ЖЭУ, а Ниязов трудился в этом же ЖЭУ кровельщиком—долбильщиком восьмого разряда. Пользуясь своим положением руководителя, к тому же обладая предприимчивым изворотливым умом, Станислав перманентно осуществлял различные коммунальные махинации, целью которых являлось исключительно личное обогащение. Следуя простой логике, можно догадаться, что, трудясь в одной организации, эти люди находились в определенных взаимоотношениях, результатом которых практически всегда был финансовый убыток Ниязова и прямо пропорциональный этому убытку прибыльный куш Стасика Гольдмана. Как упоминалось ранее, до сего дня Ниязов не поднимал этот вопрос в силу природной застенчивости и робости, хотя и догадывался обо всех коммунальных аферах своего начальника. Но сегодняшняя метаморфоза, случившаяся с Ниязовым во время чаепития, оттеснила эту рабочую идиллию во мрак прошлого. Яков Насреддинович разом вспомнил все спорные моменты, имевшие отношение к поборам денежных знаков с населения улицы Пулеметной и окрестностей, и мозг его разом уготовил Станиславу Гольдману картину жестокой обструкции, к которой Яков Насреддинович уже практически приступил. Стас нутром прочувствовал, что сейчас перед ним уже абсолютно не тот человек, которому он еще вчера вечером урезал ежеквартальную премию без весомых причин, зная, что Ниязов как всегда промолчит, хотя и поймет, что данная премия плавно, но непреклонно перетекла в карман хитроумного домоуправа.
Ну а в данный момент развязка наступала неумолимо и безжалостно для Станислава Эммануиловича. Ниязов уже бодро ломал ножку табурета, приближаясь к Стасу и намереваясь этой самой ножкой выразить все свое негодование и несогласие с жизненной позицией домоуправа. Мирра окаменело наблюдала за происходящим, а Сопельник вцепился в ногу Якова Насреддиновича, да так и волочился за ним от самой входной двери, пытаясь предотвратить неотвратимое, а именно – изуверскую расправу над Гольдманом.
Внезапно тяжкий стон пронесся по просторам трехкомнатной квартиры Стасика. Это Мирра, очнувшись от немого наблюдения за зверскими и оттого немыслимыми похождениями Ниязова по ее родной квартире, резко вспомнила о своем статусе хозяйки и запустила утюгом, метя прямиком в Яшину голову. Однако опасный снаряд, запущенный неопытной рукой, по немыслимой траектории плавно и мягко опустился прямиком в темя Станислава Эммануиловича, заставив последнего, издав громкий стон, опустить пробитую голову в пространство между шкафом и стеной, застыв и побледнев.
– Воистину велик Всевышний! – произнес, пораженный данной великой справедливостью Ниязов, и тут же входная дверь с грохотом рухнула на пол прихожей плашмя, подняв облачко пыли в, казалось бы, чистейшей квартире Станислава Эммануиловича, а за ней, как в плохом кино, уже забегал в квартиру отряд СОБР в черных масках. Через две секунды Сопельник, Мирра и Ниязов завалились на пол в полный рост по команде одного из бойцов. Гольдман лежал и безо всякой команды.
– Ну, все, Яша, все, вперлись как здрасьте, теперь я точно не съезжу к тете Изольде в Хайфу, что делать, что делать?! – скулил Сопельник, уткнувшись лицом в старые тапки Ниязова, пахнущие сильно неизысканно, хотя сейчас Григорий Израилевич этого категорически не замечал.
– Ну что, преступнички, душегубством занимаемся, уважаемого человека угробить решили, а ничего кроме утюга выдумать-то не смогли? – издевательским тоном вещал тот самый СОБРовец, что подал команду – на пол.
– Это не мы! – пискнул Сопельник в тапки Ниязова и тут же был поглажен по затылку тяжеленным ботинком одного из бойцов.
– Да уж, ситуация не сахар, – удивительно спокойно подумал Яков Насреддинович и сам ужаснулся своему спокойствию. Еще утром он бы точно уже лежал в глубоком обмороке от страха перед возможным развитием ситуации. А теперь – практически ни тени паники или страха, лишь легкое беспокойство насчет того, что Стасик-то явно склеил ласты, а Сопельник, скотина, по-любому поддержит на суде соплеменников.
– Да бог с ним, такая уж судьба у кровопийцы, – невозмутимо продолжал неспешный ход мыслей Яков Насреддинович. Ему тем временем уже вязали руки и толкали к выходу из квартиры, а перед ним семенил обреченной походкой Сопельник. Его безвольно опущенная голова оповещала окружающих о том, что надежд у Григория Израилевича на благополучную развязку сложившейся ситуации практически нет. Мирру также вывели из квартиры в наручниках, после всех. У дверей подъезда столпились соседи, молча наблюдая за тем, как всю троицу загрузили в милицейскую «буханку» и с грохотом увезли в неизвестность…
Здесь хотелось бы прервать описание жестокого триллера, развернувшегося на просторах улицы Пулеметной и отойти немного в сторону, лет этак на 15 назад. А в ту пору жили на улице Пулеметной в этом же самом доме №231 два друга, Яша Ниязов и Леха Шаманов, жили в одном подъезде, в школе за одной партой сидели. Вместе росли, постигая премудрости жизни. А так как родных братьев не было ни у одного, ни у второго, каждый другого негласно считал своим братом.
И была у Лехи особенность – предприимчивость и склонность к коммерции, что само по себе было просто неуместно и даже преступно в эпоху развитого социализма, тем более в пионерском возрасте. Мало того, данная активность юного пионера, в целом успевающего хорошиста, никогда не входившего в круг отпетых школьных хулиганов, была недопустимо близка к криминальной.
Вопиющий случай, поднявший на уши педагогический коллектив школы и ввергший в предынфарктное состояние весь родительский комитет, ярко озаряет начало пути позднее весьма известного в широчайших кругах города Куйбышева криминального авторитета по прозвищу Шаман. Гуляя солнечным днем по заброшенной свалке, два друга-пионера Леха и Яша внезапно обнаружили целый ящик тонких стеклянных трубочек, видимо предназначавшихся для медицинских целей. Яков, ввиду гуманитарного склада ума, не придал находке особого значения. Другое дело – Алексей. Вот тут-то и проявил себя во всей красе преступный интеллект юного Аль Капоне советского разлива. Обнаружив завидную смекалку, Леха определил, что из данных трубочек выйдет великолепное плевательное оружие, но вся прелесть догадки была даже не в этом. Примерный советский пионер с пятеркой по поведению (что автоматически подразумевало социальную роль лютого врага спекулянтов и фарцовщиков) вдруг осознал следующее – трубочек очень много, а это значит, что удовольствием плюнуть в глаз однокласснику посредством вышеозначенного орудия можно поделиться с окружающими. Причем за деньги. Далее ясный детский ум в лавинообразном режиме выстроил всю преступную схему в идеале.
Здесь было все – удачные рекламные ходы, сеть дилеров, поставка дешевых боеприпасов в виде проса, хранившегося на Лехином балконе, скидки постоянным покупателям. Как итог – в течение 3—х дней на школу, где учились друзья, обрушилась плевательная эпидемия. На переменах по школьным коридорам опасались пройти даже опытные педагоги, не говоря уже о молодых практикантах из ВУЗов. Опасное просо нежданно впивалось в кожу любому, вне зависимости от кастовой принадлежности. Чикагские ветераны 30-х годов нервно курили в стороне, завистливо наблюдая за разыгравшимся школьным беспределом. Причем ввиду полного отсутствия в СССР литературы по маркетингу и ведению бизнеса «с нуля» можно смело утверждать, что в наши дни мальчик был бы признан вундеркиндом успешного менеджмента.
Две недели педсовет ломал голову себе и родительскому комитету, пытаясь выявить и вырвать преступный корень, даже не подозревая, что имеет дело с паутиной, в центре которой находится человек, по всем канонам романов Агаты Кристи даже близко не внушающий никаких опасений. Тем не менее, развязка наступила неожиданно и коварно. Всевидящему педсовету удалось найти слабое звено в четкой дилерской цепи, выстроенной неуловимым Шаманом и один из первоклашек (вот он – истинный размах юного гения!) под напором завуча сдал босса. Далее последовала цепь судебных заседаний педсовета, на которых Леху душили по полной программе, а идеологический аппарат проявил себя во всей мощи и красе и поверженного льва не пинал только ленивый. И Леха затаился. На некоторое время.
Затаился Алексей вплоть до 1992 года, когда в стране произошла коренная смена курса развития и все, что было категорически нельзя в СССР, в новой России вдруг резко стало можно. Это было золотое время, когда за два ящика водки можно было купить, например, мебельный магазин, посредством скупки ваучеров у сильно пьющего и редко выпивающего населения. Шаман начал с торговли жвачкой «Турбо» и преуспел в этой области, но мечта детства, грубо затоптанная строгими педагогами, не давала парню покоя. Заметим, что расцвет криминала вокруг проявлял большой спрос на нелегальное оружие, и Алексей в один прекрасный день ответил на него вполне конкретным предложением.
Рядом с продуктовым магазином по улице Пулеметной с незапамятных времен стояла древняя будка с вывеской «Ремонт обуви». Там—то и свил себе первое криминальное гнездо Шаман. Предыдущий сапожник, работавший в будке со времен Куликовской битвы, Петр Хныкин, наотрез отказался участвовать в преступных махинациях и согласился отойти от дел за небольшую пенсию, предложенную Лехой. Сам Шаман под видом сапожника торчал в будке почти круглые сутки, покупая и сбывая левые револьверы, обрезы и пистолеты Макарова лично. Все население района было в курсе, кто и зачем приходит в будку, несмотря на то, что каждый посетитель для конспирации нес с собой либо рваный ботинок, либо женский сапог на шпильке, и, когда в радиусе примерно километра от сапожной мастерской появлялся гражданин с одним ботинком или сапогом в руках, даже дети на улице понимали, что этот гражданин удумал страшное. Уличные сорванцы, проинструктированные лично Шаманом, обступали клиента со всех сторон и навязчиво начинали предлагать тайному покупателю приобрести рогатку или самодельный пугач, уверяя, что «у Шамана все дороже и к тому же опаснее». Мирные обыватели, спешащие по своим делам и привлеченные криками малолетних разгильдяев, оценивающе оглядывали Лехиного клиента с ног до головы, заговорщицки перешептываясь и внося тем самым окончательную сумятицу и в без того смятенное сознание последнего. Вот так, окруженный несколькими назойливыми советчиками, окончательно сбитый с толку и деморализованный клиент «дозревал» для общения с хитроумным махинатором и, заходя в будку, легко соглашался на цену, предложенную господином Шамановым, лишь бы поскорее унести ноги из этого рассадника криминала. Бывало так, что некоторые особо впечатлительные товарищи, столкнувшись с подобным спектаклем, убегали восвояси. На Лехино счастье, народ в Куйбышеве в ту пору был еще крайне не искушён по части проведения преступных сделок, а потому тот легкий предварительный моральный пресс, который Шаман устраивал для страстно желающих успокоить некоторых своих сограждан с помощью пистолета, практически всегда достигал намеченной цели. Понятно, что серьезные оптовые покупатели, только начинающие появляться на просторах нашей Родины, встречались с Шаманом в других, менее людных местах. Но все—таки развеселая торговля через будку пока давала приличную выручку, а потому Леха продолжал большую часть своего сознательного рабочего времени проводить в спецовке сапожника, хотя прекрасно понимал, что с таким же успехом мог торчать на «рабочем месте» и в смокинге. Все жители окрестных кварталов, включая участкового и районную СКМ (для несведущих – служба криминальной милиции), прекрасно знали, кто такой Леха, и каковы его истинные устремления.
Особенно колоритно выглядели со стороны редкие визиты в шаманскую богадельню «залетных» граждан, реально нуждающихся в срочной починке обуви. Подходя к будке, уже морально обработанный шпаной, подобный гражданин, дико озираясь и отмахиваясь туфлей от хулиганов, начинал весьма сильно сомневаться в собственной ясности ума. Заходя же непосредственно в само заведение, и неизбежно упираясь в свинцовый взгляд «сапожника» с борцовской шеей и золотыми перстнями на пальцах, «клиент» приходил к бессловесному пониманию того, что ботинок ему здесь явно не починят, ну а если в «тыкву» не ударят – и то хорошо.
Притеснений со стороны органов правопорядка Алексей практически не ощущал, так как понимал всю важность и нужность дружбы с отдельными ее представителями. Участковый был мил и приветлив по причине того, что каждый субботний вечер в будке его поджидал пакет с «пряниками» от гостеприимного Шамана. В качестве пряников выступали купюры строго американского производства. Сотрудники районного СКМ также были частыми гостями в уютных сапожных апартаментах, забирая все те же «пряники», а иногда и «левые» стволы для своих темных дел. Ввиду отсутствия притеснений, Алексей пренебрегал конспирацией все чаще. Дело доходило до того, что каждое утро на будке появлялись написанные фломастером объявления, типа: «Сегодня ПМ-ов (т.е. пистолетов Макарова) нет, наган 1939-го года сдаю в полцены СРОЧНО».
Население улицы Пулеметной и близлежащих окрестностей с большим пониманием и легким трепетом относилось к воплощению в реальность детской криминальной мечты Алексея, но так как других сапожных мастерских в округе не наблюдалось, обывателям приходилось самим чинить свою обувь, либо чаще покупать новую. Но даже эти непредвиденные бытовые затруднения никак не могли затмить людскую надежду на исполнение своих заветных и слегка преступных желаний. Больше всех радовался нежданной переориентации сапожной мастерской хозяин обувного магазинчика Нобель Миносян. Благодаря тому, что мечта Алексея Шаманова таки сбылась, товарооборот Нобеля возрос многократно. Дешевая обувь рвалась быстро, а починке практически не подлежала – этот секрет армянских обувщиков передавался веками из поколения в поколение, и Нобель даже под дулом пистолета не выдал бы его никому. Начало и окончание каждого торгового дня Нобель предварял ритуальными хвалебными речами во славу Шамана и просьбами к высшим силам о сохранении и преумножении его здоровья и благосостояния.