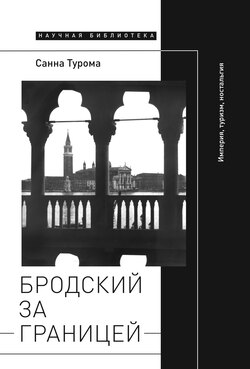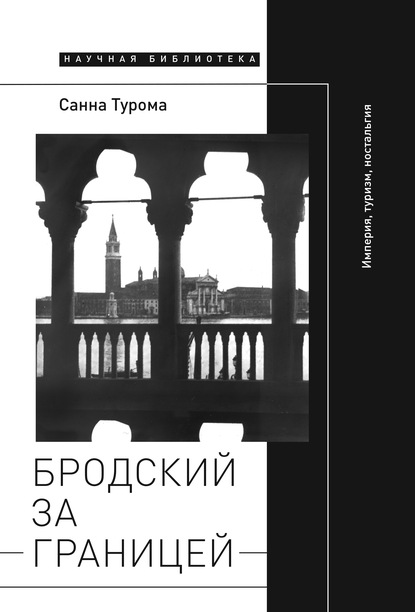В НЕПАЛЕ ЕСТЬ СТОЛИЦА КАТМАНДУ
Когда в начале 2000-х годов Санна Турома, в то время докторант Колумбийского университета, начинала работу над диссертацией о Бродском, уже по ранним вариантам ее глав было очевидно, что это будет интересное и оригинальное исследование. Тем не менее сам выбор предмета, признаюсь, не вызывал у меня энтузиазма: еще одна работа о Бродском, пусть и превосходная? Дело было в то время, когда рост валового объема (по словам Бродского) этой отрасли литературно-критического хозяйства грозил ей кризисом перепроизводства. Ее суммарным продуктом, говоря обобщенно, стал неоромантический образ поэта – вечного изгнанника, у которого в современном мире нет ни клочка земли под ногами и который в своих бесконечных скитаниях по свету повсюду находит только руины давно погибшего (а может быть, никогда и не бывшего) мира, чьим последним духовным гражданином он себя ощущает и распадающиеся обрывки памяти о котором тщетно пытается удержать. В переводе в менее возвышенную плоскость этот нерукотворный памятник поэту послушно следовал канве той биографии, которую ему «сделали», как сказала Ахматова, советские духовно-полицейские власти, сначала устроив прогремевший на весь мир процесс о его тунеядстве, а затем лишив его гражданства и выслав из страны. Сделаю еще одно признание: я и сам поэзию Бродского воспринимал в этом ключе.
И это несмотря на то, что его поздние стихи требовали все больше усилий, чтобы адаптировать их к этой схеме; а также и на то, что некоторые прозаические эссе Бродского смущали своими воззрениями, в которых узнавался хорошо обустроенный духовный мир советского нонконформистского интеллигента 1960–1970-х годов.
Турома предлагает действенное средство против этого недуга ностальгического мифотворчества. Делает она это с удивительной смелостью, спокойствием, а главное, точностью. С первых же страниц книга предлагает нам задаться простым, в сущности, вопросом: не является ли поза антагонистической непринадлежности, типичная для высокого модернизма, анахронистичной в наш неромантический постмодернистский век, сумевший трезво разглядеть в ней черты наивного эгоцентризма? И не мешает ли элегический образ поэта, опоздавшего на символистско-акмеистический прадник начала минувшего столетия, понять его в качестве художника нового времени – времени после модерна, времени, которому элегическое отношение к миру модернизма вовсе не свойственно? Поставить вопросы такого масштаба – значит уже проложить путь к тому, чтобы на них ответить. Автор этой книги предлагает радикальное переосмысление характера поэтического субъекта Бродского, которое, отнюдь не покидая категории его поэтического мира, позволяет посмотреть на них в новой, и притом отчетливо современной перспективе.
Одной из определяющих черт поэзии Бродского является ее философская направленность. Пространство и время, эти ультимативные категории бытия, заявляют о себе в его стихах постоянно и в бесчисленных репрезентациях. В сложившемся образе поэзии Бродского, о котором я говорил выше, его субъект оказывается начисто лишен пространства – нет ни пяди, на которую он мог бы и хотел бы опереться, – но зато всецело поглощен движением времени, делающим всякую телесность «всегда уже» преходящей. Турома обратила внимание на то, что представляется очевидным, но лишь после того, как она на это указала, а именно на огромный вес пространства в поэтическом мире Бродского.
Время больше пространства. Пространство – вещь,
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Эти слова, «пропетые» Треской, легко прочитать как знак предпочтения мыслительного мира материальному. Но ведь сама Треска озабочена именно кардинальной сменой пространства, совершенной ее отдаленными предками, – из океана на берег, название которого как будто призвано увековечить память об этом событии; равно как и лирический герой стихотворения озабочен только что совершенной им столь же всеобъемлющей переменой одной пространственной стихии – одной империи – на другую. Обоих мучает «духота» – состояние, в котором воздух заставляет вспомнить о своей материальности, – как плата за этот шаг; оба стоически принимают ее неизбежность. Ощущение вещной тяжести пространства пронизывает мир поэтических образов Бродского. Он вбирает в себя всю пестроту современного глобального мира, чтобы обнаружить в нем непреложное свойство всякой вещи – покрываться пылью.
Бродский – поэт последней трети двадцатого века, времени «после» не только полосы войн и террора, но и сменившего их кратковременного взрыва авангардной эйфории. Это время трезвого переосмысления модернисткой готовности покорить и пересоздать мир материального силой творческой «мысли» о нем. С большой точностью этот принцип сформулирован в книге С. Туромы: «Идея географии, которая всегда правит историей, является центральной в поэтике Бродского. «Героическая фигура одинокого изгнанника, самим фактом своего существования отрицающего релевантность пространства, сменяется фигурой путешественника, туриста; он так же одержим страстью к перемещению – но к перемещению в пространстве, а не вне его и не вопреки ему. Сами скитания по заграницам из сугубо индивидуального занятия уникальных личностей (от Байрона и Шелли до героя «Смерти в Венеции») преображаются в массовое движение, больше напоминающее рыбий нерест (вспомним еще раз Треску, поэтическое альтер эго героя «Трескового мыса»).
Тут уместно сделать следующее замечание. Постмодернистская ирония, отвергнувшая ораторский пьедестал, отнюдь не чуждается того, чтобы поместить свой автопортрет в изящную рамку. Глобализация, поиски Другого, постколониальная критика – все эти идеологические драпировки антиутопии духовного туризма скрадывают то обстоятельство, что сам факт передвижения по постколониальному пространству указывает на то, что его субъект – гражданин метрополии. Сила Бродского в том, что он не облекается в защитный костюм постколониальной критики, позволяющий современному туристу чувствовать себя комфортно в чуждой стихии. В его поэтическом мире внешняя победа над пространством, обещаемая туризмом, только делает явной тщетность попыток индивидуальной эмансипации. Всесильный шах, числящийся обладателем гарема, даже если этот гарем давно разбежался, или сам он хотел бы от него бежать без оглядки, может ему изменить – «только с другим гаремом». То, что легко можно принять за ностальгию по воображенной империи духа, оборачивается позицией глубокого скептицизма и в то же время стоического принятия.
Читателю книги предстоит путешествие по различным маршрутам этой миграции-бегства-изгнанничества, оборачивающихся туризмом, – путешествие, которое, я не сомневаюсь, доставит ему множество увлекательных и неожиданных впечатлений. Мне хотелось бы только заметить в заключение, что транспозиция книги из одной культурно-языковой стихии в другую напомнило мне о приключении Трески и ее собеседника. Было интересно наблюдать, как сам факт перечитывания книги по-русски (в переводе, который мне кажется превосходным) по-другому расставляет в ней смысловые акценты, изменяет, можно сказать, ее режим дыхания. Это достойная награда автору за тот урок географии, который ее книга предлагает всем любящим поэзию Бродского.
Борис Гаспаров
БЛАГОДАРНОСТИ
В 1995 году Бродский посетил Финляндию и читал стихи на фестивале в Хельсинки. Его большое эссе о Венеции, вышедшее отдельной книгой, было только что переведено на финский. На пресс-конференции я видела Бродского с неизменной сигаретой, которую он нервно мял в пальцах, и с его своеобразным английским – и то и другое к этому времени стало его фирменным знаком.
Прошли годы, и я написала диссертацию о поэзии Бродского. Книга – результат этой работы. Первые шаги я делала под руководством профессоров Пекки Песонена и Наталии Башмакофф. Я благодарна обоим за их помощь и поддержку. Фундамент для моих научных исследований был заложен на кафедре славянских и балтийских языков и литератур Университета Хельсинки, во время обсуждений с участием начинающих и опытных исследователей и их совместной работы. Главная часть книги была написана в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где у меня была возможность работать в коллективе аспирантов на отделении славистики в 2000–2003 годах. Я многим обязана дружеской и творческой атмосфере научного сообщества, которую нашла в аспирантуре – многие из тех, с кем я работала, стали моими коллегами и добрыми друзьями. Особенно я хочу поблагодарить моего научного руководителя – профессора Бориса Гаспарова – за его научную щедрость и наставничество. Оппоненты моей диссертации – профессор Дэвид Бетеа и доктор Александра Смит – делились со мной своими блестящими идеями о Бродском и ценными комментариями. Я особенно благодарна профессору Бетеа за его великодушную поддержку и помощь при переработке диссертации в книгу.
Профессор Божена Шеллкросс, один из рецензентов рукописи, внесла ценные предложения, так же как и доктор Кирсти Симонсуури, оказавшая неоценимую помощь в ходе написания книги. Несколько коллег читали главы монографии на разных стадиях ее создания и делились со мной своими наблюдениями и идеями. Хочу сказать спасибо Йосту ван Бааку, Арье Розенхольм, Лизе Бюклинг, Бену Хеллману, Йопи Нюман, Ирине Сандомирской, Евгению Берштейну, Пекке Куусисто, Кэрол Уланд, Йону Кюсту, Джонатану Платту, Кирстен Лодж, Тенчу Коксу, Ребекке Пяткевич, Марго Розен, Сергею Завьялову, Ольге Тимофеевой и Полу Грейвсу.
От Гвен Уокер из издательства Висконсинского университета я получила важный содержательный совет на завершающем этапе работы. Я также хочу поблагодарить двух моих молодых финских коллег, с которыми я делила один офис в период работы над книгой. Мари Раами и Улла Хаканен проявили удивительное терпение к художественному беспорядку, который я создавала в нашем общем рабочем пространстве. Столь же удивительной была готовность доктора Кирсти Эконен к коллегиальной поддержке. Я приношу самую признательную благодарность им и всем остальным членам неофициального женского обеденного клуба хельсинкских слависток.
Исследовательский проект был поддержан Финской национальной высшей школой литературных исследований, Финской академией и Фондом Вихури. Я благодарна им за финансовую поддержку. Я также благодарна журналам Russian Literature, Ulbandus, The Slavic Review of Columbia University и альманаху Slavic Almanach: The South African Year Book for Slavic, Central and East European Studies за разрешение использовать прежде напечатанные там мои статьи. Часть из глав я публиковала по-русски в «Новом литературном обозрении» и по-фински в Nostalgia: Kirjotuksia kaipuusta ja ikävästä, редакторы Рикка Росси и Катя Сейту (Helsinki, SKS, 2007). Я бы хотела поблагодарить ныне, увы, покойного Алана Майерса, поделившегося со мной очень ценной информацией о работе над переводами текстов Бродского, которую он делал вместе с поэтом. И наконец, было очень приятно вновь почувствовать себя как дома, готовя книгу к печати в Институте Гарримана Колумбийского университета.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В документальном фильме 1989 года «Иосиф Бродский: пространство, сводящее с ума» («Joseph Brodsky: A Maddening Space») есть сцена, в которой авторы фильма показывают поэту фотографии, сделанные семнадцать лет назад в Ленинграде в день его отъезда из СССР. Видно, как поэт волнуется и испытывает дискомфорт, когда его просят прокомментировать его фотографии, сделанные в момент отъезда, или фотографии родных и друзей, сделанные сразу после проводов. Снимки возвращают Бродского назад к моменту отъезда, заставляя его реагировать, обозначая одновременно личную потерю и культурную значимость принятого решения эмигрировать. Ведущий переводит беседу на тему восприятия Бродского в России (фильм снят после того, как в 1987 году поэт получил Нобелевскую премию и некоторые его произведения были впервые напечатаны в советских журналах и газетах). На вопрос, как он видит себя по отношению к русским читателям, Бродский отвечает, что внимание государственных издательств и молодых читателей «может щекотать мое эго», но «в действительности мне нет дела до того, что думает новое поколение». Далее он поясняет: «Близость, чувства ты ощущаешь к тому поколению, к которому принадлежишь»1.
Из этого и других интервью, а также из многих посвящений, аллюзий и отсылок в произведениях Бродского можно заключить, что его воображаемыми читателями, помимо общества мертвых поэтов, которое он любовно создает в своих эссе, была группа ленинградских друзей и знакомых, некоторых из которых он увидел на фотографиях. Но, несмотря на декларируемую приверженность именно этому узкому кругу читателей, Бродский приобрел огромное значение для многих русских за его пределами. Он был одной из главных публичных фигур советской эмиграции в эпоху холодной войны, и его роль как образца для конструирования русской культурной идентичности в последние годы существования Советского Союза была исключительно важной (и продолжает таковой оставаться). Светлана Бойм, писавшая о Бродском и Венеции в посвященном ему эссе, вошедшем в книгу «Будущее ностальгии», пишет о Бродском как о фигуре, значимой не только для нее самой, но для многих образованных русских, для которых могила поэта на венецианском острове Сан-Микеле стала местом культурного паломничества:
В день похорон Бродского в Венеции его вдова и друзья обнаружили, что выбранное для погребения поэта место находится по соседству с могилой Эзры Паунда. Они немедленно возмутились, отказываясь хоронить Бродского рядом с тем, кого он презирал по художественным и политическим причинам. Теперь Бродский лежит неподалеку от Стравинского, другого модерниста-космополита. И все же есть некоторая поэтическая справедливость в том, что поэт похоронен не в Петербурге, а в Венеции. В конце концов «Пенелопа среди городов» обрела своего заблудшего героя2.
Раздраженная реакция на предложенное место захоронения, искусно вплетаемая Бойм в узор русских культурных мифов, вызывает вопрос о месте Бродского как последователя «модернистов-космополитов», часть из которых, как того же Эзру Паунда, он яростно критиковал, тогда как о других отзывался с исключительной любовью, когда формировал собственный образ в поэзии и прозе3, – У.Х. Оден первый, кто приходит на ум4.
Вопрос, который рассматривается в этой книге, связан с некоторой архаичностью позиции Бродского. Что значит быть последователем модернистского космополитизма в последние десятилетия XX века, когда идеологические основы этой позиции поставлены под сомнение постиндустриальной глобализацией и мировой миграцией, с одной стороны, и постмодернистской концепцией субъективности, с другой? Вместо того чтобы следовать общепринятой концепции рассмотрения Бродского как наследника главных поэтов русского и англоязычного модернизма, я пытаюсь критически рассмотреть это мнение через призму его путевой прозы и стихов. Еще одно общее место, которое подвергается сомнению в этой работе, – это понятие изгнания, которое до сих пор было отправной точкой (как биографической, так и концептуальной) для большинства научных работ о произведениях Бродского. Не фокусируясь на проблеме изгнания, книга исследует стихи и прозу Бродского в жанре путешествия не столько вопреки модернистскому дискурсу изгнания, сколько вне его. Анализ перемещается в область современного изучения путешествий как объекта литературоведения и культурологии, возникшую в последние годы вокруг исследований путешествий и травелогов. Здесь не ставится цель подорвать культурный статус Бродского как писателя в изгнании или поставить под сомнение трагические основания его отъезда. Независимо от того, смотрим ли мы на его жизнь как на трагическую судьбу личности в условиях тоталитарного режима или как на один из примеров успеха, достигнутого в изгнании, произведения Бродского остаются несомненным доказательством мучительности персонального выбора и сложности внешних обстоятельств, определяющих этот выбор. В книге сделана попытка включить Бродского в диалог с ведущими представителями постколониальных и постмодернистских исследований, чтобы создать новый контекст для изучения его путевой прозы и поэзии. Такой диалог позволяет увидеть новую перспективу для анализа геополитических, философских и лингвистических оснований поэтического воображения Бродского. Это позволяет взглянуть на главные темы его творчества с земной, а не с метафизической или трансцендентальной точки зрения. Жанр путешествия дает Бродскому дискурсивное пространство для рассмотрения его собственной транскультурности и для веских суждений о перемещении, культуре, истории, географии, времени и пространстве – обо всех главных темах его поэзии.
Идея географического пространства возникает как мощный творческий импульс в ранних стихотворениях Бродского, вдохновленных опытом геологических экспедиций. В его последующем творчестве она представлена через все нарастающее осознание имперской темы, причем история империй явным образом связана с креативностью и маскулинностью. В конечном счете история и география, время и пространство были понятиями, с помощью которых Бродский представлял противоречия между Востоком и Западом, метрополией и третьим миром, культурной значимостью и незначительностью. Бродский с помощью географического воображения помещал лирического героя и путешествующего автора в европейские и неевропейские пейзажи, но, кроме того, включал их в исторический нарратив путешествий и колонизации. Путевая поэзия и проза Бродского, созданная в эмиграции, обращена к послевоенной ситуации, когда необратимый эффект влияния массового туризма на жанр литературного путешествия начал широко осознаваться авторами травелогов и культурологами на Западе. Образ Путешественника, ставший сложной автобиографической метафорой в путевых текстах Бродского, написанных после 1972 года, передает ностальгию автора по мифическому путешествующему джентльмену и по утраченной в постколониальную эру возможности аутентичных путешествий, приключений и открытий. Эта фигура обозначает ностальгическое отношение Бродского к эстетической и экзистенциальной изоляции модернистской субъективности. Таким образом, литературные путешествия Бродского были ответом не только на состояние изгнания, но и на феномен туризма и прежде всего на постмодернистский и постколониальный пейзаж, который сформировал его путевую поэзию и прозу5.
Существенным вкладом Бродского в развитие русской литературы второй половины XX века можно считать широкий географический охват его поэзии и прозы. Бродский был не автором путешествий, но путешествующим автором, написавшим значительное количество поэтических текстов, которые соотносятся с его путешествиями по Советскому Союзу и за его пределами. После эмиграции Бродский много путешествовал по Западу, в то время как большинство советских граждан, включая писателей, не могли выезжать за границу или описывать страны и территории вне советского пространства. Опыт путешествий, полученный Бродским в этот период жизни, отражен в стихотворениях о европейских странах и городах, эссе, посвященном Венеции, и трех произведениях, относящихся к его поездкам за пределы Европы и Северной Америки, – поэтическом цикле «Мексиканский дивертисмент» и двух эссе, «После путешествия, или Посвящается позвоночнику» и «Путешествие в Стамбул», отражающих соответственно его визиты в Рио-де-Жанейро и Стамбул. Два последних текста, первый из которых включен в сборник «О скорби и разуме», второй – в «Меньше единицы», представляют литературу путешествий в том смысле, в котором о ней обычно говорят: рассказ автора о поездке в некоторое место с описанием иностранных обычаев и встреченных людей, но, кроме того, они дают представление о чрезвычайно субъективном историческом и географическом воображении автора. Венецианское эссе «Набережная неисцелимых» («Fondamenta degli incurabiliп», другое название «Watermark»)6 подчеркивает другой важный аспект литературных путешествий, а именно что путешествие всегда является автобиографией.
Хотя в данной книге пойдет речь и о некотором количестве стихотворных путешествий, написанных Бродским в Советском Союзе, основное внимание будет уделено прозаическим и стихотворным текстам, созданным им после эмиграции в 1972 году. Кроме эссе о Бразилии, Турции и Венеции будет обсуждаться также ретроспективный путеводитель по Ленинграду, озаглавленный «Путеводитель по переименованному городу» (включен в сборник «Меньше единицы») и «Место не хуже любого» (вошло в сборник «О скорби и разуме», отражает обобщенный туристический опыт автора)7. Из многочисленных поэтических текстов Бродского, написанных после 1972 года, в данной работе подробно рассматриваются «Мексиканский дивертисмент» (1975) и стихотворения о Венеции, созданные между 1973 и 1995 годами. Это «Лагуна», «Сан-Пьетро», «Венецианские строфы» (1 и 2), «В Италии», «Лидо», «Посвящается Джироламо Марчелло» и «С натуры». Мексиканский цикл и венецианские стихи создают контраст между европейскими и неевропейскими образами Бродского, а параллельное прочтение поэтических текстов о Венеции на русском и эссе на английском дают хорошую отправную точку для дискуссии о нелегкой, но успешной транскультурации Бродского из советского эмигранта и русскоязычного поэта в автора эссе на английском и нобелевского лауреата, выдвигая на первый план вопрос о перемещении, важный для всей литературы путешествий8.
Определить литературные путешествия в жанровой терминологии – задача сложная, что видно на примере редакторов-составителей «Кембриджского справочника по литературе путешествий» («Cambridge Companion of Travel Writing»), которые включили в свой обзор литературы путешествий, входящих в канон западной культуры, целый ряд дискурсивных практик – от поэтических до теоретических: библейские сюжеты (Исход, наказание Каина), путешествия Античности («Одиссея», «Энеида»), средневековую путевую литературу (Марко Поло, паломничества пилигримов и крестовые походы), записки моряков, торговцев и ученых (от исследователей XVI века до Чарлза Дарвина и Александра фон Гумбольдта), фальсификации и пародии («Путешествия Гулливера»), романтическую литературу, фланеров модерна (Бодлер), путеводители Томаса Кука и журналистику путешествий, путевую литературу писателей конца XIX века и модернистов (Флобер, Д. Лоуренс, Грэм Грин, У.Х. Оден), политические путешествия (Дж. Оруэлл), современные бестселлеры о путешествиях (Брюс Чатвин, Пол Теру) и, наконец, теоретические исследования путешествий (постколониальные и гендерные исследования)9. Этот обзор англоцентричен, по собственному признанию редакторов, но он может быть полезен для обсуждения путевой прозы и поэзии Бродского по двум причинам. Во-первых, он указывает на некоторую социально-историческую динамику, так же как на развитие литературных конвенций, которые вдохновляли Бродского на создание его образов путешествий: нарратив Улисса, «стернианство», поэзия романтиков, массовый туризм и англо-американская литература модернизма. Во-вторых, это позволяет читателю подходить к литературе путешествий с общим представлением о различных дискурсивных практиках, а не со строгим определением литературного жанра.
Рассматриваемая в этой перспективе, литература путешествий включает в себя не только эссе, посвященные путешествиям, но и впечатления от других городов и стран, представленные в лирической поэзии. Таким образом, литература путешествий как термин характеризует в этой книге стихи и прозу Бродского, либо относящиеся к его конкретным поездкам, либо отражающие его опыт путешествий на более общем уровне. Кроме того, я периодически использую выражение «текст-путешествие», чтобы усилить теоретическое обоснование выбранной научной позиции. Эта позиция опирается на допущение, что литературные тексты – это «события» и они являются «обмирщенными», так как тексты – это «часть социального мира, человеческой жизни и, конечно, исторических моментов, в которые они существуют и интерпретируются», как пишет Эдвард Саид, отмечая верность такой характеристики, «даже когда тексты явным образом отвергают это»10. Помимо значений, которое слово «письмо» (перевод французского écriture) приобрело в теоретических работах последних десятилетий, у него есть обыденное значение, связанное скорее с процессом, чем с завершенным действием, что соотносится с саидовским представлением о тексте как о том, что имеет бытие-в-мире, обмирщено. Такое представление объединяет подходы, используемые в этой книге по отношению к произведениям Бродского.
Короткий обзор истории русской литературы путешествий дает представление о том, что она столь же гетерогенна, сколь и англоязычная традиция, о которой было сказано выше. Первой русской путевой прозой были средневековые описания паломничеств (хождения). Самым известным секулярным средневековым путевым текстом было созданное купцом XV века Афанасием Никитиным описание его путешествия в Персию и Индию. Отчеты послов XVI века (так называемые статейные списки) касались в основном дипломатических вопросов, позже они стали затрагивать другие темы, интересные двору, – сады, театры и больницы. Некоторые из молодых людей, которые были посланы получить европейское образование, – практика, начатая Борисом Годуновым, но более успешно продолженная Петром I и Екатериной II, – описали свои впечатления. Самым известным из такого рода текстов является дневник путешествия стольника П.А. Толстого. Важное для развития практики путешествий изменение произошло в царствование Петра III, когда дворяне были освобождены от необходимости службы и представители высших кругов общества получили полную свободу путешествовать. Дневники княгини Е.Р. Дашковой и письма Д.И. Фонвизина отражают эти изменения. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (1791) и «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, как недавно заметил Андреас Шёнле, создали, с опорой на успешные европейские примеры «Сентиментального путешествия» Л. Стерна и «Писем об Италии» Шарля Дюпати, «моду и жанр» – с личными наблюдениями и эмоциональным откликом на увиденное в пути, а в случае Карамзина – за границей11. В начале XIX века путешествия становятся популярным и «рентабельным» жанром. В расширяющейся Российской империи новые пространства привлекают воображение писателей. Кавказ становится центральной темой русской романтической литературы до такой степени, что Пушкин (в 20-е годы бывший одним из лидеров этого направления), работая в 1835 году над «Путешествием в Арзрум», пародирует эту ветвь романтической прозы – русские путешествия на Восток12. В XIX веке развивается еще один поджанр воображаемого путешествия – беллетристическая прогулка по улицам Петербурга13. Позже авторы, составившие элиту русского модернизма, пишут очень много произведений о путешествиях: Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев, Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Владимир Маяковский отражают опыт своих путешествий как в поэзии, так и в прозе14. Центром притяжения для творчества русских модернистов была Италия, но, например, Гумилев и Белый также писали о своих путешествиях в Африку, а Маяковский – об американских впечатлениях15. Тема путешествий расцветает в ранней советской литературе 20–30-х годов – в диапазоне от размышлений Пильняка о его путешествии в Соединенные Штаты («ОК. Американский роман») до репортажей и прозы менее известных советских писателей об индустриальных и сельскохозяйственных успехах Страны Советов16. Такие глубоко личные и художественно амбициозные произведения, как, например, «Путешествие в Армению» Мандельштама, не могли быть опубликованы в последующую жесткую сталинскую эпоху, но нельзя сказать, что путешествия совсем не писались и не печатались. Один из примеров – «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова (1936)17. В годы правления Сталина путешествия строго контролировались государством, но при запертых внешних границах внутренний туризм поощрялся. Советский туризм был патриотическим и вносил вклад в конструирование советской идентичности18. В послесталинское время путешествия внутри страны стали контролироваться гораздо меньше19. Именно в этот исторический момент появляется путешествующий герой Бродского. До и после вынужденного путешествия в северную деревню Норенская, где он провел восемнадцать месяцев в ссылке, Бродский опробовал самые разные формы неофициальных путешествий послесталинской эпохи, которые повлияли на представление темы путешествий в советской литературе, кино и песнях шестидесятых годов и которые отразились в его стихах о геологических экспедициях, балтийском побережье советской Литвы и южных черноморских курортах20.
Как видно из приведенных исторических обзоров русской и англоязычной литературы путешествий, развитие русских литературных путешествий, в отличие от англоязычных, определялось ограничениями и запретами сначала со стороны царского, затем советского режима. Из этого следует, что любое исследование русской литературы путешествий должно учитывать различие нарративов, связанных с принудительным и свободным перемещением. Не менее важно не просто различать эти два типа нарративов, но обращать внимание на своеобразную полемику между ними в русском культурном контексте. Ссылка Пушкина на Черное море оказалась продуктивной для формирования его литературной идентичности в противостоянии авторитарным механизмам русской культуры, а его южные поэмы и строфы путешествия Онегина возникли благодаря возможности путешествовать на Кавказ и в другие южные регионы Российской империи. Это повлияло и на эволюцию русской литературы путешествий в целом. В случае Пушкина идентичность изгнанника неотделима от идентичности лирического героя в нерусском окружении – и оба этих типа идентичности важны для русской культурной мифологии. Проза и поэзия Бродского манифестируют эту своеобразную русскую диалектику перемещения, перенесенную в декорации холодной войны. Хотя сложно отделить стихи Бродского, написанные в северной ссылке, от общей трактовки темы изгнания в русских интеллектуальных кругах, его путевые произведения, созданные в эмиграции, за пределами Советского Союза, раскрывают тему перемещения одновременно принудительного и добровольного. Свобода путешествовать и проводить литературное освоение чужих территорий была дарована Бродскому ценой вынужденного отъезда. Опыт изгнания и туризма – двух главных форм перемещения, часто воспринимающихся как противоположные условия существования человека, – главная проблема большинства текстов Бродского после 1972 года.
- Свободные размышления. Воспоминания, статьи
- Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры
- Хлыст
- Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков
- Блокадные нарративы (сборник)
- Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой
- От противного. Разыскания в области художественной культуры
- «Вратарь, не суйся за штрафную!» Футбол в культуре и истории Восточной Европы
- Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года
- Транснациональное в русской культуре. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XV
- Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения
- Саломея. Образ роковой женщины, которой не было
- В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры
- Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик
- Другой в литературе и культуре. Том I
- Вырождение
- Гоголь и географическое воображение романтизма
- Энергия кризиса
- Проза Лидии Гинзбург
- Другая история. «Периферийная» советская наука о древности
- Язык и семиотика тела. Том 2. Естественный язык и язык жестов в коммуникативной деятельности человека
- Язык и семиотика тела. Том 1. Тело и телесность в естественном языке и языке жестов
- Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
- Владимир Шаров: По ту сторону истории
- К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
- Литература как социальный институт: Сборник работ
- Каникулы Каина: Поэтика промежутка в берлинских стихах В.Ф. Ходасевича
- Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы
- Укрощение повседневности: нормы и практики Нового времени
- Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия
- Клио в зазеркалье: Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории. Коллективная монография
- От философии к прозе. Ранний Пастернак
- Нестандарт. Забытые эксперименты в советской культуре
- Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей
- Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения
- «И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы
- Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова
- Сценарии перемен. Уваровская награда и эволюция русской драматургии в эпоху Александра II
- Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве
- Свободный танец в России. История и философия
- «Лианозовская школа». Между барачной поэзией и русским конкретизмом
- Агония и возрождение романтизма
- В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
- Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино
- Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века
- Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика
- «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма
- Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»
- Культура. Литература. Фольклор
- Авантюристы Просвещения
- Сквозь слезы. Русская эмоциональная культура
- Прощание с коммунизмом. Детская и подростковая литература в современной России (1991–2017)
- Как это сделано. Темы, приемы, лабиринты сцеплений
- Сын Толстого: рассказ о жизни Льва Львовича Толстого
- Иван Крылов – Superstar. Феномен русского баснописца
- Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны
- Любовная лирика Мандельштама. Единство, эволюция, адресаты