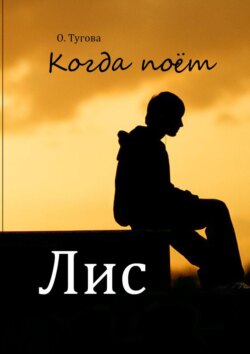
001
ОтложитьЧитал
Редактор Екатерина Павловна Жирякова
Корректор Олисава Владиславовна Тугова
© Олисава Тугова, 2022
ISBN 978-5-4493-8040-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Посвящается Евгению Сафронову
Современную литературу нередко обвиняют в том, что она не может создать активного героя. Инфантильные, озлобленные, разочарованные, скучающие, философствующие – есть, а деятельного – нет. Зато такие герои есть в реальности. Это целое поколение из девяностых – обманутое, униженное, избитое, но не сломленное, творческое и свободное. Такие умудряются по-настоящему, на полную катушку, жить там, где, казалось бы, можно только выживать. Они могут защитить себя и близкого, они знают, что такое стоять насмерть.
Герой этой книги – Лёнька Лис – ищет способ выжить в жестоком и нечутком мире. И, знаете, находит, хотя беды захлёстывают его волнами – бесконечно и безжалостно. Как же мне хотелось, на правах автора, избавить героя хотя бы от части страданий, но у Лёньки есть прототип, и из его песни нельзя выкинуть ни слова. Он растёт, становится сильнее, находит цель и идёт к ней. И, благодаря ему, мы так парадоксально и неожиданно возвращаем себе доверие к миру.
Я признательна всем, кто помогал мне по крупицам собирать информацию о жизни этого чудесного, светлого паренька. Спасибо, Наташе Галковской, Серёже Лису, Леночке Калининой, Алёне Усольцевой, Авроре Тумановой, Марии Проценко, Александре Колосовой. И Катерине Жиряковой – за её редакторский труд.
Особенная благодарность Евгению Сафронову, вместе с которым мы отправились в этот нелёгкий путь, но так получилось, что дошла я одна.
Эту книгу я посвящаю тебе, Женька.
I
Спекулянт
Лёд, похожий на мятные пластинчатые леденцы, обламывался с хрустом. Девятилетний Лёнька долбил его обшарпанным ботинком. Эта лужа у ларька всегда непостижимо притягивала к себе мальчишку в нелепом зимнем пальто и шапке-петушке. Сначала было забавно хрустеть слабым ледком, потом – наблюдать за причудливыми узорами застывших под ледяной коркой пузырьков. И, наконец, когда лёд занесёт снегом, раскатать на этом месте чёрную гладкую дорожку – каток. Разбежался, проехался, балансируя. Повернулся и катишься обратно.
Ларёк же представлялся роскошным чудом, богатым и пестрым, как восточный базар. В нём продавались россыпи сказочных товаров – вершин эволюции химической промышленности. «Сникерсы», «Марсы», «Баунти» и «Натсы» за две тысячи пятьсот рублей, «Юппи» и «Инвайт», «Кукка-рукка» и «Вагонвилс», «Чупа-чупс» и «Бумер»… Любая из изысканнейших жвачек могла стать твоей, если у тебя в кармане было хотя бы двести рублей. Лёньке нравилась «Турбо». Персиковая. Рифлёная и жёсткая. Из неё выдувались огромные пузыри и вкладыши-мультики были с машинками. Мультики складывались в пухлую шуршащую пачку по порядковым номерам. На деньги, которые ему давала мама, он мог купить пирожок в школе, а мог и пять жвачек. Но Лёнька пыхтел и продолжал долбить лужу… Вот уже несколько дней, как он решил накопить денег, чтобы купить новогодний подарок сёстрам. Катя мечтала о «Тамагочи» – электронной кругляшке с кнопочками, на экранчике которой прыгала чёрная козявка. Козявку полагалось кормить, лечить, развлекать, иначе она дохла и приводила в неизбывную печаль своего владельца. Надя хотела тошнотворно-розовый пластмассовый набор мебели (два кресла и торшер) для грудастой куклы Синди, у которой ноги от ушей. Папа сделал для Нади и Синди мебель из фанеры и картона, но та, что была выставлена в соседнем ларьке, по-прежнему оставалась объектом страстного вожделения. Папа не мог конкурировать с ядрёно-розовой пластиковой мечтой всех девочек.
Чтобы сёстры нашли под ёлочкой не только горстку конфет, яблоко и маленькую пачку печенья для каждой, Лёнька должен был накопить около ста тысяч. Почти треть зарплаты отца… Баснословная сумма для мальчишки… До Нового года ни за что не получится…
Он пробовал собирать и сдавать бутылки, но в этом бизнесе его встретила высокая конкуренция, доход был смешным. И тогда где-то в глубине его стриженной под ноль головы с печальными прядями реденькой чёлки родился великий бизнес-проект.
Лёнька решительно пошагал к магазину. Заплатил в кассу мятые тысячи и получил в обмен на чек увесистый свёрток мороженой мелкой рыбы.
Дома никого не было: родители на работе, Катя на продлёнке, Надя в садике. В ванне мокли ивовые прутья. Длинные розги. Отец плёл корзинки, абажуры, рамы для зеркал. Ещё он сколачивал и украшал затейливой резьбой табуретки, детские стульчики, полочки. И в выходной мёрз на местном рынке, продавая свои изделия. Иногда вместо него мёрз Лёнька. Так выживала семья заводского рабочего и учительницы, которым по полгода не платили зарплату…
Лёнька разложил свою рыбу на кухонном подоконнике. Подогрел на плите оставленный обед. Поел. Вымыл тарелку. Выучил уроки. Замороженная рыба оттаяла, стала похожа на свежую. Лёнька завернул её обратно. Оделся и вышел на улицу.
У рыночного забора он разложил на клеёнке рыбу небольшими кучками. Выпрямился, отчуждённо глянул сквозь торопящихся людей. Глубоко вздохнул. Выдохнул. И вдруг стал нараспев декламировать стихи.
Если у вас дома кошка,
Ей грустно вас ждать на окошке,
Купите ей рыбки скорее,
И кошка повеселеет!
Чистый мальчишеский голос звонко раздавался в морозном воздухе.
– Почём? – подошла женщина.
– По две пятьсот любая кучка.
– Свежая?
– Только сегодня на Черёмухе наловил.
Люди улыбались на забавного оборванца, останавливались, приценялись, покупали. Лёнька заворачивал им рыбу в листы из школьной тетради, пересчитывал деньги и благодарил.
Одинокая кошка не будет одна,
Как на небе высоком царевна-луна,
Ведь у кошки в зубах будет вкусная рыба,
Кошка скажет за это большое спасибо.
Рыбу раскупили. Выручка превзошла все ожидания.
На следующий день Лёнька стоял на том же месте, снова декламировал забавные стихи и торговал рыбой.
Но вдруг…
– Почём рыбка, Лёня? – вежливенько улыбалась учительница.
Лёнька опешил. Бешено застучало сердце.
Купите рыбки вашей кошке,
А то сидит всё на картошке…
– У меня нет кошки. Я сегодня позвоню твоим родителям. Надеюсь, что они не знают, чем ты здесь занимаешься, и примут меры.
Вечером мать плакала на кухне.
– А я-то гадала, почему у нас всё рыбой провоняло. А это Лёнька…
– Ты торгаш. Спекулянт. Мне не нужен такой сын. Барыга не может быть моим сыном, – говорил отец. Лучше бы, наверное, отлупил розгами. Лёнька сидел, сжавшись в тихий комочек.
– Но ведь ты сам… корзинки…
– Корзинки?! Сопляк!!! Я эти корзинки своими руками сделал! Произвёл! Понимаешь? А ты ничего не произвел, труда не вложил. Купил подешевле, продал подороже. Нажился на других. Таких, как ты, раньше расстреливали!!!
Лёнька не плакал. Барахтался в сполохах отцовского гнева. И боялся, что теперь никогда ничего не будет по-прежнему, потому что он сделал что-то ужасное, что-то такое, за что убивают. И презирал себя.
– Зачем тебе деньги нужны были? Ведь обут, одет, сыт…
Лёнька рассказал. Потихоньку, чтобы сёстры не услышали. А потом попросил.
– Прости меня, папа. Я всё понял. Я никогда больше так не сделаю. Пожалуйста, можно я буду помогать тебе с корзинками и резьбой? Я научусь.
Я обещаю стараться.
Отец пристально посмотрел в Лёнькины серые глаза. Ничего не возразил. Разрешил.
– Искупай свою вину, трудись, спекулянт.
И Лёнька трудился, в кровь сбивая маленькие руки большим взрослым резцом. Трудился, подчиняя себе упрямые ивовые прутья. Засиживался допоздна и вставал рано утром, упрямо мотая головой на робкие мамины уговоры.
– Я не спекулянт. Я работаю.
Мир стремительно менялся. То, что называлось спекуляцией, вскоре стало предприимчивостью.
Но Лёнька запомнил урок на всю жизнь и держал слово, данное отцу.
В новогоднюю ночь мальчишка трясущимися от волнения руками положил под ёлку, рядом с конфетными пакетиками два заветных подарка. То-то радости будет утром.
А + Л
Весь класс ждал момента, когда можно будет сдвинуть парты в угол, занавесить окно бордовыми лоснящимися шторами и начать дискотеку. Но Татьяна Валентиновна всегда придерживалась строгого регламента:
– Сначала номера нашей самодеятельности.
Лёнька шлёпнул на учительский стол двухкассетный магнитофон, размотал удлинитель. Щёлкнула пластиковая кривая челюсть, заглотила нужную кассету.
Под что-то очень русское и слишком народное завертелась у классной доски уверенная и опытная Светочка. Кружилась, перебирала ножками. Взметался вверх короткий сарафан, сверкали узкий подъюбник и широкие ляжки.
Потом вышла Алина в джинсах и нелепой батистово-розовой рубашке. Читала свои стихи слабым, прерывающимся от волнения голосом. Путалась, останавливалась, начинала снова. Её не слушали. Шушукались, сморкались, шаркали стульями. Она краснела, старалась закончить поскорее и снова сбивалась…
Когда Лёнька с гитарой наперевес впечатал шаткий стул на середину, все привычно замерли. Каждый классный «огонёк» проходил по одному и тому же сценарию.
– Маттео Каркасси, – скучно протянул Лёнька, пересчитывая взглядом длинные гудящие лампы дневного света.
– Я выйду на пару минут, – спохватилась классная руководительница. Она знала, что этому пареньку в чёрной флисовой толстовке можно доверять. Пока он здесь, в классе не будет ни принесённых тайком чебурашек пива, ни сигарет, ни матерных дебошей. Лёнька умел держать класс.
Когда она спускалась по лестнице в учительскую, надеясь не возвращаться в ближайшие два часа, за дверью класса уже звенели аккорды «Группы крови», и пели нестройные подростковые голоса. «Звезда по имени Солнце», «Батарейка» и что-то из Земфиры… или даже «Сектор Газа»…
Пацаны лихо натягивали на бритые затылки кепчонки с гнутыми в трубочку козырьками, увешанными железными пластинами и кольцами. Гремели цепочками на карманах широких штанов с лампасами, на которых не было живого места от булавок. Двигали парты и стулья, подпевали и пританцовывали.
– Ништяк, Лис! Классная тема.
Девушки с завитыми и налаченными чёлками хотели танцевать – перетаптываться с ноги на ногу – и начали канючить:
– Лё-ёёёёнь, вруби «Руки вверх!»…
Совали кассеты «Иванушек» и Тани Булановой.
– Лис, ну подирижируй музон.
Лёнька аккуратно убрал гитару в чехол.
Ловкие лёгкие пальцы нажимали на кнопку, и магнитофонная челюсть заглатывала очередную кассету. Девушки пищали с Лёньки и песен. Ждали медляков. Пацаны, как воробьи, сидели на составленных столах. И тоже ждали.
Алина стояла за шторой у окна и плакала. Если бы только она могла сейчас уйти домой. Но ведь здесь он. Такой красивый, крутой. И уйти совершенно невозможно… Быть с ним. Быть рядом. Ещё немного… Тайком подсматривала из-за шторы. Вот бы нарисовать. Расстёгнутый стоячий ворот толстовки, плавные светлые линии волос на высоком лбу, пристальный, небесно-чистый взгляд, густые щёточки ресниц, упрямо очерченные скулы, мягкие губы… На нижней губе трещинка… Лис: три буквы – языком в нёбо, растянуть в улыбке и сквозь зубы – как свист северного ветра.
Лёнька никогда не приглашал девушек на медляки, не жаждал прикасаться к тёплой, подрагивающей талии, чтобы всё ближе, ближе прижимать к себе и ощущать округлость грудей под тонкой блузкой… Ему нравилось одну за другой ставить кассеты, перематывать магнитные ленты и наблюдать за смелыми или стесняющимися танцующими – близко, животом к животу или на пионерском расстоянии вытянутых девичьих рук, лежащих на плечах кавалера.
Две одноклассницы сплетничали рядом, говорили про Алину.
– Светка на перемене к ней в рюкзак залезла и нашла тетрадку.
– Чего?
– Тетрадку, говорю. Она там стихи свои записывала. А с обратной стороны тексты всех песен, которые он поёт.
– Да кто?
– (Шёпотом) Лёнька Лис. И сердечки, сердечки.
А + Л = Love.
– Ха-ха, вот это подстава…
– Да. И Светка эту тетрадку изорвала и в туалете в мусорку выкинула.
– Ясно, почему наша поэтесса сегодня ни одного стишка без запинки не смогла рассказать. Тетрадочки-то не было.
– А Алина ей даже ничего не сказала.
– А чего она скажет? Светка её так причешет, что она в школе неделю не появится… И всё равно разболтает всем секрет нашей отличницы…
Дальше Лёнька не слушал. Погремел подкассетниками на столе, нашёл нужную кассету, глянул на просвет, с какой стороны больше магнитной ленты, поставил перематываться до нужного места, пока Сергей Жуков чеканил бодрым солдатским темпом:
Крошка моя, я по тебе скучаю.
Я от тебя письма не получаю…
Потом Лёнька чуть заметно вдохнул побольше воздуха, будто собрался нырять. Нашёл глазами силуэт за шторой и втолкнул другую кассету.
Кокетливый голос Натальи Сенчуковой запел что-то про звенящее струной лето и про небо номер семь. Два шага, и Лёнька рядом с Алиной за занавеской.
– Пойдём, потанцуем.
На него вытаращились изумлённые, сумасшедше-счастливые, глаза, не верящие своему счастью.
Соскребающие челюсти с пола одноклассники посторонились, и они танцевали в центре класса, поддерживая друг друга, будто в вальсе – элегантно и нежно. И мелькала то копна непослушных вьющихся волос, то прямая мальчишеская спина с безупречной осанкой.
Лёнька не прижимался к своей даме, не лапал её, а вёл – ласково, но настойчиво. И никто так и не узнал, кроме них двоих, как вспотели их ладони.
Второй подъезд, седьмой этаж,
Губной помады карандаш,
И буквы А + Л пурпуром по стеклу.
Второй подъезд, седьмой этаж,
Ведь там остался праздник наш,
Мой милый мальчик из высотки на углу.
На следующее утро на доске было крупно выведено мелом: А + Л.
Лёнька ухмыльнулся, подошёл и подписал:
= LOVE. А затем сказал стальным голосом старосты, не допускающим возражения:
– Светлана, ты сегодня дежурная по классу, правда? Сотри, пожалуйста, с доски.
Света фыркнула и пренебрежительно поводя плечиком, двинулась к доске, ещё не успев придумать, как дальше поступить. Её совсем обескуражил взгляд Лёньки, который стал вдруг дружественным и тёплым, когда встретился с её глазами.
– Спасибо, – еле слышно шепнул он в завиток покрасневшего уха, проходя мимо неё к своей парте.
И ей не оставалось ничего другого, как смущённо возить тряпкой по доске.
Мамины пионы
У подъезда росли пионы. Старушка с первого этажа и мама по весне вскапывали небольшую клумбу и сажали цветы. Беременной маме нравилось сидеть на лавочке и дышать пышным пионовым великолепием. Она гладила живот и бормотала: «То жара, то дождь зарядит. Скорее бы уже родить. Ну когда же… Когда? Сил больше нет». Отец выходил на балкон, жмурился от яркого света и восклицал: «Иди уже домой, хватит комаров кормить!».
Сейчас на скамейке нет мамы. Идёт дождь. А мамы нет. Совсем. Лёнька стоит под козырьком подъезда и смотрит на пустую мокрую скамейку, на лужи на асфальте, в которые шлёпаются капли, на разбухшие, распластанные цветы. Тяжёлый, тягучий запах смешивается со свежестью дождя, стелется низко.
Мама больше не увидит дождь. Не присядет на эту скамейку, не вдохнёт сладковато-травяной аромат, не поднимется по лестнице и не скажет жизнерадостно: «Ну-ка, зайчики мои, давайте ужинать!».
Никогда. Никогда.
Зачем тогда всё? Зачем эти глупые цветы, которые она любила? И зачем сам Лёнька?
Паренёк шагает под дождь. Крупные капли стучат по макушке, стекают по шее, по лицу. И туча низко, кажется, что застряла между ветками большого тополя.
Ещё шаг до клумбы. И руки безжалостно тянутся к мясистым стеблям. Листья стряхивают дождевую воду в Лёнькины рукава. Сыплются на землю розовые и бордовые лепестки, «тук» – ломаются стебли.
– Ты чего творишь, ирод? – из окна первого этажа высовывается старушка. – Эй! Эй! Лёнька! Чего творишь! Ну-кось уйди от клумбы!
Через минуту она появляется в дверях подъезда с клюкой наперевес. Но уже поздно. Все пионы сорваны. Лёнька держит их в охапке, как большой разлапистый сноп. И старушкина клюка впечатывается мальчишке в спину:
– Окаянный! Чего натворил. Не сажал, не растил. А сгубил. Потащишь, небось, теперь девке своей крашеной. Паразит. Чтоб тебе пропасть.
Старушка обречённо садится на мокрую лавочку, ей уже всё равно. Рядом садится Лёнька. Ему тоже всё равно. От удара почему-то потекли слёзы. Хорошо, что сейчас не понять, где слёзы, а где дождь.
Из подъезда выходит отец, кивает сыну. Лёньке не хочется идти. Тогда исчезнет последняя надежда.
– Глянь, чего учудил. Все цветики наши оборвал, гадёныш, – жалуется соседка. – Родила твоя-то?
Отец цедит сквозь зубы:
– Родила. Девочку. Саму только не спасли. Умерла.
Старушка крестится, печально шепчет что-то.
И неуклюже гладит сморщенной сухой кистью Лёнькино плечо.
– Прости, милой. Прости…
Отец и мокрый жалкий Лёнька с растерзанным осыпающимся букетом уходят на автобусную остановку.
И Лёньке в его кошмарах, в бреду, в забытье будет мерещиться этот тяжёлый дух пионов, способный достать везде, как ни прячься.
Смерть на кончиках пальцев
Отец умер ночью. Лёнька это понял, когда зашёл к нему в комнату, чтобы выключить настойчиво гремящий будильник. Острые, громоздкие, будто каменные глыбы, – очертания тела под одеялом. Паренёк прикоснулся кончиками пальцев к ледяной твёрдой скуле. Взглянул в полуприкрытые глаза. Потом осторожно вышел и быстро закрыл за собой дверь.
Катя с Надей собирались в школу, уговаривали непослушного Серёжку надеть шапку-шарфик-рукавички, натягивали зимние пуховые рейтузы на тихую Кристину – повезут малышей в детский садик на санках, изображая лошадок, по молодому ноябрьскому снежку. Пусть скорее идут вон.
Лёнька сегодня оставался дома с Кулёчком – шестимесячной Акулинкой – такой у них был заведён порядок: если отец уходил на смену, дома оставался кто-то из старших детей – Лёнька или Катя. Пост сдал – пост принял. Акулинка ещё спала. С точки зрения опытного Лёньки, пережившего младенчество трёх сестёр и одного брата, – она вообще очень много спала и ела. Наверное, чувствовал этот маленький Кулёчек, что только так и получится выжить. Сегодня Лёнька не мог ждать, пока она проснётся. Прости, Кулёчек.
Пойти на кухню и подогреть смесь. Действия до автоматизма. Лис тряс тёплой бутылочкой, приторно-сладко пахнущей порошковым молоком. Эту смесь в сухом виде (во рту она становилась вязкой) за милую душу – ложками – лопали все остальные. Потом кидали облизанную ложку в банку, там её облепляли крупинки смеси, склеивались, застывали, портились. Младшие получали по жопе (смесь была дорогая), но потом всё повторялось снова.
Брат раскутал спящую сестрёнку, размотал мокрые пелёнки, стащил ползунки, распашонку, переодевать в сухое не стал – всё равно сейчас напрудит, когда будет есть, только обернул в просторную рубашку, взял на руки, хныкающую, и сунул бутылочку. Акулинка обняла бутылку двумя руками и зачмокала. Засвистела, зациркала соска. Лёнька чувствовал сестрёнкино тепло – оно стирало ледяное ощущение на кончиках пальцев от прикосновения к лицу отца. Ловко, одной рукой, он сдёрнул и скомкал с кроватки мокрое, кинул на пол, взял и застелил чистую пелёнку – вот они – аккуратной стопочкой сложены на столе, хоть и не глажены. Акулинка наелась и снова задремала. Лёнька положил её в кроватку, немного покачал, потом подхватил грязное, понёс в стирку. В коридоре остановился.
На стене висел чёрный дисковый телефон. Лис посмотрел на него долгим-долгим взглядом. Потом медленно подошёл, снял трубку, вставил палец в прозрачный кружочек – снова это ледяное мучительное… Покрутил, переставляя палец на нужные цифры – тр-тррррр, тр-тррр, тр-трррррррррр… Дождался жизнерадостного:
– Слушаю!
– Алё… Тётя, это Лёня…
– Здравствуй, что-то случилось?
– Да… Папа… Умер…
В трубке молчание, завивается чёрный провод, по щекам, по пальцам, по трубке текут Лёнькины горькие слёзы…
Наконец тётя спросила сдавленным, хриплым голосом:
– Когда?
– Ночью… И… Лежит… В кровати…
– Господи! Ничего не трогай. Жди. Я приеду через… Три часа.
Короткие гудки…
И тогда Лис разрыдался в голос. Сел на пол и завыл, подняв мокрое лицо к пожелтевшей побелке потолка.
Проснулась и закричала Акулинка. Лёнька утёрся рукавом рубашки и бросился к ней. Подхватил на руки. Зашагал туда-сюда перед закрытой дверью – из щелей тянуло ледяной тишиной.
– Слушай, Кулёчек, слушай, – всхлипывал Лёнька, а потом запел:
Что такое осень? Это небо,
Плачущее небо под ногами.
В лужах разлетаются птицы с облаками,
Осень, я давно с тобою не был.
Осень, в небе жгут корабли,
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень – темная даль…
Это была любимая песня отца.



