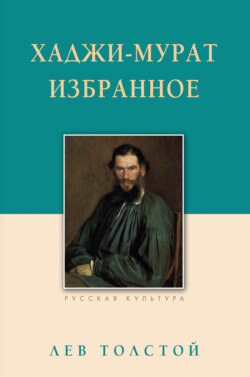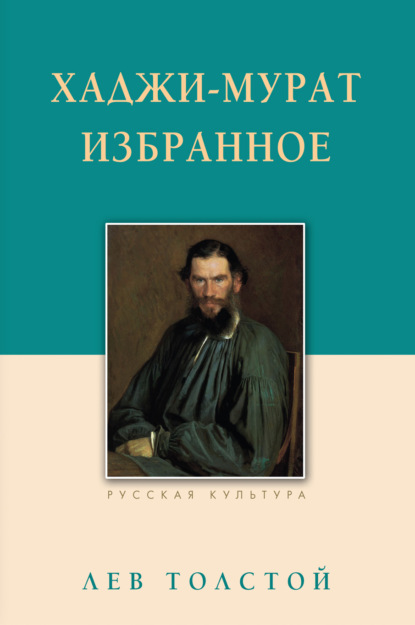© ООО ТД «Белый город», 2019
Набег
Рассказ волонтера
Глава I

Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев, – воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их, а интересовал меня самый факт войны – убийство. Мне интереснее знать, каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве.
Для меня давно прошло то время, когда я один расхаживал по комнате и, размахивая руками, воображал себя героем, сразу убивающим бесчисленное множество людей и получающий за это чин генерала и бессмертную славу. Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что еще удивительнее, убивать себе подобных? Мне всегда хотелось думать, что это делается под влиянием чувства злости; но нельзя предположить, чтобы все воюющие беспрестанно злились, и я должен был допустить чувство самосохранения и долга.
Что такое храбрость, это качество, уважаемое во всех веках и во всех народах? Почему это хорошее качество, в противоположность всем другим, встречается иногда у людей порочных? Неужели храбрость есть только физическая способность хладнокровно переносить опасность и уважается как большой рост и сильное сложение? Можно ли назвать храбрым коня, который, боясь плети, отважно бросается под кручу, где он разобьется; ребенка, который, боясь наказания, смело бежит в лес, где он заблудится; женщину, которая, боясь стыда, убивает свое детище и подвергается уголовному наказанию; человека, который из тщеславия решается убивать себе подобного и подвергается опасности быть убитым?
В каждой опасности есть выбор. Выбор, сделанный под влиянием благородного или низкого чувства, не есть ли то, что должно называться храбростью или трусостью? Вот вопросы и сомнения, занимавшие меня и для решения которых я намерен был воспользоваться первым представившимся случаем побывать в деле.
Летом 184… года я жил на Кавказе в маленькой крепости N.
Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке, – форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его, – вошел в низкую дверь моей землянки.
– Я прямо от полковника, – сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил. – Завтра батальон наш выступает.
– Куда? – спросил я.
– В NN. Там назначен сбор войскам.
– Оттуда, верно, будет какое-нибудь движение? – Должно быть.
– Куда же? Как вы думаете?
– Что думать! Я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала, привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли, этого, батюшка, не спрашивают: велено идти – и довольно.
– Однако если сухарей берут только на два дня, стало, и войска́ продержат не долее.
– Ну, это еще ничего не значит…
– Да как же так? – спросил я с удивлением.
– Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!
– А мне можно будет с вами идти? – спросил я, помолчав немного.
– Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..
– Нет, уж позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться случая видеть дело, и вы хотите, чтобы я пропустил его.
– Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с Богом. И славно бы! – сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.
– И чего вы не видали там? – продолжал убеждать меня капитан. – Хочется вам узнать, какие сражения бывают? Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» – прекрасная книга: там все подробно описано – и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.
– Напротив, это-то меня и не занимает, – отвечал я.
– Ну, так что же? Вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот, в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то… таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.
Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.
– Что, он храбрый был? – спросил я его.
– А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.
– Так, стало быть, храбрый, – сказал я.
– Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают…
– Что же вы называете храбрым?
– Храбрый? Храбрый? – повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. – Храбрый тот, который ведет себя как следует, – сказал он, подумав немного.
Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться.
Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.
– Да, – сказал я, – мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, – трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.
Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.
– Ну, уж этого не умею вам доказать, – сказал он, накладывая трубку, – а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.
Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и – живая грамота – могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.
– Вот это Неопалимой купины наша Матушка-Заступница, – сказала она, с крестом поцеловав изображение Божьей Матери и передавая мне в руки, – потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на Капказ, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образ Божьей Матери. Вот уж восемнадцать лет, как Заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, стражениях не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет – меня напугать боится.
(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)
– Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит, – продолжала она, – я его им благословляю. Заступница Пресвятая защитит его! Особенно в стражениях, чтоб он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.
Я обещался в точности исполнить поручение.
– Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку, – продолжала старушка, – он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю Бога, – заключила она со слезами на глазах – что дал Он мне такое дитя.
– Часто он вам пишет? – спросил я.
– Редко, батюшка: нешто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит жив и здоров, а коли что, избави бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери: капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.
– Да, славная старуха! – сказал он оттуда несколько глухим голосом. – Приведет ли еще Бог свидеться.
В этих простых словах выражалось очень много любви и печали.
– Зачем вы здесь служите? – сказал я.
– Надо же служить, – отвечал он с убеждением.
– Вы бы перешли в Россию – там вы были бы ближе.
– В Россию? В Россию? – повторил капитан, недоверчиво качая головой и грустно улыбаясь. – Здесь я все еще на что-нибудь да гожусь, а там я последний офицер буду. Да и то сказать, двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, тоже что-нибудь да значит.
– Неужели, Павел Иванович, по вашей жизни вам бы недоставало ординарного жалованья? – спросил я.
– А разве двойного достает? – подхватил горячо капитан. – Посмотрите-ка на наших офицеров: есть у кого грош медный? Все у маркитанта на книжку живут, все в долгу по уши. Вы говорите: по моей жизни… Что ж, по моей жизни, вы думаете, у меня остается что-нибудь от жалованья? Ни гроша! Вы не знаете еще здешних цен; здесь все втридорога!..
Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а самброталический табак. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.
Глава II
В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем[1], и незавидная азиатская шашчонка через плечо, самой жалкой наружности, – одна из тех шашек, которые можно видеть только у бедных офицеров и у переселенных хохлов, обзаводящихся оружием. Беленький маштачок[2], на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.
Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.
Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какою-то черной сплошной колеблющеюся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки, изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки[3], подле берега небольшой речки, которая в это время играла, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держидерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающею ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом – одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах самброталического табаку и трута показался мне необыкновенно приятным.
Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с тордоканьем[4] и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.
Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький, молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью… Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.
– И куда скачет? – с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.
– Кто это такой? – спросил я его.
– Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты… Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.
– Верно, он в первый раз идет в дело? – сказал я.
– То-то и радешенек! – отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. – Молодость!
– Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.
Капитан помолчал минуты две.
– То-то я и говорю: молодость! – продолжал он басом. – Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть – уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то?
Глава III
Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышался изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях – большею частью унтер-офицеры – шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди: иные, как говорится на Кавказе, джигитовали[5], то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою.
Сажен сто впереди пехоты на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, который хоть кому правду в глаза отрежет, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами[6], желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним, но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму «героев нашего времени», Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.
Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей – генералов, полковников, адъютантов, – даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени, – но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками[7] в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться, – но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороге, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие, поэтические чувства. Но любовница его – черкешенка, разумеется, – с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли, но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости, ночью, был пожар, и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.
Фамилия его была Розенкранц; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.
Глава IV
Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:
Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы…
Трай-рай, ра-та-тай…
В прошедшие годы…
В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми… Бедный мальчик! Он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, – не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился, наконец, на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил.
Одним словом, всем было хорошо, исключая, может быть одного офицера, который, сидя под ротной повозкой, проиграл другому лошадь, на которой ехал, с уговором отдать по возвращении в штаб, и тщетно уговаривал его играть на шкатулку, которая, как все могли подтвердить, была куплена у жида за 30 руб. сер., но которую он, единственно потомку, что находился в подмазке, решался пустить в 15. Противник его небрежно посматривал вдаль, упорно отмалчивался и наконец сказал, что ему ужасно спать хочется.
Признаюсь, что с тех пор, как я вышел из крепости и решился побывать в деле, мрачные мысли невольно приходили мне в голову; поэтому, так как мы все имеем склонность по себе судить других, я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но ни в ком я не мог заметить и тени малейшего беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы, игра, пьянство выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться назад по этой дороге, как будто все эти люди давно уже покончили свои дела с этим миром. Что это: решимость ли, привычка ли к опасности, или необдуманность равнодушие к жизни? Или все эти причины вместе и ещё другие, неизвестные мне, составляют один сложный, но могущественный моральный двигатель человеческой природы, называемый esprit de corps, – этот неуловимый устав, заключающий в себе общее выражение всех добродетелей и пороков людей, соединенных при каких бы ни было постоянных условиях, – устав, которому каждый новый член невольно и безропотно подчиняется и который не изменяется вместе с людьми? Потому что какие бы ни были люди, общая сумма наклонностей людских везде и всегда остается та же.