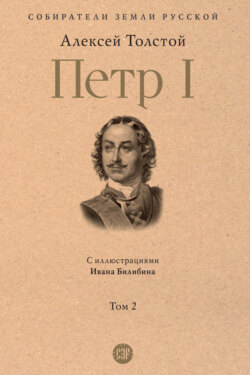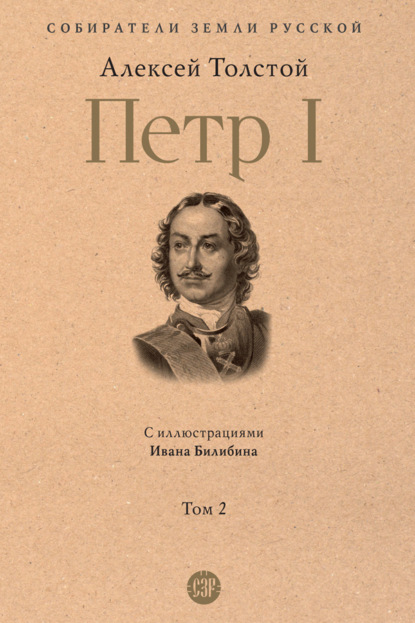© Российское военно-историческое общество, 2022
© Оформление. ООО «Проспект», 2022
А.Н. Толстой
Петр Первый
(продолжение)
Книга вторая
Глава первая
1
 РИЧАЛИ петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей – не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, – отвечали сторожа, – кругом шалят…»
РИЧАЛИ петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей – не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, – отвечали сторожа, – кругом шалят…»
Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, – открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, – садиться на паперти. Ругались вполголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки.
Босой, вприскочку, бежал юродивый, – вонючий, спина голая, в голове еще с лета – репьи. На паперти так и ахнули: в руке у божьего человека – кусище сырого мяса… Опять, значит, такое скажет, – по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, – ждет, когда народу соберется больше.
Стало видно на улице. Хлопали калитки. Шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками. Без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветреными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом, – видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья, обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. Три с половиной года, – сказано, – будет мнимое царство длиться…»

В прежние года в этот час в Китай-городе – шум и крик – тесно. Из Замоскворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по ярославской дороге везут живность, дрова, по можайской дороге – купцы на тройках. Гляди сейчас, – возишка два расшпилили, торгуют тухлятиной. Лавки – половина заколочены. А в слободах и за Москвой-рекой – пустыня. На стрелецких дворах и крыши сорваны.
Начинают пустеть и храмы. Много народа стало отвращаться: православные-де попы на пироги прельстились, – заодно с теми, кто этой зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура-голова, вдарь громче…» Звони не звони, народ идет мимо, не хочет креститься щепотью. Раскольники учат: «Щепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь меж ними. Известно, кто учит кукишем омахиваться».
Народу все-таки подваливало на улицах: боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людишки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут, – нюхали: тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за Неглинной шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатываясь на ухабах, спускались через Москву-реку на воронежскую дорогу. Конные драгуны, в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах, – усатые, будто не русские, – надрывались матерной руганью, замахивались плетями на возчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Наш-то в Воронеже с немками, с немцами вконец оскоромился!»
Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабатчик-целовальник. Обмерли, – никто не засмеялся, понимали, что – горе: у целовальника лицо – голое, – вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача, перекрестился на пять низеньких глав, хмуро сказал: «Заходите…»
Наискосок, на паперти, юродивый запрыгал по-собачьему, тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики, – дивиться… Счастье храму, где прибился юродивый. Но и опасно по нынешнему времени. У Старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтеся, али меня не узнали?..» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромодановскому.
Вдруг закричали: «Пади, пади!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, – ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка, – на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты…
А законную царицу Евдокию Федоровну этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь, навечно – слезы лить…
2
– Братцы, люди хорошие, поднесите… Ей-ей, томно… Крест вчера пропил…
– Ты кто ж такой?..
– Иконописец, из Палехи, мы – с древности… Такие теперь дела, – разоренье…
– Зовут как?
– Ондрюшка…
На человеке – ни шапки, ни рубахи – дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но – вежливый – человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно…
– Садись, чего уж…
Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик, с тонкой шеей, рассказывал:
– Казнили стрельцов. Ладно. Это – дело царское. (Поднял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается… Но…
Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки, – стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:
– То-та, что – но… Вот – то-та!
Хитрый мужик, помахивая на него пальцем:
– Мы сидим смирно… Это у вас в Москве чуть что – набат… Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать… Не о том речь, посадский… Вы, дорогие, удивляетесь, почему к Москве подвозу нет? И не ждите… Хуже будет… Сегодня – и смех и грех… Привез я соленой рыбки бочку… Для себя солил, но провоняла. Стал на базар, – еще, думаю, побьют за эту вонищу, – в час, в два все расхватали… Нет, Москва сейчас – место погиблое.
– Ох, верно! – Иконописец всхлипнул.
Мужик поглядел на него и – деловито:
– Указ: к масленой стрельцов со стен поснимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся? А посады на что? Обяжи конной повинностью посады.
Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:
– Эх ты, пахарь… Ты бы походил зиму-то мимо стен. Метелью подхватит, начнут качаться. Довольно с нас и этого страха.
– Конечно, их легче бы сразу похоронить, – сказал мужик. – В прощеное воскресенье привезли мы восемнадцать возов, не успели расшпилить – налетают солдаты: «Опоражнивай воза!» – «Как? Зачем?» – «Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку, – опрокинули, дьяволы. «Ступай, кричат, к Варварским воротам…» А у Варварских ворот навалено стрельцов сотни три… «Грузи, такой-сякой…» Не евши, не пивши, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи… Вернулись на деревню, – в глаза своим смотреть стыдно.
К столу подошел незнакомый человек. Стукнув донышком, поставил штоф.
– На дураках воду возят, – сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом: – Бывайте здоровеньки. – Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.
Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:
– Мужик – дурак, дурак, знаешь, – мужик понимает… (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крякнул.) Нет, дорогие мои… (Потянулся за чесночной головкой.) Утресь – видели – обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные – плати, по кабальным – плати, кормовые боярину – дай, повытошные в казну – плати, мостовые – плати, на базар выехал – плати…
Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик пресекся, – шмыгнул.
– Ладно… Теперь – лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут… Нет, дорогие мои… В деревнях посчитайте, – сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите… Ныне наготове бежать мало не все. Мужик – дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть… (Взялся за бородку, поклонился.) Мужик лапти переобул и па-ашел куда ему надо.
– На север. На озера… В пустыни! – Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.
Мужик отстранил: «Помолчи!» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол.
– Ребята, – зашептал, – действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Матка-озеро, на Выг-озеро… Там тихо… (Дрогнув вспухшими щеками.) Только те, кто уйдет, – те и живы будут…
У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз, – стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому.
– Он верно говорит… Мы в Палехе к великому посту шестьсот икон написали. По прежним годам это – мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Письмо наше светлое, титл Исуса с двомя «иже». Рука, благословляющая со щепотью. И крест пишем – крыж – четырехконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берут, – гостинодворцы Корзинкин, Дьячков, Викулин, – говорят нам: «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа…» – «Как лапа?» (Иконописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами.) «А так, говорят, след его лапы… Птичий след на земле видели, – четыре черты?.. И у вас на иконах тот же…» – «Где?» – «А крыж… Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет…»
Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли… Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал… и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:
– А табак? В каких книгах читано – человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублев все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову – продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву-никоциану курили… Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь, – тьфу, будь она проклята! Похоть антихристова, – картовь! Все это зелье – из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики… Чай кто пьет – отчается… Кто кофей пьет – у того на душе ков… Да – тьфу! – сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое…
– Торгуешь-то чем? – спросил пегобородый.
– Да какая теперь торговля… Немцы торгуют, а мы воем. Овсея Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка… Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали… Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восемьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно… Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен… А теперь не знаем, как и душу спасти…» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались… Нет стрельцов, – бери нас голыми руками… Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите.
– Вот хлеб съедим, к весне все разбредемся, – сказал мужик твердо.
– Братцы! – Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко. – Братцы, на севере – прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие…
В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался один, голый по пояс, без креста, молил – в долг чарочку… Одного выволокли за волосы в сени и там, надрывающе вскрикивая, били, – должно быть, за дело…
У стола остановился согнутый едва не пополам нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:
– Откуда залетел, сокол?
– Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал…
– Онвад с унод?[1] – в половину голоса быстро спросил согнутый.
– Ступай, – мы здесь явно…
Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский, – испугавшись:
– Это – кто ж такой?
– Путник на сиротской дороге, – строго сказал пегобородый.
– По-каковски с тобой говорил-то?
– По-птичьи.
– А ведь он тебя будто признал, парень…
– А ты поменьше спрашивай, умнее будешь… (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь… Мы – с Дону, по торговому делу.
Посадский живо придвинулся, заморгал:
– Чего покупаешь?
– Огневое зелье, – нужно бочек десять. Свинцу пудов полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное, гвозди. Деньги есть.
– Сукна доброго, железа достать можно… Свинец и порох – тяжело: мимо казны нигде не взять.
– То-то, что постараться – мимо казны.
– Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.
– Само собой…
Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается – сейчас приведет подьячего. Убежал. Мужику хотелось вмешаться в торговое дело. Наморща лоб, покашлял:
– Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милок? Ну, – скажите, пятьдесят пудов свинца… Воевать, казачки, что ли, собираетесь?
– Перепелов бить.
Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и – не глядя:
– Здравствуй, Иван.
– Здравствуй, Овдоким, – так же, не глядя, ответил пегобородый.
– Давно не видались, атаман.
– Побираешься?
– От немощи… Летась погулял в лесу легонько, – не те года. Надоело, – помирать надоть.
– Обожди немного.
– А что, – разве хорошее слышно?
Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо – углом рта:
– Дон поднимаем.
Овдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки.
– Не знаю, – проговорил, – слыхать – донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают.
– Пришлых много, гультяев. Они начнут, казаки подсобят… А не подсобят, – все равно – либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы, навечно… Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлых велят выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют… Конец тихому Дону…
– Для такого дела нужен большой человек, – сказал Овдоким, – не вышло бы, как тогда, при Степане…[2]
– Человек у нас есть, не как Степан, – без ума голову свою потерял, – прямой будет вож… Весь раскол за ним встанет…
– Смутил меня, Иван, прельстил, Иван, – а уж я собрался на покой…
– Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане…
– Едва ли, едва ли… Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй…
Запыхавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо – жаждущее, глаза – мутные, антихристовы, в ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь, из-за спины, ему на ухо:
– Кузьма Егорыч, вот человек, который…
– Блинов, – мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания, – блинов с тешкой…
3
Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему – Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался – и грудь и под мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно… Уа-ха-ха-ха-а-а… – позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, – мутно и скучно.
В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, – шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтораста, кто у возка – держат коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину… Под ручки, под бочки подсаживали в возок… Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец – ждать, когда государевы светлые очи (а после – царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался.
Все минуло! Проснешься – батюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь. Вон висит на тесовой стене – где бы ничему не висеть – голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то на смех, не то в наказание. Терпи…
Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде – вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?
– Мишка! – сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) – Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та… Лей на руки…
Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся, – противно такое бритое, колючее мыть… Ворча, сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.
– Это еще что?! – крикнул Роман Борисович.
– Зубы чистить.
– Не буду!
– Воля ваша… Как царь-государь говорил надысь зубы чистить, – боярыня велела каждое утро подавать.
– Кину в морду блюдцем… Разговорчив стал…
– Воля ваша.
Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, – жмет, тесно, жестко… Зачем? Но велено строго, – дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике. Терпи! Снял с гвоздя парик (неизвестно – какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.
– Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?
– Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим…
– Знаю… Не скаль зубы.
– Воля ваша…
Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем…
Было отчего задуматься… Ведь так если дальше пойдет, – всем великим родам, княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты, – взялись дворянство искоренять! Искорени… При Иване Грозном пробовали так-то – разорять княженецкие фамилии. Получилась гиль, смута. И ныне будет гиль. Становой хребет государству – мы… Разори нас, – и государства нет, жить незачем. Холопами, что ли, царь, будешь управлять? Чепуха! Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил…»
Роман Борисович поправил очки, начал читать – гнусливо, по чину. Но мысли гуляли мимо строчек…
«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты… Пятьсот рублев взяли на воронежский флот… В воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну, – все амбары вычистили. Пшеницы было за три года урожая, – ждал, когда цену дадут… (От резкой досады горько стало во рту.) Теперь слышно – у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну… Солонины велено заготовить десять бочек. Ах, боже мой, солонина-то им зачем?»
Читал. За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны.
«На масленой бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженых налетало, – в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут… Кричат козлами, петухами, птицами».
Роман Борисович переступил с ноги на ногу, – вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами… И не смешно вовсе… Жена видела, Мишка видел… «Ох, господи! Зачем? К чему это?»
Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут, – в мир-де пришел льстец. Католики и лютеране – его слуги, иноземные товары – все с печатью антихристовою. Настал-де конец света.
Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался. «Невероятно… Господь не допустит пропасть русскому дворянству. Обождать да потерпеть. Эх-хе-хе…»
Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув немалой толщины тетрадь, где было записано все касательно – кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами, или хлебом, или запасами, – медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.
В палату вошел старший приказчик Сенка, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя – в меру, по совести, и – хоть режь его – никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, сознавайся!..» Сенка, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на бога. Только, когда оставят его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет.
– Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед тобой ни в чем не виноват.
Сенка влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и стал на колени.
– Ну, Сенка, что скажешь хорошего?
– Все слава богу, Роман Борисович.
Сенка, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть – с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иваньково и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правеж[3]…
Роман Борисович удивился, приоткрыл рот, – неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублев, – избу-де новую справить; да сбрую, да лемех новый, да на семена. Коська взял тридцать семь рублев с полтиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство.
– Ах сволочи, ах мошенники! Ты бить-то их велел батогами?
– С вечера бьют, – сказал Сенка, – двое приставлены к каждому – бить без пощады. Что ж, Роман Борисович, батюшка, вам горевать: Федька с Коськой не заплатят, – против их долга у нас кабальные расписки, – возьмем обоих в кабалу лет на десять. Нам рабы нужны…
– Деньги мне нужны, не рабы! – Роман Борисович бросил на стол гусиное перо. – Рабов пои-корми – царь опять в солдаты возьмет…
– Деньги нужны – сделайте, как у Ивана Артемича, у Бровкина: поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно. От денег мошна лопается…
– Да, слышал… Врешь ты, чай, все.
Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу, Сенка чуть не каждый день поминал про него: явно, хотел на этом деле уворовать немало. А вот Нарышкин, Лев Кириллович (дядя государев), тот поступает вернее: деньги дает в Немецкой слободе одному голландцу, Ван-дер-Фику, и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост, и Нарышкину с тех денег на каждый год идет с десяти тысяч шестьсот рублев одного росту. «Шестьсот рублев – не пито, не едено!..»
– Жили деды, забот не ведали, – проговорил Роман Борисович. – А государство крепче стояло. (Надел в рукава поданную Сенкой шубу на бараньем меху.) С государем сидели, думу думали, – вот какие были наши заботы… А тут не рад и проснуться…
Роман Борисович пошел по лестницам, – вниз и вверх, – по холодным переходам. По пути отворил забухшую дверь, – оттуда пахнуло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика, – босые, в одних рубахах, – валявшие баранью шерсть.
– Ну, ну, работайте, работайте, бога не забывайте, – сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу. Девки и девчонки, душ двадцать, встав от столов и пялец, поклонились в пояс. Боярин закрутил носом.
– Ну, тут у вас и дух, девки… Работайте, работайте, Бога не забывайте…
Заглянул Роман Борисович и в швальню и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяли кожи руками. Сенка, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У колодца поили овец. От ворот до сеновала стояли возы с сеном. Мужики сняли шапки.
– Мужички, маловаты воза-то! – крикнул Роман Борисович.
Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся по-черному, шли дымки, сбиваясь ветром, – застилали двор. Повсюду – кучи золы и навоза. Морозное тряпье хлопало на веревках. Около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, завидев на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков по заду и ляжкам.
– Ой, ой, господи, за что?.. – стонали Федька и Коська.
– Так, так, за дело, всыпь еще, – поддакивал с крыльца Роман Борисович.
Федька, длинный, рябой, красный мужик, – обернувшись:
– Милостивец, Роман Борисович, да нет у нас. Ей-богу, хлеб до рождества съели. Скотину, что ли, возьми, – разве можно эдакую муку терпеть.
Сенка сказал Роману Борисовичу:
– Скотина у него мелкая, худая, он врет… А можно взять у него девку, – в пол его долга. А остальное доработает.
Роман Борисович сморщился, отвернулся.
– Подумаю. Вечор потолкуем.
За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие», – пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату – пить кофей.
* * *
Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчовая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня – в русском, темного бархата, просторном летнике, на голове – иноземный чепец. Княжны – в немецких робах со шлёпами[4]: Наталья – в персиковом, Ольга – в зеленом, полосатом, старшая – Антонида – в робе цвета «незабвенный закат». У всех волосы взбиты, посыпаны мукой. Щеки кругло нарумянены, брови подведены, ладони – красные.
Прежде, конечно, и Авдотье и девкам в столовую палату и ходу не было: сидели по светлицам у окошечек за рукодельем, в летнее время – в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату: «Где дочери? Посадить за стол…» (Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур – без памяти.) Царь помял каждую – за подбородок: «Танцевать умеешь?.. (Какое там, – у девок от стыда слезы из глаз прыщут.) Научить… К масленой плясали б минувет, польский и контерданс…» Взял князя Романа за кафтан, не шутя тряхнул: «Сделать в доме политес изрядный, – запомни!» Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно – пьют, бесстыжие… Недолго погодя смеяться начали, будто им и не в диковину.
Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзки, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра, разодевшись, делают плезир, – пьют чай и кофей.
Роман Борисович вошел в палату. Покосился на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась:
– Здравствуй, батюшка.
Антонида зашипела на мать:
– Сядьте, мутер…
Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку калганной, закусить чесночком… Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут…
– Чего-то кофей не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли… Мать, поднеси крепкого.
– У вас, фатер, один разговор кажное утро – водки, – сказала Антонида, – когда вы только приучитесь.
– Молчи, кобылища, – закричал Роман Борисович, – ай, залетку возьму…
Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному, с поклоном, поднесла чарочку, шепнула:
– Да поешь ты, батюшка, вволю.
Выпил, отдулся. Грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжичков соленых рубленых, с лучком. Жуя пирожок маленький, – черт-те с чем, – спросил про сына:
– Мишка где?
– Арифметику, батюшка, заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет…
Рябоватая Ольга, самая дотошная до политеса, проговорила, морща губы:
– Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился…
– Дитя он малое еще, – простонала Авдотья.
Молчали некоторое время, Наталья, младшая, – смешливая, вертлявая, – нагнулась к окошечку (в оконницы недавно вставили стекла вместо слюды).
– Ах, ах, девы! Гости приехали…
Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки – убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом (по-прежнему – дворецкий), старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола – делать галант гостье: трясти перед собой шляпой, лягать ногами… А перед кем ломаться-то князю Буйносову! Эту боярыню Волкову семь лет назад Санькой звали, сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец, Ивашко Бровкин, был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться. Видишь ты, – мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала! Муж у царя в милости… (Муж ее приходился князю Роману двоюродным племянником.) Отцу дьявол помог, вылез в купчины, теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.
Мажордом раскрыл дверь (по-старинному – низенькую и узкую), зашуршало розово-желтое платье. Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки, с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, – атласный башмачок с каблуком вершка в два, – присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой, страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы:
– Бонжур, прынцес!
Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостью глазами. Роман Борисович взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу – откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.
– Ах, ах, куафа на китовом усе, конечно.
– А нам-то прутья да тряпки подкладывают.
Санька им отвечала:
– С куафер чистое наказанье: на всю Москву один. На масленой дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные – так и спали на стуле. Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.
– Почтенному Ивану Артемичу поклон передайте, – сказал князь. – Как заводик его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное.
– Тятенька в Воронеже. И Вася в Воронеже, при государе.
- Александр I
- Борис Годунов
- Василий III. История государства Российского
- Двоевластие. Роман о временах царя Михаила Федоровича
- Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного
- Петр I. Том 1
- Петр I. Том 2
- Петр I. Том 3
- Дмитрий Донской
- Иван III
- Александр II, или История трех одиночеств
- Анна Иоанновна
- Елизавета Петровна
- Екатерина Великая
- Император Александр III
- Василий I. Воля и власть
- Младший сын. Князь Даниил Александрович Московский
- Владимир Путин. Из летописи XXI века