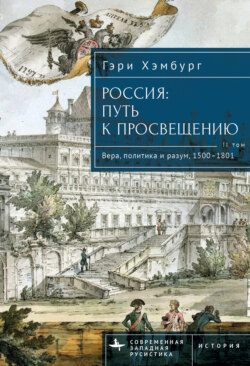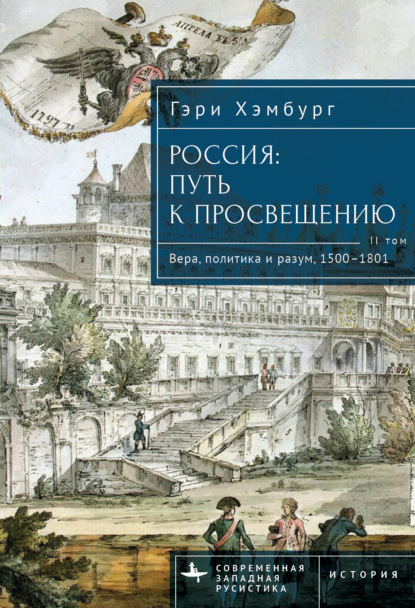Посвящается Нэнси, Рейчел и Майклу, а также памяти моих родителей
Часть III
Устремленность к свету
1762–1801
Глава 8
Екатерина II и Просвещение
В России конца XVIII века никто так не способствовал распространению философских идей, как императрица Екатерина II. Сама она не была оригинальным и последовательным мыслителем, но с первых лет своего правления стала неутомимым популяризатором умеренных политических идей, заимствованных у барона Монтескьё, Чезаре Беккариа, Дени Дидро, Франсуа Кенэ, а также у немецких юристов, – Якоба фон Бильфельда и Иоганна фон Юсти – работавших в реформаторской политической парадигме. Конечно, у Екатерины были веские политические причины для поощрения философов: она была убеждена, что их советы могут оказаться полезными в отношениях с Европой, а также предчувствовала, что их моральный авторитет среди образованной публики может оказаться полезным. Но не стоит недооценивать и ее искренний энтузиазм в восприятии их идей. Вскоре после приезда в Россию в 1744 году она прочитала «Размышления о причинах величия и падения римлян» Монтескьё (1734) и, вероятно, в 1754 году – его же «О духе законов» (1748) и «Эссе о всеобщей истории» Вольтера (1754). По воспоминаниям Екатерины, начав читать Вольтера, она стала искать книги «с бо́льшим разбором», чем прежде; чтение Монтескьё вместе с «Анналами» Тацита произвело «необыкновенный переворот» в ее представлениях о политике [Екатерина II 1907a: 62, 255, 366; Cruise, Hoogenboom 2005: 21–22, 48, 138]. В начале царствования, когда ее трон был еще шаток, она начала свою знаменитую переписку с Вольтером. Однако потребностью Екатерины в одобрении Вольтера можно объяснить лишь начало этой переписки, но не ее длительность: она продолжалась до 1778 года, еще долго после того, как политическое положение императрицы упрочилось1.
Изабель де Мадарьяга задалась вопросом, что известно историкам о политических взглядах Екатерины до ее восшествия на престол [Madariaga 1998b: 238–240]. В начале 1762 года, читая сочинение д’Аламбера о шведской королеве Кристине (годы жизни: 1626–1689, годы правления: 1633–1654), Екатерина с одобрением отметила стремление Кристины к тому, чтобы монархи несли свое служение в соответствии с законом. В том же году будущая императрица записала высказывание д’Аламбера о том, что «с точки зрения гражданина, политическая свобода состоит в гарантии, что он защищен законами, или, по крайней мере, в вере в эту гарантию». Рабство в среде свободных народов Екатерина считала «противоречием христианскому закону и справедливости»; она также выражала желание постепенно освободить русских крепостных [Madariaga 1998b: 238; Екатерина II 1901–1907, 12: 607–612]. Наибольшее влияние на мышление Екатерины до захвата ею власти оказал Монтескьё. Когда Ф. Г. Штрубе де Пирмонт опубликовал свои «Русские письма» (1760), в которых утверждал, что между деспотизмом, как его определяет Монтескьё, и монархией при плохом правителе нет особой разницы, Екатерина раскритиковала его за непонимание глубины анализа деспотизма у Монтескьё. По ее мнению, Россия действительно была деспотией, как и говорил Монтескьё. Действительно, Российская империя не могла управляться иначе, как посредством сильной централизованной власти, «потому что лишь с ее помощью возможно с необходимой быстротой устранить трудности, возникающие в отдаленных провинциях, ибо другие формы правления, будучи недейственны, препятствуют предприятиям, от которых зависит жизнь государства» [Madariaga 1998b: 239]2. Таким образом, по мнению де Мадарьяга, политическое мышление Екатерины до прихода к власти было непоследовательным: будущая императрица одобряла правовое государство, но в то же время поддерживала идею унитарной централизованной власти; она считала, что российские дворяне не имеют никаких прав по сравнению с их западными коллегами; сетовала на крепостное право и надеялась на его постепенную отмену [Madariaga 1998b: 240].
Широкую известность в Европе Екатерине как политическому мыслителю принесло ее сочинение «Наказ Комиссии о составлении проекта новаго уложения» (1767), также именуемое «Большой наказ» или просто «Наказ». Как отмечает де Мадарьяга, «Наказ» иногда ошибочно понимают как «серию законов» для России или даже как ее «конституцию» [Madariaga 1998b: 235]. На самом деле «Наказ» был одновременно достаточно простым изложением законодательных принципов, на основании которых предполагалось составить новый свод законов, иллюстрацией политического применения философии просвещения и пропагандой, в которой российская монархиня представала просвещенной, прогрессивной европейской правительницей. «Наказ» состоял из 20 глав, разбитых на 526 статей, и двух приложений, содержащих еще 129. По замечанию Н. Д. Чечулина, редактора издания «Наказа», подготовленного Академией наук, бо́льшая часть текста была заимствована, часто дословно, из новейших работ по политической философии. Например, Чечулин обнаружил, что из 526 статей «Наказа» 284 были заимствованы из «Духа законов» Монтескьё. Многие заимствования были дословными, другие претерпели незначительные редакторские правки (например, замена слов «государь» на «князь» или «свобода» на «право гражданина»). Еще 108 статей были заимствованы из работы Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764), несколько статей – из «Наставлений политических» (1760) Я. Ф. фон Бильфельда, «Основания силы и благосостояния Царств» И. Г. Г. Юсти (1760–1761), «Энциклопедии» (1751–1765) Д. Дидро, «Естественного права» (1765) Ф. Кенэ. Всего, по подсчетам Чечулина, из других источников были заимствованы не менее 469 статей «Наказа» [Чечулин 1907: CXXIX–CXLIV]. По сдержанному выражению Чечулина, «значение “Наказа” как самостоятельного произведения, таким образом, надо признать не весьма высоким» [Чечулин 1907: CXLV].
Тем не менее в защиту Екатерины следует сказать, что расположение заимствованного материала было достаточно логичным. От общей картины состояния России и ее потребности в хороших законах «Наказ» переходит к обсуждению преступлений, наказаний, судебной системы, торговли, образования, российского общественного устройства, процесса составления новых законов. Екатерина вполне логично соединяла заимствованные фрагменты и свои собственные взгляды (которые составляли примерно четверть статей «Наказа»). Правда, местами она допускала повторения в заимствованиях, иногда игнорировала противоречия между ними. Пожалуй, наиболее серьезное противоречие Екатерина допустила по вопросу о смертной казни: статья 79, заимствованная из Монтескьё, оправдывает смертную казнь в отношении убийц, тогда как в статьях 209–212, взятых у Беккариа, утверждается, что «в обыкновенном состоянии общества» смертная казнь недопустима [Чечулин 1907: CXLV].
Опубликованная редакция «Наказа» была, по сути, вторым черновиком первоначального проекта Екатерины. Поскольку Екатерина была не только интеллектуалом, но и искусным политиком, ее реакция на критику различных кругов общества может помочь нам лучше понять, в каком духе она составляла «Наказ», редактировала его и затем представила на суд общественности.
Как отмечает Ю. В. Стенник, первоначальный вариант «Наказа» Екатерина написала на французском языке, а затем показывала различные главы первоначального черновика своим помощникам. Например, она попросила своего кабинет-секретаря Г. В. Козицкого прочитать и переформулировать ее идеи по проблемам крестьянства и крепостного права [Стенник 2006: 125–143]. Первый вариант целиком она давала читать по крайней мере шести лицам: своему канцлеру графу М. И. Воронцову, генералу А. И. Бибикову, вице-президенту одной из своих канцелярий В. Г. Баскакову, епископу Тверскому Гавриилу (Петрову), иеромонаху Платону (Левшину) и писателю А. П. Сумарокову. Мы не знаем, почему именно эти люди были выбраны ею в качестве первоначальной аудитории «Наказа», но можно предположить, что она хотела узнать мнение представителей политически активного дворянства (Воронцов), армии (Бибиков), имперской бюрократии (Баскаков), «просвещенных» церковных деятелей (епископ Гавриил и иеромонах Платон) и образованной публики (Сумароков).
Первый из сохранившихся откликов императрице был лестным: 23 сентября 1765 года Воронцов благодарил Екатерину за то, что она, «яко истинная матерь, о детях своих пекущаяся», соизволяет «распространять… свои дарования в установлении прочных законов на будущия времена, к благополучию общенародному… постановляя… утверждение самодержавной вашей власти в свободе и преимуществе российскаго дворянства и вообще каждаго безопасность правосудия и милосердия твоего» [СИРИО 1867–1916, 10: 76]. Баскаков в мае 1766 года похвалил императрицу, засвидетельствовав, что, читая «Наказ», «приходил многократно в радостное восхищение», но затем предостерег ее, написав, что она, возможно, зашла слишком далеко в своем стремлении безоговорочно запретить пытки. Баскаков посоветовал ей статью об отмене пыток дополнить словами «кроме необходимых случаев» – эта оговорка оказалась весьма кстати во время Пугачевского бунта 1773–1774 годов [СИРИО 1867–1916, 10: 76, 79]. Воронцов и Баскаков, каждый в своем роде, были типичными успешными сановниками, доставшимися Екатерине в наследство от предыдущих царствований: Воронцов был богатым помещиком, который хотел быть уверенным, что Екатерина ничем не ущемит «вольности» дворянства, а Баскаков – опытным функционером, заботившимся о сохранении «гибкости» правительства в борьбе с угрозами снизу.
Генерал Бибиков в своем ответе проявил бо́льшую независимость мышления, чем два предыдущих рецензента. Он отметил, что в «Наказе» не проводится четкого разграничения между государственным и гражданским законом, что Екатерина не совсем точно определила разницу между государственными и моральными преступлениями, а также неточно описала роль Сената в законотворчестве [СИРИО 1867–1916, 10: 76–77]. Эти недостатки «Наказа» были очевидны не только с теоретической, но и с практической точки зрения: действительно, как мы увидим ниже при обсуждении предложений Никиты Панина и Гавриила Державина по реформированию процесса принятия решений в империи, вопрос о статусе Сената был спорным моментом в российской высшей политике на протяжении всего царствования Екатерины и после него.
Наиболее критические оценки из числа избранных Екатериной читателей исходили от Сумарокова. Благодаря своим успехам как поэта и драматурга, а также недавнему пребыванию на посту директора «Русского для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге (1756–1761) Сумароков в 1766 году был, пожалуй, самым известным русским писателем. Несмотря на то что он был откровенным монархистом, во многих его пьесах осуждалась тирания как нарушение нравственного порядка. Поэтому Екатерина, вероятно, направила Сумарокову «Наказ» не только для того, чтобы проверить реакцию литературного мира на свои политические идеи, но и для того, чтобы заручиться его личной поддержкой своей теории разумного законодательства.
Согласно Стеннику, Сумароков без замечаний согласился с идеей императрицы о том, что государь России должен быть самодержцем, «ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно со пространством столь великого государства», но отверг ее мысль, что самодержавное правительство может управлять в духе «умеренности». По выражению Сумарокова, «умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости» [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. По его мнению, главной внутренней обязанностью государства должно быть наказание преступников, ибо только неумолимое правосудие предотвращает будущие преступления. К политической теории Екатерины Сумароков отнесся как к собранию милых, наивных отвлеченностей, которые неприменимы в России [Стенник 2006: 141–142.] Он порицал ее за предложение предоставить депутатам Уложенной комиссии пожизненный иммунитет от смертной казни, пыток и телесных наказаний: по его мнению, предоставление иммунитета одним только депутатам, а не всей стране было бы ошибкой, «ибо правосудию изъятия нет». Он также высказался против плана Екатерины разрешить депутатам выносить рекомендации большинством голосов; он хотел, чтобы делегаты направляли свои мнения на рассмотрение императрицы [СИРИО 1867–1916, 10: 83]. В этом мнении выразилось неприятие Сумароковым правительства парламентского типа [Стенник 2006: 131].
Теории Екатерины о восьми видах права (божественное, церковное, естественное, народное, общественное, военное, гражданское, семейное), которую она почерпнула из чтения Монтескьё, Сумароков противопоставил свою теорию о трех видах права (право религии, право естества, воля монарха). Нравственный закон, который человек может познать из Священного Писания и церковного учения, он рассматривал как исток естественного права, на котором, в свою очередь, основано позитивное право. Естественное право он определял следующим образом: «1. Познавати Бога и добродетель. 2. Искати своего блаженства без ущерба ближнему. 3. Искати блаженства ближняго, без ущерба себе». Таким образом, естественное право, по его мнению, представляло собой совокупность этических постулатов, основанных прежде всего на религиозных максимах, но также рационально выводимых из нашего взаимодействия с обществом. Сумароков отверг надежды Екатерины на то, что существующие школы могут привить русским людям большее уважение к закону, написав, что «вместо наших училищей… потребны великие и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненный Монтескиу» [СИРИО 1867–1916, 10: 83]. По его интерпретации, Монтескьё предпочитает подзаконную вольность неволе. Сумароков, однако, едко замечает, что «невольник никогда не может быть верен… Но своевольство еще и неволи вреднее» [СИРИО 18671916, 10: 83–84]. Здесь Сумароков выражает беспокойство по поводу опасности рабской психологии, уходящей корнями в российское крепостное право: он считал, что при существующих социальных условиях только дворяне могли быть вольными по закону; предоставление свободы крепостным приведет к катастрофе. Убеждения Екатерины в том, что позитивное право должно учитывать народные обычаи и что человек по природе своей склонен к свободе, казались Сумарокову ошибочными. Он не считал, что в такой стране, как Россия, закон должен выводиться из народных обычаев. Напротив, мудрые законодатели, понимающие и отстаивающие нравственную истину, должны навязывать законы невежественному народу [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. Сумароков гораздо ниже, чем Екатерина, оценивал культурный уровень простого народа в России, а потому и возможности конструктивного законодательства в 1766 году он считал гораздо более узкими.
Сумароков был резко не согласен с намеками Екатерины на освобождение крепостных, высказанными в первоначальном проекте «Наказа». Екатерина утверждала, что разумное законодательство должно быть таким, «чтоб не приводить людей в неволю, разве крайняя необходимость к учинению того привлечет», поскольку следует «по силе нашей о благополучии всех людей пещися». Следуя Г. В. Козицкому, Екатерина приводит в пример жестокое обращение с илотами в Спарте, а также с рабами в Древнем Риме в качестве доказательства необходимости законодательного ограничения власти господ над рабами. Императрица безоговорочно одобряет наказание жестоких рабовладельцев в древних Афинах. Кроме того, императрица заявила, что каждый человек имеет право на пищу и одежду и что, исходя из гуманных соображений, закон должен их гарантировать. Она утверждала, что хорошее правительство должно обеспечить крепостным возможность приобретения собственности: «Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества и привесть их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу» [Стенник 2006: 136–140]. Сумароков, со своей стороны, утверждал, что хороший хозяин должен относиться к крепостным справедливо, ибо «иное быть господином, а иное тираном». Однако он не считал целесообразным законодательно обеспечивать справедливое отношение к крепостным по всей России, но полагал, что правительство должно положиться на нравственное чувство господ. При этом он подразумевал, что альтернативой доверию господам может быть только доверие крепостным, а доверять низшим сословиям он считал неразумным. Кроме того, по мнению Сумарокова, государство не должно входить в детали по поводу того, как именно хозяева должны кормить и одевать своих крепостных. «Служащие должны иметь пищу и одежду, – писал он. – Все имеют, а предписать господам, какую пищу и какую одежду нельзя» [СИРИО 1867–1916, 10: 85]. Наконец, Сумароков утверждал:
…сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах. Вотчины превратятся в опаснейшия им жилища; ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них [СИРИО 1867–1916, 10: 85–86].
Сумароков считал, что в принципе отмена крепостного права возможна, но для этого между господами и крепостными должно сначала установиться дружелюбие. «А это примечено [при мирном освобождении], что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет». Сумароков предсказал, что даже при отсутствии социальной вражды между бывшими господами и бывшими крепостными отмена крепостного права приведет к огрублению сельской жизни. «И только будут к опустошению деревень холопьи наборы, а как скоро чему нибудь его научит, так он и отойдет к знатному господину, ибо там ему больше жалованья; а дворяне учат людей своих: брить, волосы убирать, кушанье варить и пр. И так всяк будет тратить деньги на других, выучивая» [СИРИО 1867–1916, 10: 86].
В заключение Сумароков заявил Екатерине, что ее «Наказ» написан «высокопарно», а оттого «темно, глупо и безполезно». Он заметил, что законы должны быть простыми и ясными, по примеру Уложения Алексея Михайловича, в котором нет «чужих слов» и потому оно хорошо и вразумительно [СИРИО 1867–1916, 10: 87].
Реакция Екатерины на эти оценки первого проекта «Наказа» многое говорит о ее политических взглядах. Письма Воронцова и Бибикова она приняла без комментариев – возможно, потому, что была согласна с Воронцовым и не была уверена в том, как ответить Бибикову. На письме Баскакова она отметила: «Все его примечания умны» [СИРИО 1867–1916, 10: 82]. По поводу его совета разрешить пытки в крайних случаях она заметила: «О сем слышать не можно, и казус не казус, где человечество страждет» [СИРИО 1867–1916, 10: 79]. По поводу письма Сумарокова императрица выразила неудовольствие. Она обвинила его в том, что, размышляя о природе законов, он цитирует Монтескьё, «не разумея его» [СИРИО 1867–1916, 10: 84]. Усомнившись в том, что большинство русских дворян способны справедливо и без злоупотреблений обращаться с крепостными, она высмеяла мысль Сумарокова о том, что простой народ недостаточно цивилизован для разумного поведения. Она написала: «Бог знает, разве по чинам качества читать» [СИРИО 1867–1916, 10: 85]. Она с пониманием отнеслась к опасениям Сумарокова, что освобожденные крестьяне могут угрожать жизни бывших господ, но с сарказмом заметила, что и сейчас господа «бывают зарезаны отчасти от своих». На замечание Сумарокова об отсутствии у крепостного «благородных чувствий» она ответила: «и иметь не может в нынешнем состоянии» [СИРИО 1867–1916, 10: 86]. Наконец, в ответ на критику Сумарокова в отношении ее стиля она писала:
Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает. Чтобы быть хорошим законодавцем, он связи довольной в мыслях не имеет… Две возможности в сем деле есть: возможность в разсуждении законодавца и возможность в разсуждении подданных, или лучше сказать тех, для которых законы делаются. Часто прямая истина в разсуждении сих возможностей должна употребляема быть так, чтоб она сама себе вреда не нанесла, и более от добра отвращения, нежели привлечения не сделала [СИРИО 1867–1916, 10: 87].
Таким образом, в ходе первого чтения проекта «Наказа» Екатерина проявила себя как сторонница взглядов Монтескьё на ограниченную монархию; любительница «высокопарных» фраз, призванных воодушевить подданных к принятию нового правового кодекса; сторонница директивного подхода к изменению общества сверху. При этом чистую правду о своем проекте она готова была говорить только в том случае, если эта правда окажется полезной. На этом этапе своего царствования, еще до публикации «Наказа», она была принципиальной сторонницей просвещенного правления, но одновременно и высокомерным циником. Неудивительно, что в ответ на критику она внесла в «Наказ» лишь незначительные изменения, в основном смягчив предписывающие формулировки или добавив уточняющие пункты.
Обратимся теперь к опубликованной на русском языке редакции «Наказа»3.
«Наказ» начинается молитвой: «Господи Боже мой вонми ми, и вразуми мя, да сотворю суд людям Твоим по закону святому Твоему судити в правду». Первая статья гласила: «Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно». Обращение к Богу и отсылка к православию были рассчитаны на православных подданных Екатерины, поскольку в связи с проводимой ею в то время секуляризацией монастырских земель церковные иерархи могли усомниться в ее авторитете. В то же время уже в начале «Наказа» божественный закон был представлен как высший закон в государстве, хотя и не назван таковым прямо. Этот ловкий прием был достоин такого искусного политика, каким была Екатерина [Екатерина II 1907б: 1]4.
В первых двух главах «Наказа» – статьях 6–16 – Россия характеризовалась как «Европейская держава», владения которой простираются на 32 градуса широты и 165 градусов долготы. Утверждалось, что, учитывая такую огромную территорию, Россия должна управляться посредством самодержавия, «ибо никакая другая, как только соединенная в его [государя] особе власть не может действовати сходно со пространством толь великаго государства… Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно» [Екатерина II 1907б: 3]. Здесь Екатерина отходила от Монтескьё, который объяснял преобладание в России деспотии именно ее огромной территорией. Уклонившись от хода мысли Монтескьё, Екатерина «нормализовала» Россию и намекнула на разницу между Петром I (по Монтескьё, классическим деспотом) и собой (по ее самоопределению, «просвещенной самодержицей»).
В статьях 13–16 ставился вопрос о цели самодержавного правления и определялись границы свободы. Екатерина дала два ответа на вопрос о цели самодержавия. Первая цель – «чтобы действия их [людей] направити к получению самаго большого ото всех добра». Вторая – «слава граждан, государства и Государя». Если сопоставить эти два ответа – первый из статьи 13, второй из статьи 15, – то получится уравнение: коллективные интересы российских подданных заключаются в достижении славы граждан, государства и государя. Это уравнение подразумевает прямую связь между материальными интересами и эмоциональным благополучием, между процветанием и национальной гордостью, но его можно прочесть и как исключение из «коллективных интересов российских подданных» всех составляющих, кроме «славы».
По вопросу о свободе Екатерина выразилась неоднозначно. Она заявила, что монархическое правление предназначено не для того, «чтоб отнять естественную их [людей] вольность, но чтобы действия их направити к получению самаго большого ото всех добра». В статье 14 она подразумевает, что естественная свобода совпадает с «намерениями в разумных тварях предполагаемыми» и соответствует цели создания гражданского общества. При этом она нигде не дает определения естественной свободы – и это умолчание является вопиющим, поскольку делает невозможным обвинение в том, что самодержавие нарушает естественную свободу. Вместо этого она указала на совместимость естественной свободы и правительства, действующего в интересах подданных [Екатерина II 1907б: 4].
В статьях 36–39 Екатерина дала определение понятию «общественная свобода». Согласно статье 36, свобода заключается не в том, чтобы делать все, что заблагорассудится. Согласно статьям 37 и 38, в обществе, где есть законы, «вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, чего хотеть не должно». И снова: «Вольность есть право, все то делать, что законы дозволяют; и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть». В статье 39 свобода приравнивается к безопасности: «Государственная вольность в гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностию; и чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другаго, а боялись бы все одних законов» [Екатерина II 1907б: 8–9].
Таким образом, концепция Екатерины о свободе в обществе сводилась к декларации того, что свобода заключается в послушании совести (возможности делать то, что должно) в рамках позитивного права (права делать все, что позволяют законы). Она считала, что все должны подчиняться законам в равной степени («и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было»), но не утверждала, что все люди должны быть равны в привилегиях. Более того, в условиях общества, где царило крепостное право, она не осмелилась говорить о юридическом равенстве в этом смысле. Ее отождествление свободы с безопасностью означало либо намек о свободе от произвола властей, либо утверждение, что только сильное правительство и сильные законы позволяют гражданам в полной мере наслаждаться свободой. Первые статьи «Наказа» оставляют общее впечатление, что Екатерина придерживается дирижистской концепции свободы, которую Исайя Берлин назвал бы «позитивной свободой», при которой правительство направляет граждан «к получению самаго большого ото всех добра», подданные вольны «делать то, что каждому надлежит хотеть» по совести, во славу «граждан, государства и Государя». Екатерина не перечисляет права отдельных подданных, ограничиваясь упоминанием «права» делать то, что разрешено законами.
Главу 6 (статьи 41–63) Екатерина посвятила «законам вообще». Здесь она усилила ранее высказанные замечания о вольности и попыталась объяснить соотношение между обычаями и государственными законами. Из статей 41 и 42 следовало, что государственные законы не должны запрещать ничего, «кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу». Таким образом, личные поступки, не затрагивающие ни других людей, ни государство, не подпадают под действие законов. Екатерина не охарактеризовала эту сферу «безразличных действий» как относящуюся к частной жизни или составляющую «права» индивидов. Тем не менее ее комментарии, которые в данном случае во многом повторяют Монтескьё, дают общее представление о «негативной свободе» [Екатерина II 1907б: 8–9]. По поводу обычаев Екатерина утверждала, что для управления государством необходимы законы, подлежащие исполнению, поэтому при разработке законов законодатель должен принимать во внимание нравы народа. Однако она не считала обычаи непреодолимым препятствием для законодательных изменений: «И так когда надобно сделать перемену в народе великую к великому онаго добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями» [Екатерина II 1907б: 8–9]. Главное для законодателя – «умы людские… приуготовить» к введению новых законов. Позиция Екатерины, согласно которой реформы требовали тщательной подготовки, содержала в себе косвенную критику Петра I, чьи реформы проводились поспешно, без подготовки к ним людей. Екатерина, напротив, хотела предстать правительницей, действующей в мудром и умеренном духе Монтескьё, – ведь ее «Наказ» предназначался именно для того, чтобы подготовить умы россиян к принятию нового свода законов. Однако трудно сказать, насколько серьезно Екатерина относилась к известному изречению Монтескьё о том, что к законам можно «прикасаться только дрожащими руками». Рука Екатерины не дрогнула.
Сразу после обсуждения необходимости реформ в «Наказе» был поднят вопрос о наказаниях за нарушение законов. По мнению императрицы, при проведении реформ можно было ожидать сопротивления снизу в виде нарушения новых законов. Это сопротивление, которое таковым нигде не названо, она надеялась сдержать законодательно установленными наказаниями. В статьях 61–96 рассматривалась идеальная система наказаний. Основное положение «Наказа» заключалось в том, что наказание не должно произвольно назначаться ни государем, ни судом, а должно «происходить… от самой вещи», то есть из характера данного преступления. Любое наказание, назначенное не по необходимости, по определению является «тиранским» [Екатерина II 1907б: 14].
Согласно «Наказу», существует четыре вида преступлений: преступления против веры; преступления против нравов; преступления против общественного спокойствия; преступления против безопасности личности. Дела по преступлениям против веры (например, богохульство), как считала Екатерина, должны решаться церковью путем отлучения или изгнания преступников из храмов. Здесь она вслед за Монтескьё пыталась разделить церковь и государство. В статье 74, посвященной религиозным преступлениям, императрица прибегает к ухищрениям, не упоминая ни многоконфессиональный характер Российской империи, ни принцип веротерпимости [Екатерина II 1907б: 14]. За преступления против нравов Екатерина назначает наказания преимущественно морального характера: всенародное бесчестие, стыд, изгнание из города и общества. Единственным материальным наказанием здесь были денежные штрафы, но осталось неясным, должны ли эти штрафы налагаться частными обществами или государством. По общему правилу, «преступления» против нравов должны были рассматриваться как незначительные нарушения обычаев, не имеющих юридической силы [Екатерина II 1907б: 16].
- Секреты Достоевского. Чтение против течения
- Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе
- Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки
- Пути к славе. Российская империя и Черноморские проливы в начале XX века
- Ружья для царя. Американские технологии и индустрия стрелкового огнестрельного оружия в России XIX века
- Русские реализмы. Литература и живопись, 1840–1890
- Знание и окраины империи. Казахские посредники и российское управление в степи, 1731–1917
- Человеческая природа в литературной утопии. «Мы» Замятина
- И в пути народ мой. «Гилель» и возрождение еврейской жизни в бывшем СССР
- Полным ходом. Эстетика и идеология скорости в культуре русского авангарда, 1910–1930
- Социальная история советской торговли. Торговая политика, розничная торговля и потребление (1917–1953 гг.)
- Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа
- Природа охотника. Тургенев и органический мир
- Русско-японская война и ее влияние на ход истории в XX веке
- Третий Рим. Имперские видения, мессианские грезы, 1890–1940
- SPAсибо партии. Отдых, путешествия и советская мечта
- Неоконченное путешествие Достоевского
- Музыка из уходящего поезда. Еврейская литература в послереволюционной России
- Пределы реформ. Министерство внутренних дел Российской империи в 1802-1881 годах
- Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой
- В поисках истинной России. Провинция в современном националистическом дискурсе
- Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева
- Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925
- Они сражались за Родину. Русские женщины-солдаты в Первую мировую войну и революцию
- Эффект Достоевского. Детство и игровая зависимость
- Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии
- Максимилиан Волошин и русский литературный кружок. Культура и выживание в эпоху революции
- Смеющаяся вопреки. Жизнь и творчество Тэффи
- Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст
- «Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого
- Кровавый навет в последние годы Российской империи. Процесс над Менделем Бейлисом
- И все содрогнулось… Стихийные бедствия и катастрофы в Советском Союзе
- Роса на траве. Слово у Чехова
- Набоков и неопределенность. Случай «Истинной жизни Себастьяна Найта»
- Андрей Синявский: герой своего времени?
- Россия на краю. Воображаемые географии и постсоветская идентичность
- Первые слова. О предисловиях Ф. М. Достоевского
- Магда Нахман. Художник в изгнании
- В поисках «полезного прошлого». Биография как жанр в 1917–1937 годах
- Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века
- Философ для кинорежиссера. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф
- Очерки по русской литературной и музыкальной культуре
- Выцветание красного. Бывший враг времен холодной войны в русском и американском кино 1990-2005 годов
- Апокалиптический реализм. Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких
- Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020)
- Петербург. Тени прошлого
- Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период
- Магия отчаяния. Моральная экономика колдовства в России XVII века
- Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина (1884–1937)
- Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе ХХ века
- Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение
- Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы. Астафьев, Белов, Распутин
- Не расстанусь с коммунизмом. Мемуары американского историка России
- Социология литературы. Институты, идеология, нарратив
- Полицейская эстетика. Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху
- Допеть до победы! Роль песни в советском обществе во время Второй мировой войны
- Москва строящаяся. Градостроительство, протесты градозащитников и гражданское общество
- Как сделан «Нос». Стилистический и критический комментарий к повести Н. В. Гоголя
- Горбачев и Ельцин как лидеры
- Посткоммунистические государства всеобщего благосостояния. Политика реформ в России и Восточной Европе
- Серп и крест. Сергей Булгаков и судьбы русской религиозной философии (1890–1920)
- Поэтическое воображение Пушкина
- Образ Христа в русской литературе. Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак
- Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля
- Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935
- Правонарушительницы. Женская преступность и криминология в России (1880-1930)
- Романтики, реформаторы, реакционеры. Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I
- Странствующие маски. Итальянская комедия дель арте в русской культуре
- Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)
- Недра России. Власть, нефть и культура после социализма
- Великая война и деколонизация Российской империи
- Параллельные вселенные Давида Шраера-Петрова
- Реорганизованная преступность. Мафия и антимафия в постсоветской Грузии
- Высшая легкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы
- На орбите Стравинского. Русский Париж и его рецепция модернизма
- Россия и ее империя. 1450–1801
- Женщины в России. 1700–2000
- Автор как герой: личность и литературная традиция у Булгакова, Пастернака и Набокова
- Достоевский и динамика религиозного опыта
- Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров
- Этот дикий взгляд. Волки в русском восприятии XIX века
- Модернизация с того берега. Американские интеллектуалы и романтика российского развития
- От победы к миру. Русская дипломатия после Наполеона
- Расширение прав и возможностей женщин в России
- Войны за становление Российского государства. 1460–1730
- Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение
- Поэты о поэтах. Эпистолярное и поэтическое общение Цветаевой, Пастернака и Рильке
- Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
- Нина Берберова, известная и неизвестная
- Загадка Заболоцкого
- Икона и квадрат. Русский модернизм и русско-византийское возрождение
- Инкарнационный реализм Достоевского. В поисках Христа в Карамазовых
- Как Петербург научился себя изучать
- Двуязыкая муза. Авторский перевод в русской поэзии
- Из Священной Римской империи в страну царей. Одиссея одной семьи, 1768–1870
- Секс, любовь и миграция. Постсоциализм, модерность и интимные отношения от Стамбула до Арктики
- Долой оковы! Русская и афроамериканская литература этнической «души»
- Экономика спасения и антисемитизм Достоевского
- Старая вера и русская земля. Исследования истории этики на Урале
- Проза и лирика романа «Доктор Живаго»
- Маскулинность, самодержавие и российский университет, 1804–1863
- Nuevo Romanticismo. Испанско-русский литературный диалог, 1905–1939
- Изобретение Михаила Ломоносова. Русский национальный миф
- Парадоксы классики. Очерки литературы и искусства
- Женское лицо советской и российской анимации
- Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 2. Русские репрезентации и практики
- Либеральные идеи в царской России. От Екатерины Великой и до революции
- Музыка боли. Образ травмы в советской и восточноевропейской музыке конца XX века
- Октябрь. Память и создание большевистской революции
- Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.)
- Эффект разорвавшейся бомбы. Леонид Якобсон и советский балет как форма сопротивления
- Прохождение тундры. История и гендер на Дальнем Востоке России
- Россия. Путь к Просвещению. Том 1
- Советская кинофантастика и космическая эра. Незабвенное будущее
- Россия. Путь к Просвещению. Том 2
- Вокруг Николая Рериха. Искусство, эзотерика, востоковедение и политика