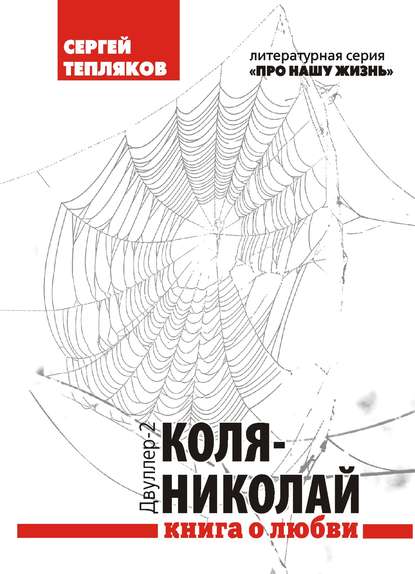Огромная благодарность за помощь в издании книги Альберту Денисову (председателю совета директоров ГК «АгроХимПром»), и Юрию Фрицу (генеральному директору ТПК «Сибирь-Контракт»).
С. Тепляков.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
– Записывай… На диване сидит труп мужчины приблизительно сорока лет… Труп одет в спортивные штаны. Записал?
– Игорь Петрович, а ничего, что «труп одет»? Как-то не по-русски… Да и «сидит труп мужчины» – опять все смеяться будут…
– А он что – стоит?! Или это труп женщины?
– Давайте напишем: «На диване находится тело потерпевшего, расположенное сидя»… Хотя тоже коряво выходит…
– Вот то-то и оно! Это «Евгения Онегина» легко писать, а такие протоколы как ни пиши, все равно смех сквозь слезы. Так что пиши как есть: сидит труп мужчины… приблизительно сорока лет… одет в спортивные штаны и тапочки типа шлепанцы… Верхняя часть тела голая. С левой стороны груди – ножевое ранение… Крови выделилось мало. Судя по всему – сильное внутреннее кровотечение.
Разговор двух милиционеров долетал до Ирины откуда-то издалека. Голова кружилась. Она понимала, что еще пьяна, и даже надеялась, что пьяна она так, что все это ей или чудится или – еще лучше – снится. Она при этом и понимала, что не снится – так все и есть, мертвец, милиционеры, соседи-понятые, глядящие на нее круглыми глазами и осуждающе качающие головой (теть Маша с пятого этажа сначала и попросилась было в понятые – так хотелось ей на все посмотреть, а теперь, по глазам видно, явно томилась – так хотелось ей поскорее уже отсюда выйти, чтобы все рассказать!). У дальней стены стоял мужик, фамилию которого Ирина с трудом вспомнила – Пулатов. Он был узбек, муж, Александр, тот самый, который сейчас мертвым сидел на диване, привел Пулатова сегодня днем к ним домой выпивать. Ирина уже и застала их за столом. Пулатов сейчас качал головой и цокал языком. Он что-то говорил, но русских слов в его речи было так мало, что его никто не понимал.
Пятнадцатилетний сын Мишка сидел вроде и рядом, но так, что между ними – Ирина чувствовала – была пропасть. Мишка плакал, как не плакал и в детстве.
– Гражданочка… – услышала Ирина. – Гражданочка…
Она подняла голову. Один из милиционеров, тот, что постарше, худой и темноволосый, стоял перед ней.
– Гражданочка, сейчас едем в отделение, там расскажете, что у вас тут произошло… – сказал милиционер. – Возьмите с собой какие-нибудь вещички…
– Какие? – спросила Ирина враз высохшими губами.
– Какие-какие… – протянул милиционер. – Уж думаю соберите в сумку сменную одежду, обувку, да туалетные принадлежности.
– Меня что же – арестуют? – спросила Ирина.
– Гражданочка, а вы как думали – мужа зарезали и пошли со следующим знакомиться? – спросил милиционер немного даже удивляясь и показывая, что он удивлен. – Сейчас в кутузку, это без вопросов. А уж там видно будет. Следователю расскажете, за что вы его ножиком пырнули, а потом судье…
– Он меня ударил… Он меня бил… – начала как заведенная говорить Ирина. – Это самооборона. Он вон какой амбал, а мне-то что оставалось…
Она осеклась, увидев, как смотрит на нее сын – с ужасом смотрел. Ирина почувствовала, как заболело сердце. Мишка любил отца больше, чем ее – так вышло, и так было уже давно. Как собака или кошка раз и навсегда решает для себя вопрос, кто хозяин в доме, так и Мишка когда-то давно решил, что отец для него главный человек, а остальные – так, просто люди. И Ирина, мать, была в том числе, ниже школьных друзей, где-то вместе с соседками по дому. Пока был маленький, было еще куда ни шло, а последние годы – совсем наперекосяк.
– Прости, сынок… – тихо проговорила Ирина. Слезы текли по ее щекам, но она не всхлипывала и вообще не издавала ни звука – она почему-то думала, что не имеет на это права: сама ведь кругом виновата, что же теперь плакать? Мишка смотрел на нее во все глаза, но без сочувствия, будто не на мать, будто на кого-то незнакомого. Она поняла, что даже того крошечного местечка, которое она занимала в его сердце, нет теперь для нее – вылетела она и оттуда, с вещами, как сейчас вылетит из этой квартиры. И еще она поняла, что даже если в квартиру она потом и вернется, то сердце сына закрылось для нее навсегда.
Она встала, прошла по комнате, глазами мазнув по покойнику и не испугавшись его. Она вдруг поняла, что надо привыкнуть к новому повороту жизни как можно быстрее, будто этого и ждала. «В сущности, может и правда ждала все эти восемь лет… – подумала она. – Должно же это было чем-то кончиться…» Она подумала, что на самом деле все могло бы быть иначе – обещали ведь и ей небо в алмазах или хотя бы в фианитовых крошках.
Комната была как комната и квартира – как квартира: зал, спальня, кухня, ковер на стене, палас на полу, стенка, покупкой которой так они все, особенно свекровь Нэлла Макаровна, гордились (в 1990 году, в самый советский кризис, Нэлла Макаровна «пробила» эту стенку через какой-то профком, чем даже сейчас, 15 лет спустя, гордилась так, будто в космос летала. Она вообще то и дело при Ирине вспоминала, что вот и стенку им купила, и квартиру вот эту подарила на свадьбу: «Чтобы наживали вы здесь счастье. А вы?!»..). «Вот и нажили…» – подумала Ирина. По квартире ходили разные люди, полированные поверхности серванта покрывал белый дактилоскопический порошок.
Один из милиционеров пошел за ней. Она прошла в спальню, взяла какую-то сумку и стала скидывать туда вещи, которых почти не видела от разом заливших глаза слез.
– Гражданочка… – донеслось до нее. – А вот это платье-то вам зачем? Спортивный костюм есть?
Она очнулась – в руках у нее было платье в красных цветах, самое ее нарядное и самое любимое.
– Или вы там собираетесь в художественной самодеятельности выступать? – спросил ее милиционер так, будто она и правда могла что-то знать про ту предстоявшую ей жизнь и на самом деле к ней готовиться. – Так это еще не скоро… Это разве что в лагере…
– Да не убивала я! – вдруг закричала она. – Не убивала.
– Вы, гражданочка, уж решите, убивали или нет… – спокойно ответил милиционер. – А вот только говорили, что убивали, а сейчас – что не убивали. И если не вы – так кто? Кроме вас-то некому…
Милиционера звали Игорь Бушуев и был он начальником уголовного розыска местного РОВД. На эту должность он попал недавно и до сих пор ему было приятно вспоминать, что вот он – начальник уголовного розыска. Он бы при каждом вызове стучал в дверь и кричал «Откройте, угрозыск!», но девять из десяти вызовов были такие, что никто и не понял бы, что он там кричит. Драки по пьянке и убийства по пьянке: труп есть, а кто его, за что и как – никто не помнит. Так что слова Ирины совершенно не удивляли его – все так говорят. Даже если руки в крови и одежда в крови, все равно говорят – я не убивал.
Ирина смотрела на него с ужасом. Спокойствие этого милиционера и то, что он даже не пытался ее изобличать – ловить на нестыковках, спорить, что-то ей доказывать – ужасали ее особенно: выходило так, что все уже решено.
– Игорь Петрович! – позвали из комнаты.
– Сейчас! – отозвался Бушуев и посмотрел на Ирину. Она поняла – надо собираться быстрее.
– Документики где? – спросил он.
Она пошла в зал и вытащила из серванта коробку, где хранились все документы – на нее, на мужа, на сына. Вытащила свой паспорт и отдала Бушуеву.
– Радостева Ирина Алексеевна… – прочитал Бушуев и едва сдержался, что не хмыкнуть – Радостева! Он и второй милиционер, 25-летний оперативник Славка Мельников, светловолосый, быстрый в движениях и, как это часто бывает среди оперов, похожий на жулика повадками, манерами и разговором, одетый по случаю августовской жары в светлые легкие штаны, светлый легкий пиджак с подвернутыми по одному только Славке известной моде рукавами, переглянулись. «Радостева! С такой фамилией жить и радоваться, а не мужиков резать…» – подумал Бушуев.
На фотографии в паспорте Ирине было 25 лет. Бушуев, хоть и плохо чувствовал женскую красоту (чутье это, как, например, музыкальный слух, у каждого разное), все же удивился внутренне – да она ли на фото, та, которая вот сейчас сидит перед ним? Удивительного редкого разреза глаза сейчас были закрашены тенями и залиты поползшей от слез тушью. Женщина на снимке смотрела так, будто усмехалась – вот и уголки губ чуть приподняты. Та, что сидела перед ним на диване, не улыбалась уже давно – такие вещи Бушуев понимал. Он посмотрел на Ирину опытным мужским взглядом. Потом отошел и молча показал Мельникову ее фотку в паспорте.
– Ого! – сказал Мельников, тут же мельком глянув на Ирину, и так же, как Бушуев, поразившись про себя, как перепахала жизнь эту несчастную бабу.
– Это что… – негромко сказал Бушуев и перевернул страничку паспорта, показывая ту, на которой была фотография 16-летней Ирины. – Эх, и почему мы не ходили с ней по одной улице?
– Так она, Игорь Петрович, постарше вас будет! – ехидно проговорил вполголоса Мельников, глядя на шефа одним глазом из-под нависшего чуба.
– Любви, Мельников, все возрасты покорны! – назидательно ответил Бушуев, снова открывая страницу, на которой Ирине было двадцать пять. – Да и постарше всего чуток.
– Да я разве ж против? – пожал плечами Мельников. – Только сидели бы вы сейчас на этом диване с ножевым ранением в груди…
– Типун тебе на язык! – сплюнул Бушуев. Тут он задумался.
– Кстати, Мельников, а ножик-то где?
Они оглянулись. Бушуев пошел к покойнику и посмотрел тому на грудь, пытаясь понять, каких примерно размеров был убивший его нож. Потом он отошел к столу. На столе хоть и не было особой красоты, однако стояли тарелки, рюмки для водки и стаканы для «запивки» – то есть застолье было почти интеллигентное. Ножа на столе не было.
Бушуев отправился на кухню, на ходу отмечая, что и полы давно пора покрасить, и обои явно наклеены еще лет десять назад – вон и отстали уже кое-где. На кухне в столе была разная утварь, однако ножики были либо из столовых приборов, с закругленными носами, либо узкие и короткие. Бушуев же полагал, что сидевший на диване человек был убит другим инструментом – с широким и длинным лезвием, какими обычно в семьях режут мясо. Он заглянул в холодильник, под кухонный стол, за батарею. Ножика не было. Он встал посреди кухни и стал оглядываться. Методика, согласно которой отыскиваемая вещь сама покажет себя, сработала: в мойке из-под посуды торчала обмотанная синей изолентой ручка ножа. Бушуев взял какую-то тряпочку, обернул ею рукоять ножа и осторожно вытащил. Нож был именно такой, какой он себе и представлял: с широким и длинным лезвием. Неся его, как селедку, он вошел в комнату, встал перед Радостевой и сказал, внимательно глядя на нее:
– Вы же, гражданочка, этим своего мужа зарезали? Этим ножичком? Признавайтесь, и мы запишем, что это вы выдали орудие преступления. Вам скидка будет…
Ирина побелела и, казалось, вот-вот упадет без чувств. Мальчишка рядом с ней что-то закричал, подскочил к ней и начал колотить ее кулаками по плечу. Бушуев пожалел уже, что устроил всю эту психологию – и без нее все было ясно. Мельников, оторвавшись от писанины, оттащил мальчишку в сторону.
– Правду будем говорить, Ирина Алексеевна? – осведомился Бушуев. – Или так, опять вы его не убивали?
– Это не я… – сказала женщина. Глаза ее погасли, она помертвела. – Это он меня убил…
«Ну вот, привет…» – мелькнуло в голове у Бушуева. Он вздохнул и переглянулся с Мельниковым – совсем поехала у бабы крыша.
– Собирайтесь… – велел он. – Поедем в отдел, там и поговорим…
Глава 2
– Он меня бил… Это была самооборона… – повторяла Ирина.
– Когда бил? – спросил Бушуев, которому все это на исходе третьего часа допроса уже надоело.
– Всегда… – отвечала она.
– А сегодня? – спросил Бушуев. – Сегодня бил?
– И сегодня бил… – ответила Ирина.
– А чего ж на вас – ни синяка, ни царапины? – поинтересовался Бушуев. Он в общем-то и сочувствовал уже ей – видел фотографию, и понимал, что не от хорошей жизни так постарела женщина за десять с небольшим лет.
– Ирина Алексеевна, давайте сознаваться… – сказал он мягко, будто давал совет дорогому другу. – Вот я вам сейчас скажу, как все было. Вышли вы замуж за своего ненаглядного (тут он глянул в паспорт покойника) Александра Васильевича в 1990 году. А тут кризис. И начал он пить. Мужики слабее баб, всегда первыми ломаются. А где пьянка, там и драка, так ведь? Я же не против, да, он вас бил. Только не сегодня, а так, вообще. Ну вот вы и решили от него избавиться. Но так как он на полторы головы вас выше и килограммов на семьдесят тяжелее, то вы решили дождаться дня, когда он напьется так хорошо, что и сам не почувствует, как вы его зарезали. И вот сегодня этот день настал…
Он остановился и смотрел на нее. Она смотрела остановившимися глазами куда-то вниз. Бушуев подумал – узнать бы, что же такое она там видит? Он полагал, что в общих чертах все было именно так или примерно так, как он сейчас рассказал – почти всегда все было именно так: доведенная до отчаяния беспросветной жизнью женщина брала в руки топор, кирку, лопату и убивала. Он даже сочувствовал им всем – вот и Ирине сейчас сочувствовал. «Что ж вы так убиваете, что потом попадаетесь? – думал Бушуев, глядя на Ирину. – Ну купила бы ему паленой водочки и напоила бы до смерти…»
Мельников сидел тут же и писал протокол допроса. Он в общем-то тоже сочувствовал этой бабе, но слишком много фактов было против нее и Мельников понимал это. Кроме отсутствия синяков, смущал еще и относительный порядок в квартире и, главное, на столе – если бы уж была в доме драка, то стол бы разнесли в первую очередь. «С другой стороны – чего бы ей резать мужа при сыне? – подумал вдруг Мельников. – Какой-никакой, а все ж таки отец. То-то мальчишка на нее с кулаками кинулся…».
Ирина, хотя и трезвела, но соображала все хуже и хуже. Ей казалось, что милиционер, задавая вопросы, все пытается ее подловить, она старалась уловить, в чем подвох, и на поиски подвоха в одном вопросе у нее уходило столько времени, что следующий вопрос заставал ее совершенно врасплох. Она была как неумелый теннисист, который машет ракеткой наудачу и если попадает по мячу, так только случайно. Она вдруг вспомнила что-то, усмехнулась и задрала свою майку выше груди.
– Вот вам и синяки, и царапины… – сказала она.
На теле, на животе и боках, и правда были пятна синяков. «Хорошие были у мужа кулачки…» – подумал Бушуев, разглядывая эти красные следы.
– Ирина Алексеевна, но это же не сегодня он вас лупил… – сказал он. – Не сегодня. Самооборона, это если он сегодня начал вас бить головой об стенку, а вы не сдержались и его ножиком ширнули. Но он же вас ни головой об стенку не бил, ни кулаками. Вы задумали его убийство давно, а сегодня, когда и он, и вы напились, выполнили задуманное. А это уже умышленное убийство. Уж извините, но до пятнадцати лет. Женщинам, конечно, так много не дают, но все равно – десятка, как пить дать!
«Десять лет! – зазвенело у нее в голове. – Десять лет! За что!»
– Это не я! – вдруг сказала она. – Это…
Тут она словно поперхнулась словами и замолчала, дико глядя на оперов.
– Ну а кто? – спросил Бушуев. – Сын что ли? Или этот, узбек? Нет, для такого удара ярость нужна. Ваша бабья ярость.
– Он сам! – вдруг сказала Ирина и в ней вспыхнула надежда. – Он сам. По пьянке на ножик напоролся. Он же так набрался сегодня, что едва ходил. Запнулся о стол, упал, и – на ножик…
– Ага, и так – десять раз… – хохотнул, оторвавшийся от протокола Мельников. – Женщина, мы таких баек слышим каждый день по пять штук. Чистосердечное признание учитывается судом и может облегчить вашу участь!
Бушуев строго глянул на него и Мельников замолк. Бушуев, впрочем, был доволен этим вмешательством – в конце концов, «доброго» и «злого» следователя никто не отменял. Отвернувшись от Ирины, Бушуев глазами показал Мельникову – продолжай. Тот приободрился.
– Дамочка, смотрите сюда… – отрываясь от протокола, заговорил Мельников, добавляя металла в голос. – Мотив был только у вас, возможности – только у вас. Или какой-то бетмен спустился с небес за вас мужу отомстить? Вот вы здесь запираетесь, и думаете, что этим помогаете себе. А нет – только хуже делаете. Признаете вину – десять лет. А не признаете – пятнадцать! Ты, дура, подумай, сколько сыну-то уже будет, когда ты из зоны выйдешь?!
При напоминании о сыне что-то надломилось в Ирине. Она упала головой на стол и зарыдала так, как еще никто не рыдал в этом кабинете. Бушуев и Мельников оторопели. Бушуев мигнул напарнику – воды. Мельников полез за графином, за стаканом, наконец, спроворил воды.
– Гражданочка, попейте и успокойтесь… – командирским тоном сказал Бушуев. – Товарищ мой верно все говорит – запирательство вам обойдется слишком дорого. Самооборона не получается. Вот в любой другой день, когда он вас колотил, зарезали бы вы его, и была бы самооборона, а сегодня – нет. Пишите явку с повинной.
– Адвоката! – вдруг вспомнила Ирина. – Адвоката!
Бушуев и Мельников с тоской переглянулись – допрос грозил затянуться до утра.
– Мадам, мы на вас чужого не повесим, вам бы свое унести! – начал было Мельников, но Бушуев его оборвал:
– Ладно. Будет вам адвокат…
Глава 3
Хоть и бывали фамилии похуже, но свою – Грядкин – Николай никогда не любил. Почему – сказать не мог, но не любил. Возможно, потому, что с самого детства помнил отцовские слова: «Надо выбрать свою грядку и на ней потихоньку расти!». Отцу это казалось шуткой, но Николай так и представлял себе, что вот его закопали в грядку, и он оттуда, как морковка с глазами, вырастает. А вместо волос у него – зеленая ботва. Может, это даже снилось ему – отсюда, видимо, было чувство ужаса, появлявшееся всегда, когда отец вспоминал свою поговорку.
Отца Николая звали Виктор, маму – Нина. Они родились в пятидесятые годы, а их студенческая молодость помножилась на благополучие семидесятых. Отец то и дело рассказывал, как был в институте комсомольским активистом, спортсменом, как ездил в стройотряды комиссаром, как играл на гитаре, писал стихи и даже посылал их в журнал (в журнале отказали, но уже одно то, что Виктору Грядкину пришел из журнала ответ, произвело сенсацию в институте – считалось, что отвечают не каждому). Высокий, черноволосый, громкоголосый, он был в институте первым парнем. Николай однажды, во время очередного отцовского рассказа о необычайном успехе руководимой отцом самодеятельности, вдруг понял, что студенческая пора был для отца счастливейшим временем. А потом она кончилась и он попал в какой-то проектный институт, в огромный зал с бесконечными рядами кульманов.
Отец пытался и здесь поактивничать, но охотников до песен и театров миниатюр не оказалось, да еще тут же началась семейная жизнь, родился, он, Николай.
Грядкин иногда удивлялся, на чем и как сошлись его родители. Мама была из деревни, жила в общежитии, красавицей не была, что и сама признавала, правда, делая это так, что за признанием читалось: «Вот хоть и не красавица я, а скольким красавицам утерла нос!». В детстве Грядкин думал, что у его отца и матери любовь, как у Принца и Золушки. Потом, повзрослев, из полуфраз и полуразговоров, из шуточек и намеков, он понял, что в случае с его родителями к этому сказочному сюжету надо еще добавить новогоднюю ночь, портвейн, и ту решимость, с которой мама сама залезла к отцу в постель. Принц-то думал, что это так, шутки, игры, приключение. Но у Золушки были иные планы: она забеременела.
– Я поступил как честный человек!.. – то и дело говорил Николаю отец. – Ты думаешь, мне с твоей матерью было легко? Но мы в ответе за тех, кого приручили.
При этом бабушка, мамина мама, была из простых, проще некуда – работала в деревенском клубе техничкой. Николаю, особенно в детстве, эта ее работа нравилась – бабушка пропускала его без билета в кино и вообще в клубе он был своим, мог смотреть фильмы из будки киномеханика и вместе с ним клеил то и дело рвущуюся пленку (Николая занимало, почему в этот момент в зале кричали киномеханику «Сапожник! Сапожник!»), но отец это «происхождение» матери то и дело поминал: «Ты вон из каких, а я не посмотрел на это, женился!». «Сам-то будто из дворян!» – отвечала на это мама. Родители отца и правда были всего лишь заводскими служащими, но отец считал, что это – белая кость, техническая интеллигенция. «На нас держится страна, на инженерах, на лучших мозгах страны!» – то и дело говорил Грядкин-старший.
Грядкины жили в одном из больших сибирских городов, в том, который считал себя третьей столицей государства. Жили как все: большой радостью была покупка стенки, большой мечтой – подписные издания. Правда, красные тома Дюма им так и не достались, зато подписались на Салтыкова-Щедрина, и одиннадцать его коричневых томов, почти нечитанных, стояли ровным рядом. Когда по случаю купили ковер, Нина на радостях обзванивала соседок. В рестораны ходили редко и совершенно не умели оставлять официантам на чай – им казалось, что официант от чаевых должен обидеться и вызвать милицию как при получении взятки.
Как все в их кругу, они много спорили на кухне. Сначала им не нравились коммунисты, с 1991 года – демократы. Николай рос под шум этих разговоров, под слова «перестройка», «ускорение», «гласность», под шелест газет, которые тогда читали, будто проглатывали.
Детство Грядкина пришлось на разгар советского кризиса, так что про хорошую жизнь он узнавал лишь из ностальгических рассказов взрослых. Сам же помнил лишь конфеты по прозвищу «Дунькина радость» – карамель нельзя было раскусить, проще было бросить в горячий чай и размешать – получался чай с молоком или что-то вроде этого. Ну да, пряники в магазине стоили гроши, но почему они всегда были каменные? К хорошей жизни не привык, но очень о ней мечтал. Из отцовского воспитания запали слова «мужик должен» и «заработать».
В 14 лет Николай решил заработать отцу на подарок деньги. Было лето, на каждом перекрестке стояли пацаны с ведрами и тряпками и мыли желающим машины. Николай присоединился к одной из таких компаний и неделю драил крылья, багажники, колеса. Будучи научен тому, что лучший подарок – книга, он именно книгу и купил: какой-то новоизданный том Хемингуэя, фамилия которого то и дело доносилась из кухни. Этим Хэмингуэем Николай и получил от отца по башке – отец откуда-то прознал, как заработал Николай деньги на подарок.
– Головой надо работать, головой! – сказал ему тогда отец. – Руками дураки работают, а ты белая кость! Ты еще как бабка твоя начни полы мыть!
Николай хоть и был с отцом совершенно не согласен, промолчал, и слезы проглотил. В следующий раз он решил и правда работать головой: с пацанами они покупали в одной из редакций газеты, а потом продавали их на улице, крича совсем как в кино: «Свежие газеты! Покупайте! Сенсации, разоблачения, кроссворд, астропрогноз!». Но и за эти деньги ему влетело от отца.
– Это не работа, это купи-продай! – кричал отец. – Ты не работяга, ты спекулянт!
Николаю было тогда уже больше 15 лет, поэтому он не промолчал.
– Папа, это всего-навсего рыночная экономика! – сказал он. Отец дал ему подзатыльник. Не то чтобы этот подзатыльник перевернул весь внутренний мир Николая. Но именно после этого отец все чаще стал казаться ему сварливым старичком – и это при том, что отцу было всего лишь за сорок.
К окончанию школы Николай имел что-то вроде небольшого бизнеса – он торговал автозапчастями. Кругом автомастерские специализировались на иномарках, и только Николай, едва ли не единственный, сделал ставку на отечественный автопром.
У отца был «Москвич-412» – когда-то новый и даже в какой-то степени модный, а ко второй половине 90-х дышащий на ладан. Глядя на него, Николай как-то раз подумал, что такая развалюха в городе далеко не одна, и их хозяева тоже хотят ездить. На запчастях для этого утиля он и зарабатывал.
Николай по-прежнему все заработанное отдавал матери – так был научен. Однако мать принимала деньги с таким испуганным лицом, будто участвовала в антиправительственном заговоре. Николай видел, что никакого хода эти деньги не имеют – ни еды, ни одежды мать не покупала, боясь, что отец начнет выяснять, с каких это доходов вдруг такая роскошь.
Жизнью с родителями Николай тяготился все больше. В последнем классе школы он понял, что из родного города надо уезжать. В одном из соседних городов оказался техникум, где учили на автомехаников. Кроме того, при техникуме имелось общежитие, там платили стипендию, а по утрам ученикам даже давали завтрак. Грядкин, впрочем, полагал, что и в этом городе есть старые «Москвичи», и на свой кусок хлеба он уж точно заработает.
Когда он заявил, что уезжает, дома был скандал. Мама плакала.
– Я тебе запрещаю, слышишь, запрещаю, даже думать об отъезде! – как-то картинно кричал отец. – В институт поступай, в институт! Если ты так любишь все эти железки, так иди в политех, кто же против. Но мозги должны работать, а не руки! Ты чего же, собираешься всю жизнь в этом, как его, солидоле возиться?!
– Пап, я собираюсь жить… – ответил Грядкин. – Просто жить. А для жизни нужны деньги. И я их заработаю.
– Как?! Как? – вскричал отец. – Что значит – заработаю? Опять торговать? Пойдешь в торгаши – чтобы ноги твоей в нашем доме не было!
Настала тишина. Отец то ли думал, не перегнул ли палку, то ли надеялся, что Николай сейчас одумается и начнет распаковывать чемодан. Но тут отец увидел, что у сына как-то странно загорелись глаза. Лицо у Николая вообще было странное – вроде ничего такого, но иногда он становился похож то ли на религиозного фанатика, то ли на мужика со старого советского плаката «Помоги голодающим!», на котором изможденный человек смотрит куда-то вдаль отчаянными глазами. С этими глазами он поднял с пола чемодан и сказал:
– Не будет.
После этого он вышел. Мать рванула было за ним, но отец схватил ее за пояс и держал так, пока шаги Николая не утихли, пока внизу не хлопнула входная дверь подъезда. И потом еще держал, чтобы наверняка…
- Двуллер-3. Ацетоновые детки
- Двуллер. Книга о ненависти
- Двуллер-2: Коля-Николай