Егор Летов: язык и мир. Опыт психолингвистического подхода к поэзии
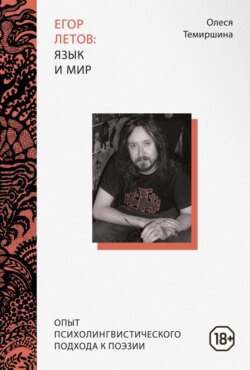
000
ОтложитьЧитал
Рецензенты:
Кихней Л. Г.- д-р филол. наук, профессор.
Гавриков В. А. - д-р филол. наук.
При оформлении обложки использованы фотографии из личного архива Н. Ю. Чумаковой.

© Темиршина О. R, 2024
© Оформление. ООО «Издательско-Торговый Дом „Скифия“», 2024
Актуальность Летова
(о книге Олеси Темиршиной)
Как и всякое научное сочинение, эта книга решает свои научные задачи. Но вместе с тем она – вольно или невольно – оказывается вовлечена в более широкую культурную ситуацию, которую хотят понять не только ученые, но и другие – и очень разные – люди: критики, журналисты, представители различных искусств и в целом самая разнообразная публика. Это культурная ситуация, в которой музыкант, поэт и, не побоюсь этого словосочетания, современный художник, известный под сценическим именем Егор Летов, вопреки всем ожиданиям вдруг занимает какое-то совершенно беспрецедентное место.
Удивление, собственно, вызывает то, что феномен Летова приобретает этот статус в эпоху девальвации общественной роли человека искусства как такового, будь то музыкант, поэт или современный художник. Безусловно, искусство никуда не исчезло, и даже наоборот, при почти беспредельных творческих, медийных и рыночных возможностях интернета производится в поистине массовых масштабах, что подразумевает и чрезвычайное расширение круга занятых им людей. Но все эти люди находятся в определенных нишах, востребованных определенной целевой аудиторией. А кроме того, влияние их творчества редко превышает порог потребительского спроса – оно нравится, впечатляет, на какое-то время, может быть, даже поражает воображение, но вряд ли так уж часто захватывает человека целиком, экзистенциально, нравственно и мировоззренчески.
Кажется, такой эффект искусства в наше время рассеянного, несфокусированного внимания остался где-то далеко позади – где-то в XX веке, когда еще были кумиры и фанаты, когда тайком переписывали кассеты и как огромного жизненного события ждали нового альбома любимого исполнителя, как сегодня ждут разве что новую версию IPhone. Но и оттуда, из XX века, искусство, похоже, уже довольно редко тревожит чью-то культурную память.
В этом смысле позиция Летова в рецептивном поле современности во многом уникальна. Его художественное влияние ощущается в самых различных сферах – от рока и рэпа до профессиональной «бумажной» поэзии. Причем не только у тех авторов, которые «застали» его в качестве рок-звезды 1980-х – 2000-х годов (что можно было бы объяснить простой ностальгией по тем временам), но и у самых молодых поколений поэтов, прозаиков и драматургов. Творчество Летова все чаще и чаще будоражит умы кинематографистов и театральных режиссеров, художников, поп-исполнителей и композиторов, занятых серьезной симфонической музыкой. Причем в художественной сфере на творчество Летова реагируют как авторы условно «авангардного» крыла, так и неоклассики или неотрадиционалисты, как те, кто более сфокусирован на формальном эксперименте, так и те, кто считает важным содержательную сторону искусства – идейную, этическую и социальную. Его постоянно поминают и интерпретируют политики, блогеры, телевизионщики и прочие «лидеры мнений». Причем в этой среде Летов – фигура консенсуса и конфликта в одно и то же время. Его высказывания, его тексты и его репутация как культурного героя безоговорочно признаётся как высшая ценность, но при этом идет активная борьба за ее значение и актуальность, за истолкование его наследия, за способы актуализации сформулированных им художественных концептов и жизненных сценариев.
Кроме того, Летов до сих пор, когда уже даже формально-социологически произошла смена культурно активного поколения, являет собой важнейший моральный авторитет. То есть его фигура для очень многих остается (или, наоборот, становится) этическим и мировоззренческим камертоном, его высказывания воспринимаются как значимые даже далеко за пределами искусства. Причем речь идет не об этическом кодексе самого Летова или о том, что он как личность представляется кому-то моральным образцом (хотя его репутация позволяет говорить о нем как об образце творческой свободы, нонконформизма, честности, бескомпромиссности и т. д.). Речь идет скорее о специфических особенностях его художественного мира и языка, проблемных вопросах, моральных дилеммах, которые по-прежнему жгуче актуальны и призывают современного человека к рефлексии, задают новые философские горизонты.
Книга Олеси Темиршиной очень мало говорит об этих вещах.
Однако масштаб художественного события, реконструированного исследовательницей в этой поистине фундаментальной (и первой столь комплексной) монографии о Летове, во многом приближает читателя к тому, чтобы начать различать очертания этого гигантского явления.
В работе говорится, что основным методом, на который опирается автор, является психолингвистика. Но на деле, как мне кажется, эта скромная самоаттестация, хотя и указывает на наиболее существенное, не затрагивает других важных аспектов проделанного анализа. Во-первых, при всем внимании к фонетическим, лексико-семантическим и грамматическим механизмам в их связи с психологией и даже, может быть, с психофизиологией творчества, О. Темиршина уделяет внимание и собственно поэтике (в частности, субъектной организации текста и поэтике художественного пространства, вернее, «пространственно-динамическим моделям»), и риторическим средствам, и коммуникативной природе летовской лирики.
Идея о том, что поэзия Летова как бы воспроизводит процессы «внутренней речи» с характерным для нее грамматическим, семантическим, чувственно-аффективным и имагинативным синкретизмом, позволяет очень многое объяснить во вселенной Летова и в оформляющем ее языке. Мне эта идея представляется центральной в книге. Она позволяет понять логику смысловых сдвигов, образных трансформаций и лингвистических смещений (странных лексических сочетаний, аграмматизмов и т. п.), которыми известна поэзия Летова. Эта всеобщая подвижность, «текучесть», многоуровневая природа которой блестяще проанализирована в книге, как мне представляется, касается не только изображаемого мира и изображающего его языка.
Летовский перформанс «внутренней речи», по-видимому, переводит нас в некий заповедный режим работы воображения (как автора, так и слушателя ⁄ читателя), где нарушается или вовсе снимается граница между изображением и изображаемым, означающим и означаемым, а вещи, образы и знаки стремительно движутся в общем потоке «безумного» становления. Иными словами, аналитика достигает здесь уровня уже не психологии, а художественной антропологии, ставящей вопрос не только о свойствах поэтического языка и схватываемой им реальности, но и о природе самого воображения и образно-символической репрезентации как таковой.
Книга, таким образом, оказывается интересна не только невероятно тщательным и целостным воссозданием летовской художественной системы (автор подчеркивает, что при всей кажущейся «мгновенности», как бы случайности и, может быть, даже хаотичности поэзии Летова, в ней есть весьма четкая поэтическая «алгебра»), но и чрезвычайно богатыми теоретическими импликациями, актуальными в контексте современного интеллектуального поиска.
Согласно мнению О. Темиршиной, творчество Егора Летова является новой инкарнацией авангардного искусства с его особой установкой на мощную суггестию и аффективно-энергетическое взаимодействие с реципиентом, с его радикальной устремленностью за пределы логико-лингвистических систем (как в утопическое будущее, так и в далекое, в том числе онто- и филогенетическое прошлое), с его переходом от эстетического «отражения» действительности к жизнетворческому, преобразовательному художественному и социальному действию.
Все это, безусловно, очень верно, но в этой книге мы вряд ли найдем однозначный ответ на вопрос, почему такой вектор оказывается возможным и востребованным на рубеже XX и XXI веков, когда работал Летов, и, в особенности, сегодня. Однако благодаря столь масштабно поставленной и столь глубоко проработанной проблеме летовского поэтического универсума мы можем сами попытаться дать на него ответ.
Возможно, все дело в том, что авангардный проект в контексте современного искусства переживает своего рода концептуальный и экспериментальный «перезапуск», по-новому ставя вопрос об эстетической, социальной (а также политической, что, конечно, очень важно для понимания Летова) и антропологической природе самого художественного опыта.
Анатолий Корчинский
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета
Таким образом, мысль Гумбольдта заключается в том, что различные по своему функциональному назначению формы речи имеют каждая свою особую лексику, свою грамматику и свой синтаксис.
Это есть мысль величайшей важности.
Л. С. Выготский
Но занимаемся ли мы биографической, психологической или историко-литературной интерпретацией индивидуальных явлений языка, если только, действительно, цель наша состоит в раскрытии известной индивидуальности, мы всякий раз неизбежно выходим за границы лингвистики и имеем дело с проблемами, которые не могут считаться принадлежащими собственно языковедению.
Г. О. Винокур
«Мир ловил меня, но не поймал»
О чем эта книга
Егор Летов – культовая фигура, влияние которой выходит далеко за пределы своего времени. С одной стороны, его поэтика оперирует сложными авангардистскими концептами, с другой стороны, Летов – автор текстов, буквально «ушедших в народ». Это парадоксальное сочетание простоты и сложности объясняет и распространенный взгляд на Летова как на человека, «объединившего маргиналов и интеллигенцию»[1].
Егора Летова множество раз пытались вписать в разнообразные историко-культурные системы (анархист, панк, коммунист, концептуалист, культуртрегер…), однако сам он ускользал от любых определений:
Я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой
И меня непременно повсюду
несметное множество
целое множество.
Эта формула личности нашла свое отражение и в поэтике. Кажется, что такие ее черты, как семантическая неопределенность и сопротивление жесткой смысловой фиксации, стали важнейшими особенностями поэтического языка Летова. Смысловая многозначность соседствует с мнимой простотой текстов. В поэзии Летова нет намеренной синтаксической усложненности, в ней отсутствуют сложные метафоры, она изобилует разговорными конструкциями и в целом напоминает наш повседневный язык.
Однако этот язык функционирует в какой-то совершенно иной бытийной перспективе. Как будто бы субъект речи, используя «простые слова», рассказывает о некоем непостижимом образе реальности, который разворачивается перед его внутренним взором здесь и сейчас. Этот образ виден только самому автору и недоступен нам – именно поэтому поэзия Летова оказывается во многих случаях темной и загадочной.
Песни и стихотворения Летова, даже повествовательные, часто кажутся беспредметными — как картины авангардистов, которых поэт знал и ценил. В таких произведениях есть выраженная материальная фактура (линии, краски, слова, образы), однако предметно-осязательная ситуация как будто бы растворяется, исчезает:
Всю ночь во сне я что-то знал такое вот лихое
Что никак не вспомнить ни мене, ни тебе
Ни мышу, ни камышу, ни конуре, ни кобуре
<…>
Руками не потрогать
Словами не назвать…
Невозможность реконструировать предметную ситуацию полностью компенсируется громадным суггестивным потенциалом, которым обладают летовские тексты. Возможно, что именно беспредметность его лирики является первопричиной этой суггестии: отсутствие предметной привязки дает возможность слушателю «вчувствовать» в текст свои собственные, личностные смыслы, не ограниченные логикой конкретной ситуации. Какова механика этой визионерии и можно ли определить ее конструктивные принципы?
Мы полагаем, что за этой беспредметной «гармонией» стоит строгая «алгебра», о чем, к слову, свидетельствуют многочисленные черновики Летова. Отсюда и главная цель этой книги: выявить принципы создания таких суггестивных, «сложно-простых» текстов.
Принципиальная неопределенность поэтического текста и его высокий суггестивный потенциал – взаимообусловленные феномены, задающие два главных методологических ориентира этой книги: лингвистику и психологию. При этом подход к тексту с психологических позиций выходит на первый план, лингвистика же оказывается важнейшим вспомогательным инструментом, который позволяет выявить закономерности когнитивно-психологического порядка.
Приведем образную аналогию. Можно описать фарфоровую тарелку как круглый предмет с плоским дном и приподнятыми краями – однако такого «внешнего» описания явно недостаточно, необходимо указание на функцию: «тарелка служит для еды». Только в этом случае можно сформировать целостное представление о предмете.
Отсюда максима: чтобы понять структуру, необходимо знать функцию. Мы считаем, что у лирики Летова также есть свои функции, лежащие в сфере психологического. Так, с одной стороны, его тексты по-особенному воплощают систему психологически значимых «личностных смыслов» (термин Л. С. Выготского), а с другой стороны, целевая установка его песен – как об этом писал сам Летов – перестроить сознание слушателя, магическим образом воздействуя на него. Психологической магии этого воздействия посвящен 2 параграф 14 главы, здесь только отметим, что в этом пункте летовский магизм смыкается с авангардистским акционизмом (достаточно вспомнить концепцию «черного» заумного языка Крученых, который приписывал зауми в том числе и магико-психологическую роль).
Ключевые установки этой книги соотнесены с широким объектным полем когнитивистики, поскольку нас интересует, как авторская модель мира, содержащая «личностные смыслы», «претворяется» в тексте. Однако мы стараемся не злоупотреблять термином «когнитивный», ибо в настоящее время он, будучи зонтичным по существу, в известной степени лишен конкретного содержания (А. А. Кибрик на презентации сборника «Мысль и язык» остроумно заметил, что сейчас во многих случаях «эпитет „когнитивный“ употребляется как раньше „социалистический“»).
Методологическим базисом работы стала отечественная психолингвистика, которая в своих основных теоретических построениях восходит к Выготскому. Именно психолингвистический подход помогает определить ключевые функции поэтического текста, которые обусловливают его структуру. Без этой функциональной направленности поэтический язык будет представать как бессистемная и афункциональная агломерация приемов и техник.
Однако же система личностных смыслов воплощается именно в языковой материи, поэтому без ее подробного и тщательного анализа выявить функции текста попросту невозможно. В лингвистическом плане исследование во многом продолжает и развивает подходы А. Н. Чернякова и Т. В. Цвигун, внесших огромный вклад в изучение языка Летова и впервые выявивших принципы создания «неопределенности» в летовской лирике.
Наша книга не является сборником статей, ее главы связаны друг с другом в рамках общего исследовательского сюжета, который движется по восходящей линии. Самые общие принципы поэтики Летова рассмотрены в первой части работы, она оказывается фундаментом для других разделов книги.
По этому пути происходит и усложнение материала: если первую часть монографии можно читать и без филологической подготовки, то в других главах могут потребоваться специальные знания. Автор тем не менее старался не уходить в «терминологические дебри» и по возможности доступно (избегая, впрочем, упрощений) разъяснять содержание специальной терминологии.
Самые интересные и – как это часто бывает, – спорные выводы содержатся именно в сложных главах книги. Так, именно в этих главах сделана попытка показать, как некоторые технологии поэтического языка смыкаются с тайнами человеческой психики и естественной речи. Мы пытались – хотя бы пунктирно – наметить эти любопытнейшие связи, тем более что поэзия Летова, ориентированная на максимальную психическую интроспекцию, материал такого рода содержит в избытке.
Осевым понятием монографии стало понятие модели мира, под которым понимается система личностных смыслов, воплощаемая на разных уровнях поэтического текста. Личностные смыслы сопрягаются с двумя фундаментальными сферами: субъект и образ пространства. Субъект в этой паре является детерминирующей инстанцией, именно от него как бы «отстраивается» вселенная Летова. И как субъект Летова является нестабильным, «прерывистым», «мерцающим» – так и пространство оказывается «текучим» и лишенным определенности.
В работе показано, как эта уникальная миромодель реализуется на уровне сюжетики и грамматики поэтического текста. Один из «основных» сюжетов лирики Летова видится нам следующим образом: субъект находится в замкнутом «мучительном» пространстве – субъект резко и одномоментно пересекает границу замкнутого пространства – субъект оказывается в иномирном пространстве без границ и оппозиций.
Реализация этого сюжета в текстах сопровождается грамматическими нарушениями. Основную исследовательскую концепцию, которая многократно подчеркивается в монографии, можно сформулировать следующим образом: грамматические сдвиги и смысловые деформации отмечают самые важные, личностно значимые участки миромодели. Говоря иначе, миромодель оказывается настолько оригинальной, что для выражения максимально индивидуальных значений, сопряженных с нею, слов «обыкновенного языка» не хватает. Языковая ткань начинает «рваться», возникают речевые неправильности и аграмматизмы. Такие стыки личностных смыслов и языка стали объектами нашего пристального внимания.
Сдвиги, нарушения, «поэтические ошибки» в лирике Летова – вовсе не случайное явление. В соответствующих главах доказана их системность и регулярность. Во-первых, большая часть этих деформаций соотносится со сферой субъекта и хронотопа, во-вторых, сюжет и грамматические сдвиги выражают одну и ту же систему смыслов, по-разному «оплотняемых» на разных поэтических ярусах. В результате этого формируются своеобразные вертикальные «стяжки» между семантическим и грамматическим уровнями. Так, семантика безличности во многих текстах регулярно сопровождается грамматическими деформациями персональности. Методологическим ключом к таким семантико-грамматическим соотношениям стал функционально-грамматический подход (А. В. Бондарко), позволяющий выявить систему семантико-грамматических связей.
Какие языковые модели позволяют адекватно выразить личностные смыслы? Важнейшей гипотезой исследования стала мысль о том, что главным способом выражения глубинных личностных смыслов в лирике Летова становится внутренняя речь, которая, как пишут психологи, обслуживает мыслительную деятельность человека. Именно естественная внутренняя речь становится своеобразным прототипом для поэтического высказывания Летова: так, она, связываясь с предельной «личностностью» поэзии Летова, обусловливает ее «беспредметность», неопределенность, смысловые зияния и систему грамматических деформаций.
Более того, именно внутренняя речь позволяет объяснить суггестивный потенциал летовской лирики. Стихотворение, моделирующее настоящий внутренний монолог, задает те самые «локусы неопределенности», которые слушатель наполняет своим смыслом. Фактически реципиент как бы «присваивает» летовский текст, заполняя его пустые места личным и предметным содержанием.
По-видимому, так «работает» любой поэтический текст, однако в сильной степени данный феномен выражен в поэзии, ориентированной на внутреннеречевой код. Это связано с тем, что поэзия такого рода максимально интенсивно использует «локусы неопределенности», которые являются неотъемлемой частью коммуникативной структуры внутренней речи.
Установка на «внутреннеречевой монолог» радикально меняет дейктическую перспективу летовских текстов. Местоимения и другие указательные слова в лирике Летова теряет свою предметную привязку: так, почти невозможно определить, какие сущности скрываются за тем или иным указательным словом. Тем не менее подход от модели мира позволяет интерпретировать содержание этих дейктик, встроив их в общий сюжет лирики Летова. И здесь перед нами открывается впечатляющий ландшафт, на фоне которого разыгрывается драма противостояния разных сил, действующих в летовском универсуме.
Отдельной смысловой линией работы стала высокая эмотивность текстов Летова. С этой эмоциональной насыщенностью, как кажется, связывается предельная телесность и физиологичность его лирики. При этом образ тела важен не сам по себе; он, как мы стараемся доказать, сопрягается с образом эмоционального переживания, а само тело становится метафорой аффекта.
Аффективное тело, как показывается в работе, встраивается в сюжет и метафорически отображает основные этапы протекания эмоции: от напряженного накопления через взрыв к нирваническому рассеиванию. «Дареные лошадки» из песни «Офелия» «разбредались на заре», а лирический субъект «за горизонтом» обретает новое онтологическое состояние.
На структурном уровне эмотивная доминанта текста, с одной стороны, приводит к появлению сложных метафор, базирующихся на вторичных оценочных значениях и тесно связанных с моделью мира, с другой же стороны, – обусловливает своеобразие синтаксического строя песен и стихотворений Летова.
Так, мы полагаем, что основной сюжет лирики Летова разыгрывается и синтаксическими средствами. Во многих летовских текстах синтаксический «монотон» (цепочка изоритмических фраз) – пожалуй, самый важный прием в летовской поэзии – резко прерывается в финале. Схема «итерация – обрыв» семантизируется, она фактически моделирует основной сюжет, когда герой, безуспешно пытающийся выбраться из замкнутого пространства, в какой-то – неожиданный! – момент оказывается свободным. В работе выявлены и психологические основы синтаксического монотона, показана их связь с религиозно-мистическими практиками, которыми занимался автор.
Самой герметичной сферой лирики Летова является, пожалуй, сфера звуковой поэтики, которая также связывается с внутренней речью и эмотивностью. Этот поэтический ярус, кажется, скрыт от самого поэта, однако, думается, что мощная суггестия песен Летова соотносится в том числе и со звуком. Звуковые скопления (ср., например: «Под гербом – гербарий гроба грубеет грим»), складываясь в фонетические кластеры, сопрягаются с определенными смыслами. Семантическая функция звука «прячется» на самом глубинном поэтическом уровне, именно там расположена своеобразная «подсознательная лаборатория», где происходит поистине алхимическое сплавление звука со смыслом.
Поэзия Летова исключительно своеобычна, тем не менее она сложным образом включается в культурный контекст. Так, его лирика органично вписывается в поэтическую традицию XX столетия, «оживляя» в частности темы и структуры русского авангарда 1910-20-х гг. Мы полагаем, что Летов фактически создал версию «авангарда для народа», воплотив многие экспериментальные установки Крученых, Введенского, Маяковского и др. в текстах, заслуживших подлинно народную любовь.
Так, отдельные известные песни были написаны фактически по «авангардистским рецептам» с использованием техники «мгновенного письма», при которой моментально фиксируется образный поток – либо внешний, либо внутренний. Крученых использовал эту технологию в своей зауми, записывая случайные образы, появляющиеся на экране бессознательного, Летов же, прямо ориентируясь на опыт Крученых (см. об этом в последней части книги), обращается к «актуальной поэзии», которая предполагает запись случайно услышанных слов, фраз… Именно так была создана знаменитая песня «Все идет по плану…»: «я сидел, собственно говоря, и описывал все, что по телевизору происходит. То есть я вошел в это состояние»[2]. Подобным образом пишется и «Реанимация»: «Был там один солдат, он перед смертью говорил нечто сродни великой поэзии: про раненых собак, про командира, про светящиеся тополя с пухом, которые летят до горизонта, про лошадок… Я сидел и записывал что успеваю, как Маяковский во сне записывал какой-то стих»[3].
С авангардистами Летова роднит также и исключительный интерес к народной «наивной» культуре. И здесь к лирике Летова подключается еще один культурный код – фольклорно-обрядовый. В последней главе исследования было показано, как в отдельных текстах реанимируются древнейшие образные структуры и мотивы. Так, важнейшей формообразующей моделью многих песен Летова оказывается славянский заговор. В частности, жанровый прототип заговора выстраивает смысловое пространство знаменитой песни «Прыг-скок».
Обращение Летова к заговору диктуется не абстрактным желанием реконструировать «славянский текст», но сокровенной близостью его модели мира к миру народной культуры с ее эсхатологичностью, лиминальностью, утверждением магической силы слова и героем, преодолевающим границу между мирами. Говоря иначе, заговор дает жанровую форму для органичного выражения личностных смыслов.
Мы надеемся, что выработанный в книге подход может быть полезен не только при анализе поэзии Летова, но и при интерпретации иных поэтических практик. Поэзия – это неотъемлемая часть нашего бытия, и понимание работы поэтических механизмов может быть встроено в общее знание о символосфере человека.



