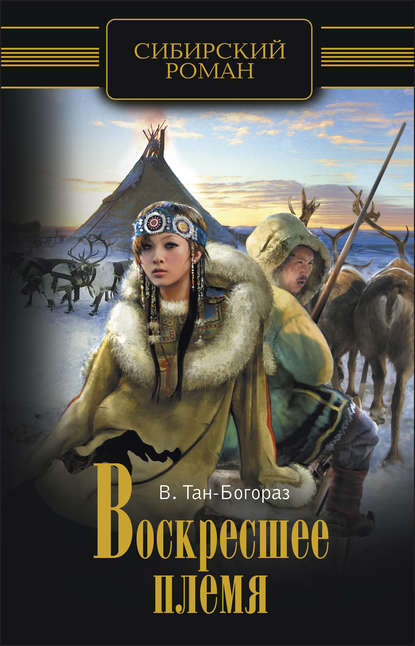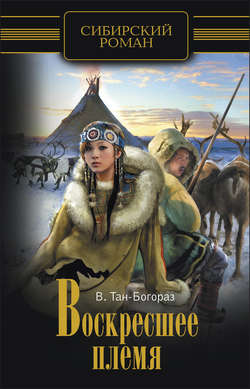
000
ОтложитьЧитал
Глава четвертая
Лыжные охотники погибающего племени выгнали из леса на твердую тундру обрывок оленьего стада. Было оленей штук двести, не то они были дикие, не то одичавшие, отвыкшие от общения с людьми.
Все же у одунов оказалось весеннее мясо, и можно было забыть на время о страшной работе людоедной старухи Курыни.
Вскрылась река. Появилась хорошая рыба, ходовая и жиловая. Но не было по-прежнему ни чаю, ни муки, ни – о горе! – табаку, хотя бы на единую жвачку, на малую затяжку из трубки, и уцелевшие охотники стали говорить: «Довольно сидеть, чего еще высидим? Идем за товаром на Родчеву. Не приходят якутские торговцы. Сами пойдем, отыщем, силою притащим».
В последний июньский день, когда ошалевшее солнце три недели бессонно бродило по небу, на верхнем плесе увидали мелькание отблесков. То были отблески шестиков. Кто-то поднимался в челноке снизу наверх, толкался в ослепительном небе. Кто-то шел оттуда, где было жирное якутское масло и сладкие дорогие русские продукты. Одуны молча ждали у реки. В вертлявом челноке, долбленном из осины, приехал человек, маленький, тощий, в замшевом кафтане, с длинными и тонкими руками и ногами. Они были такие прямые, что думалось, может быть, это и есть деревянные шесты, и этими шестами толкался пришелец о тинистое дно.
– Здравствуй, Багылка! – окликнул Шоромох с важностью в голосе.
Это был нищий из нищих, сирота Багылай (Василий), откупленный раб, иждивенец якутского князя Чемпана (Степана) на Родиевой. Багылай был не якут и не одун, был он из племени эвенов, что ничуть не богаче и не лучше погибающих одунов. Здешние эвены некогда ездили верхом на оленях. Но оленей они съели и стали поневоле ходить пешком и вышли с последним о ленным караваном на богатые якутские заимки по многопокосной Родиевой. Тут они жили как черт пошлет, выпрашивали у жирных якутов рыбные кости и объедки, ковали им ножи, когда было железо, нищенствовали, унижались и все больше должали якутам. Отец Багылая, Оляшкан (Алексей), тоже задолжал толстомордому князю Чемпану, не выдержал долга и умер.
Весною «якутская управа» в уплату многотысячного долга распродала имущество покойного Алешки, а главное – детей его: тоненьких, проворных, из охотничьего племени.
Эвены даже пешие превосходят в охоте конных якутов. Багылай был из хорошего охотничьего рода, улавливал искусно горностаев и, случалось, ходил на медведя один на один, с кремневым ружьем и рогатиной.
Он выскочил на берег, вытянул челнок за собой.
– Говори, – приветствовали его хором несчастные одуны.
– Накури нас, – позвала Курынь. – Три месяца табаку не пили, утроба вопиет.
Иждивенцы у богатых якутов все же перехватывали порою хотя бы листок табаку. Они были удачливее захолустных одунов, навсегда бестабачных.
– Молчи, не дразни, – не выдержал и фыркнул на жену Чобтагир. – Какой табак может быть у злосчастного якутского раба?
Эвен, однако, вынул из-за пазухи кисет, и одуны с замиранием сердца увидели, что кисет объемистый, раздутый какой-то начинкой.
С важным видом Багылай вынул из кисета два больших табачных листка, разорвал на частички и стал оделять присутствующих.
– Мэ, курите.
– Где взял? – спросил пораженный Шоромох.
– Хо, у хозяина…
– Как раздобрился, – радостно сказал старик, – поеду и сам тоже возьму.
– Вот мы поедем сейчас.
Багылай покачал головой.
– Незачем ехать, – сказал он спокойно. – Хозяина не стало.
– Как не стало, куда не стало? – спросили оживленные одуны.
– Забрали его, – подтвердил эвен. – Далеко увезли.
– Кто забрал?
– Русские советчики забрали, с винтовками, с ножами.
Воинственный дух вспыхнул в глазах у старика.
– А вы отчего не заступились? – сказал он задорно. – На Родиевой есть ружья.
– Нет, – сказал эвен. – Те ружья не для нас, а против нас. Довольно нашей крови выпил Чемпан.
Пусть попробует теперь, когда кровь из самого потянут. Съели нас.
– Что ты такое говоришь? – спросил с удивлением Шоромох.
– А то говорю. Даже кобыла лягается, и корова бодается, а разве человек хуже кобылы и коровы? Мы с русскими, советскими, не станем воевать. Пришли, попросили словить пузатого Чемпана. Он, кстати же, из Родиевой бежал и лесами собирался пройти на высокую Мому, но мы его словили, как ловят бесхвостого зайца, и отдали его русским, советским.
– Да что за советские русские? – почти завопил Шоромох. – Мы знали, бывают начальники русские, и русские казаки, и русские торговцы, а это какие советские, новые русские? Отчего они советские?
– Большие, советские, – сказал Багылай. – Болыписки, большаки… Большие почему, ты сам понимаешь, – большие, великие, сильные. А советы оттого, что везде собирают советы, русские, якутские, эвенские советы. Сами ничего не решают, решают советы. А еще особая такая… Особые люди. Те крепко решают, дважды их ум не идет. Что скажут – то ладно. Как раз. Их все слушают.
– Понять ничего не могу, – сказал Шоромох упавшим голосом. – То без советов ничего не решают, а то советы слушают особую такую.
– Отчего она такая? Отчего ее слушают?
– Оттого, что она умнее всех, – оказал Багылай с важным видом.
– Путаешь ты, – сердито возразил Шоромох.
– Самые умные, самые старые, самые дельные[6], – старался объяснить Багылай. – Есть посредине земли город такой Керемле, а река у него Маськува, – там в Керемле живут, на реке Маськуве, оттуда направляют. И еще называется «советски власть», а другие называются «кам», «каму…», «каммунысты», «партия».
Он выговаривал незнакомые слова довольно чисто, так что, быть может, и русский пришелец из «Керемле» мог бы уловить их настоящее значение.
Лицо Багылая осклабилось улыбкой.
– То – старики, самые умники, а есть и молодые. В нашем городе есть молодые: якуты, эвены, русские, всякие есть. Они медвежата для старых медведей, а имя такое же: «кам…», «ком…», «камчом…», «камчомол».
Одуны устали слушать непонятные слова.
– Будет тебе: кам, ком. Ты толком скажи, что у вас было? Кого забрали? Чемпана забрали, другие как? И как это вышло, скажи.
– Приехали такие молодые, в шапках горшками, рожнами, кожаные куртки, сапоги, и лица безбородые, вроде как у нас, ни одного бородатого. Бритые усы. Один был якут настоящий. Говорил по-якутски, совсем как настоящий «житель». Но только и этот якут особенный.
Приехали, заехали в улусную управу, к Лупандину. Лупандин, вы знаете, писарь толстый такой, напился нашей крови, как клещ, его взяли, вышибли из дома: «поди вон», говорят. Наутро собрали суглан[7], и сначала по-старому пошло, скотистые люди пришли, тойоны-князьцы[8] собиратели мехов, многооленные торговцы, почтари[9]. Много их, а с ними их братья, приказчики и всякий, кто ест от них и пьет от них. Много пришло, полную управу набили, сесть некуда, стоят. Старым да богатым Лупандин приготовил скамейки. Тут вышел русский начальник, а с ним тот якут.
– Все пришли?
– Да, все стоящие! А тот якут поглядел, кафтаны у них крепкие, шапки у них лисьи, конские сары[10] на ногах. Лица у них толстые, брызнуть хотят.
– Вот они какие, – говорит, – словно быки кормленные.
– Все стоящие, – еще раз сказал Лупандин.
Якут засмеялся и говорит:
– Ну, позовите нестоящих.
А уж там на дворе шум, крик. Откуда-то люди узнали и пришли. Малоскотные люди. Долговые по сену, по быкам, по лошадям. Чужие пастухи-погонщики, чужие косари. Вопят на улице: «Пустите и нас!»
Двух послали к начальнику: Кирика да Микшу. Кирик-то – олений пастух, а Микша – сенокосный человек. Летом заказы берет, а зимой отрабатывает.
– Не слушай этих толстых, – говорят. – Нас тоже послушай.
А начальник говорит:
– Пускать вас некуда, мы лучше сами к вам выйдем.
Вышел, спрашивает:
– Люди, скажите, какая ваша главная обида?
Один кричит:
– Покосы и земли верните, улусные покосы все захватили богачи! Нашим лошадям копытом некуда ударить…
А другие кричат:
– Долги надо скостить, пропадаем от процентов! Что больше платим, то больше остается.
А тут подваливает новая сила: иждивенцы – хумаланы, молодые мальчишки – рабы. И не то якуты, а всякие: наши эвенские есть и ваши одунские, взятые за недоимки.
И женщины, веришь, пришли, и безродные старухи. Кричат:
– Напитайте нас!.. Мы век по веку досыта не ели.
И младшие тоже, молодые продажные сироты. Кричат:
– Оденьте нас! Зимой и летом голые ходим.
И показывают приезжему начальству въявь, как они голые ходят.
Этим рассказом одуны были захвачены. У них накопилось обид не меньше, чем в якутском улусе. Они были его частью, окраиной, самой обиженной, бедной, голодной. И вместе с иждивенцами им тоже хотелось кричать: «Напитайте нас, оденьте нас. Мы век по веку досыта не ели».
– Как дальше было, говори!
– А дальше начальник говорит:
– Надо совет выбирать. Кто у вас прежняя управа? Князьцы – князьцов долой, секретарь – секретаря долой, совет – их совет долой. Новый, наш выбирай. Десять человек. Молодых выбирайте, годных для общественного дела.
Поднялся страшный крик. Толстобрюхие все обозлились, кричат:
– Чемпана выбирай! Лупандина хотим!
А пастухи и сенокосцы кричат:
– Кирика да Микшу, своих хотим поставить!
А иждивенцы кричат:
– Поставьте Петра-старика, он хоть старик, да лучше молодого. Он человек справедливый. Он и для нас оторвет у этих толстобрюхих и масла, и мяса.
– Ну, дальше, – торопили одуны.
– А дальше пошло хуже. Кирик да Микша наскакивают на Чемпана:
– Ты общественный скот продал и почтовых оленей украл.
А Чемпан, такая гадина, пошел напролом, кричит на самого начальника:
– Кто ты такой, мы тебя не знаем! Другие приезжали, к князьям уж всегда уважительные. А ты слушаешь всякую грязь, небывальщину, замаранных людей.
А русский говорит:
– Не знаешь меня, так узнаешь. Кирик да Микша – они правду сказали, тебе это не пройдет даром. Возьмите его!
И двое таких, в суконных рожнах, сразу подхватили Чемпана под руки, потащили в холодную.
И другим богачам говорит:
– Вам то же будет.
Присмирели толстобрюхие.
– Теперь выбирайте совет.
Выбрали пять человек: Кирика да Микшу, это уж так, разумеется, да старого Петра, да старуху Багилису Чубучиху. Да молодого иждивенца эвенка[11] Оляшкана. А к ним все-таки богатого Викешу, Чемпанова братана (двоюродного брата). А в секретари, верите, того же Лупандина. А якут говорит:
– Не надо Лупандина, я сам буду для вас секретарем…
– Дальше, – настаивали одуны.
– А дальше пошло по-худому, – сказал Багы-лай. – Чемпановы братья ночью открыли холодную, вывели Чемпана из холодной, ружья разобрали из склада, взяли лошадей, ускакали. А кто-то попробовал лучшую юрту поджечь, где были гости. Да мерзлые плахи, такие снежистые, не загорелись. Так началась у нас война…
– А теперь как?
– Так и воюем. Они нас донимают, мы их донимаем. Вот Чемпана словили. Весь скот ихний разобрали, поделили, который съели, который пасем. Их зло берет. Прячутся, с ружьями ездят. Скота у нас нету, за лошадиную голову две человечьих берут. Пошла поножовщина, война.
– А Чемпана кто словил? – спросил с интересом тоненький охотник Мамекан.
Он был с виду небольше и нетолще Кендыка. Лицо у него было детское, словно пятнадцатилетнее, а на деле ему было под сорок, он убил на веку больше десятка медведей. В зимнее время в берлоге, а в летнее – прямо под деревьями.
– Кто Чемпана словил? Я словил, – с важностью ответил Багылай. – Мы, ламуты, иждивенцы. Он, видишь, приехал на заимку. Там были коровы, мы их пасли. Приехал, пообедал, флягу с аракой достал, поднес по стаканчику. Удивились, отчего он такой добрый. Спрашиваем:
– Что слыхал? Говори.
А он отвечает:
– Ничего не слыхал. – А потом рассердился, даже лицо почернело, и крикнул: – Не будет того, чтобы русские стали законом! Забрать у тойонов и отдать хумуланам! Безобразие такое!
А мы слушаем, не понимаем: как это забрать и отдать?
А при ихних дорожных конях приехали два пастуха. И они нам рассказали, что и к чему.
– Натерли ему холку, – говорят. – Сала слупили от жирного черта. Сбежал от начальства, супротивник. Вот так-то иждивенцы поступают в улусах и управах…
А мы себе сказали: «Мы тоже так поступим». И собрали суглан, ночью, под луной, потихоньку. Ждать, говорим, не надо, пока не очухался. Мы тоже заберем и тоже отдадим. Мы скот заберем и главную скотину, безрогого хозяина. Прямо к Чемпану пришли, скрутили ему руки. Он сперва отбивался, брыкался, кусался. Так меня снизу укусил, потом запросил:
– Отпустите меня, по лошади дам.
А наши смеются.
– Где возьмешь? – говорят. – Отошли от тебя и коровы и лошади.
А он говорит:
– Лобанчиками[12] не поскуплюсь, только отпустите.
– А, лобанчиками…
Вот стали обыскивать его. Одежу-то пороли, кожу его собственную хотели подпороть. Нашли его золото. Зашито не в одежу, а в конское седло.
Повезли его к начальнику, в Родчеву. Два дня ехали, подъехали к Родчевой, тут выскакали к нам главные Чемпановы родовичи, племянники и братья со всей командой. Ружья у них. Постреляли, побили нас, отняли Чемпана. Брата Чемпанова мы тоже убили. Племяннику брюхо подпороли, а сам Чемпан ушел.
С тех пор идет у нас круговая ловитва, гоньба. Сегодня мы их гоним, завтра они нас гонят. Конца-края этой гоньбе не видно.
Глава пятая
Гостя накормили оленьим мясом, оно было «загорелое», лежалое, с запахом, с мыльным налетом. Но это было привычно для всех, для одунов, эвенов, якутов и для северных русских. Даже приезжие с юга чиновники быстро въедались в эту северную пищу и жирную рыбу с запашком, примороженную в зимнюю стужу, явно предпочитали свежей.
Одуны накурились табаку в первый раз после многомесячного перерыва. Курили все сразу: мужчины, женщины и дети, даже мало примешав в табак скобленого дерева. Единственный кусок сахару, привезенный эвеном, не белый, а серый от грязи, не стали делить, а просто положили на шкуру и долго сидели и смотрели на него. Он был слишком мал, чтобы делить его: кому его отдать?
– Деду-покровителю, – предложил Чобтагир.
Но все ответили молчанием. Отдать сахар деду – значило отдать его самому шаману.
Шоромох не выдержал и стал возражать двоюродному брату:
– Гостинец – от русских. Зачем нашему деду русские гостинцы? Пусть ест свои.
– Его горло тоже хочет чужого, – повторил Чобтагир обиженным голосом.
Он чувствовал щекочущее желание острого, сладкого, чужого в своем собственном горле. Это желание было такое острое, что он ощущал его как чувство самого божественного деда-покровителя.
– Реке отдадим, – выступил Шоромох со встречным планом. – Она – наша кормилица, рыбу нам дает, сладкая рыба, и сладкое за сладкое.
Река-кормилица была женским божеством, но предводительница женщин, молчавшая доныне Курынь, выступила с предложением более близким к интересам текущей минуты:
– Маленьким детям отдадим, на них хватит.
– Скольким? – спросил деловито Шоромох.
– Всем одиннадцати, – ответила Курынь.
– Нет, четверым, – возразила Кия.
Она имела в виду самых маленьких детей, двухлетних и трехлетних. Было их четверо, и всех их кормили грудью матери, одного из них кормила сама Кия.
В голодное время это доставалось им трудно, и несчастные матери так исхудали, что были похожи скорее на живые манекены, костлявые скелеты, обтянутые бурою кожей, с мешками висящих грудей. Дети все-таки жили, высасывали жидкое молоко из этих полуиссохших кожаных мешков.
– В воде разведем, пусть будет вроде вина, – предложила другая мать, Отолия, но при слове «вино» все племя пришло в необычное возбуждение.
– Мы сами выпьем, – кричали мужчины, – весь век не пробовали, выпьем, захмелеем.
Старуха Карито даже заплакала от жадности. Победило массовое предложение. Драгоценный кусок сахару растворили в котелке горячей воды, потом остудили, и все подходили с важным видом и выпивали по малой оловянной чарке.
Охмелеть одуны, положим, не охмелели, но все же пришли в прекрасное настроение. И стали приставать к приезжему с вопросами:
– Какие большаки, вправду ли они большие, или такие же, как все люди? И если они большие, зачем передали такие маленькие гостинцы?
– Они не прислали, – сказал обидчиво эвен. – Я сам привез. Они еще даже не знают о вас.
– А зачем не знают? – ворчали одуны. – Должны все знать, если они умнейшие.
Это было новое неслыханное требование. О прежнем начальстве никогда так не думали. Мечтали о том, чтобы оно забыло об одунах со своими постоянными требованиями ясаков и уплаты долгов, дорожных, рыбных повинностей. А от этого нового правительства, еще не зная его, уже требовали заботы и внимания.
– Отчего «большаки» не приехали? – спросил Шоромох уже прямо. – Тебя послали. Они большие, ты маленький.
Эвен усмехнулся.
– Так старые люди сказывали. Вот и я вам расскажу. Шел по лесу стрелец и набрел на землянку, дверь отодрал, а в землянке дед лежит, такой длинный, изогнутый, голова на пороге и ноги на пороге. «Ты кто таков?» – спрашивает дед. – «Я – посланец». – «А кто послал?» – «Князец послал!» – «К кому послал?» – «К тебе послал!» – «Зачем послал?» – «Скажи, – говорит, – пускай придет пирога поесть». – «А велик ли пирог?» – «На три леса, на четыре реки, на семь болот». – «А кто его везет?» – «Олень везет». – «А велик ли олень?» – «Голова на Индигирке, а хвост на Колыме». – «А велик ли князец?» – «Если шапку наденет, за небо заденет». – «Пирог велик, князь велик, олень велик, ты зачем мал?» – «А я вчера родился, сегодня на дело годился. Я еще не вырос». – «Ну, ладно, ступай. Скажи: либо буду, либо нет». Вот и я еще не вырос, – сказал эвен при общем смехе. – Но я вырасту.
– Пересядь ко мне, – предложил отрывисто Чобтагир.
Это было почетное внимание, поскольку божественный служитель был наиболее почетным членом одунской общины.
– Отвечай, о чем спрошу тебя. Скажи, большие вызывали попа из Верхне-Обединского острога?
В устах шамана это был вопрос профессиональный.
Верхне-Обединский острожок был упразднен и покинут за ненадобностью уже столетие назад. Еще уцелела церковь. Правда, последний поп, служивший в этой церкви, тоже умер лет десять назад. Но от него остался семейный корень, дочери, все незамужние, пять девиц. Поповские дщери вели свое девичье хозяйство по всем правилам северного производства: рыбу ловили, ставили капканы на лисиц, даже на белок ходили с ружьем. И хотя не имели мужей, но все же рожали детей. Обличье у детей было разное: у одних – подходящее к русскому, у других – подходящее к якутскому, с широкоскулыми лицами, обтянутыми коричневой кожей. У третьих было даже эвенское обличье, тщедушное, сухое, как у птиц. Но дети у девиц не держались и мерли, и в усадьбе на всех пятерых оставался только мальчик Алеша, последний сынок последней младшей дочери. Он был хилый, с кривыми и слабыми ногами, пожалуй, немногим получше последнего русского царенка, Алексея Романова, с которым он случайно совпадал и по имени.
Рядом с поповской усадьбой жило семейство обединского дьячка. Дьячок Парфен был старый, лет за шестьдесят, но для своих лет еще совсем бодрый. Он был неграмотен и плохо говорил по-русски. Но иногда все же помогал попу при службах, даже Апостола читал, – конечно, наизусть, не глядя в книгу и почти ни слова не понимая из кудрявых фраз церковнославянского наречия.
Лет пять после смерти попа церковь стояла без службы. Но в последние годы Парфен осмелел и стал справлять службу, – правда, редко и только в большие праздники. Но служил он по-своему, в сущности, не служил, а шаманил.
Он отобрал три иконы: Николу-чудотворца, Спаса и Спасову мать. В церкви был ильинский престол, но икону Ильи-пророка Парфен отверг: сердитый Илья, жутко смотреть на него, укусит Илья.
Избранников своих Парфен расставил на полу рядом и поставил пред ними угощение: свечей и ладану у него и в помине не было; но он налил стеклянную лампадку рыбьим жиром и запалил фитиль из моха. Кругом лампадки была пища: вареная рыба и мясо, колбасы, пирожки и другие туземные блюда. Парфен плясал перед богами, прыгал, уговаривал их:
– Ешьте больше, ешьте и нам тоже давайте!
Эти своеобразные празднества привлекали эвенков и даже богатых якутов. Все приходили и приносили дары, не только рыбу и мясо, но и белок. Под церковно-шаманскую службу подводилась, таким образом, прочная экономическая база.
Церковную службу Парфен, как указано, справлял дважды в год: на Пасху и на Рождество. В другое время он тоже служил, но уже не в церкви, а у себя в избе. У него был собственный бубен, не хуже шаманского, и он призывал по порядку различных богов: эвенского Гаукы, якутского Белого бога и русского Спаса Милостивого. Чтобы разговаривать с ними, он вызывал духов-переводчиков, по одному на каждую народность. Одунские духи говорили только по-одунски, эвенские – по-эвенски.
– Часовню раскрывали? – настойчиво спрашивал Чобтагир.
В Родиевой была часовня – деревянный сруб с крестом на крыше. В часовне порой служил настоящий поп, проездом из Средне-Обединска.
– Часовню раскрывали, ага, – подтвердил эвен, – даже богов всех повытаскивали наружу. Большие не верят российским богам. Это, говорят, все обман, деревянные доски, обираловка. А Парфена как вызывать стали бы? Он, как весть получил, ушел от больших, схоронился в лесу.
Одуны молчали в удивлении.
– А может, они любят наших здешних божков, душков маленьких! – сказал Чобтагир несмелым, просительным тоном.
Эвен покачал головой:
– Наших тоже бранят, особенно шаманов. «Не верьте им, – говорят. – Обманщики они, все только зря обирают вас».
– А какие же у них собственные боги? – спросил Чобтагир.
– Богов у них нет своих, есть человек самый большой, оттого и зовутся большие. Имя тому человеку Ленин.
– Живой? – спросили все с огромным интересом.
– Был живой, а теперь покойник. Однако он есть и ныне, помещается в городе, лежит в гробнице, сторожит свои большие дела.
Это одуны поняли. Им было близко чувство почтения к покойному герою.
– Постой, – припомнил неожиданно Шоромох. – У русских в срединном городе еще белый князь был, солнцеликий господин. А он теперь где? Он, знаете, был ледяной, а не солнечный, и дом у него был тоже из нетающего льда[13].
– Слыхал, уничтожили его, – сказал эвен. – Солнце поднялось, лед растаял, и стала лужа.
– Кто был на месте его?
– Ленин, – повторил эвен. Он оба раза повторил это имя совсем чисто. Его легко произносить на различных языках.
Молодежь сидела молча. Ей не следовало вмешиваться в разговоры старших. Но при втором повторении этого звонкого имени у мальчика Кендыка почти непроизвольно вырвался вопрос:
– Какой Ленин, видеть бы его…
– У меня есть лицо, – сказал эвен с таинственным видом.
Он порылся в своей берестяной табачнице и достал оттуда оборванный листок помятой и запачканной бумаги.
– «Исколу» затеяли большие для якутских детей, – сказал в пояснение эвен. – Такие бумажки привезли, детишек заманивать.
Листок представлял обрывок букваря. На листке было лицо, знакомое всему миру; даже сибирские туземцы в наиболее глухих захолустьях прямо говорили «лицо», так же, как некогда греки в Александрии тело Александра Македонского, находившееся в мавзолее, просто называли «сома» – тело.
Под лицом было пять знаков, непонятных для оду нов. Кен дык ткнул пальцем в знаки.
– Дай-ка сюда! – Он разложил листок и с пылающим взглядом стал быстро срисовывать лицо и знаки.
Он рисовал на белой бересте тонко очиненным кусочком березового угля, но лицо вышло у него похожим, а знаки совершенно тождественными. Северные народы вообще обладают большими художественными способностями.
– Как сказал ты? Ленин? – переспросил он опять.
– Вот, вот, вот, вот, вот: Л-е-н-и-н.
Он разделил без учителя указанное слово на пять звуков, и каждый из них соответствовал одному из пяти знаков. После того он быстро перевернул бумажный листок на другую сторону, где тоже были рисунки и слова. Там были нарисованы мелкие олени группами: один, два, три, четыре. В таком же точно роде ацтеки в Мексике записывали счет головами индеек. Под группами мелких оленчиков стояли цифры: 1, 2, 3, 4, а внизу была общая подпись тоже из пяти знаков, и, всматриваясь в них, Кендык с удивлением увидел, что они очень похожи на знаки предыдущей страницы. Он даже прочел их: л-е-н-и, а пятый знак стоял впереди и был похож на кружок или на открытый рот. Кендык открыл рот, сделал его круглым и почти непроизвольно выговорил «о». И вышло, таким образом, второе слово: олени. Второе слово, написанное на неизвестном языке незнакомыми знаками, расшифровал по-одунски мальчик.
– Ух, хорошо, – сказал он с увлечением – Новые слова. Еще какие есть слова?
– Не знаю, – признался эвен. Потом подумал и прибавил: – Ну, скажем, – совет, большаки.
– А знаки какие? – настаивал Кендык. Эвен опять подумал.
– Вот я тебе дам еще бумажку. Взял на цигарки, да уж пусть.
Он достал из табачного кисета обрывок газетного листка.
– Вот, – показал он. В заголовке стояло слово с теми же знаками: Ленин. Вторая половина была незнакомая, но эвен подумал и сказал: – Ленинград.
– А что это «Ленинград»? – настаивал мальчик.
– Город Ленина, – ответил эвен.
Ум его был такой же острый, как у одунского мальчика, и он успел нахватать от приезжей комиссии обрывки слов и знаний.
– А вот это советская метка, – сказал эвен; он достал из-за пазухи другой листок с рисунками, тоже для школьного употребления. – Вот видишь, это советская метка: горбушка да молот.
– Горбушка для чего? – спрашивал Кендык.
– Хлеб стричь.
Якуты косили сено кривою неуклюжею горбушей, которую каждый раз приходится заносить через голову. Она дает прокос круглый и неровный, с большими прорехами там, где сходятся разные круги. Маленькой горбушей – горбушкой – якуты называли стальной серп, который тоже был кривой, но гораздо короче горбуши. Другое имя серпа было «колосогрыз».
– А зачем горбуша и молот? – спросил с интересом мальчик.
– Горбуша для хлебных работников, – объяснил эвен, – а молот – для работников железного дела.
– Ах, – сказал с уважением мальчик, – ты все знаешь.
Эвен погостил и уехал, но жало его рассказов осталось в душе восприимчивого мальчика. Целыми часами он рассматривал рисунки на листах, неровные газетные строчки. «Как они бегут, – думал он. – Длинные-длинные, узкие-узкие, а все рядом. Какие слова тут написаны?» Он упорно разглядывал газетный листок, стараясь разыскать знакомые ему знаки.
«Вот Ленинград, вот еще раз Ленин. Кто был Ленин, откуда он взялся и каков его город? Как попасть в Ленинград? На запад, далеко, далеко, вниз по воде. Все доброе восходит от устья, вверх по воде, все хорошее восходит по воде, и нечего ждать, надо спуститься вниз по воде, навстречу хорошему. Так же и с запада раньше приходило все худое: злые начальники, казаки, злые болезни, обманщики-купцы, а теперь все, видится, стало по-новому: с запада стали приходить какие-то новые, неслыханные вести, большие работники, Ленин, большие приказы: „богатство отнимите от купцов…“ Город Ленина… Можно ли попасть в город Ленина, перейти через пустыни, спуститься вниз по воде и далеко идти? Жирная рыба тоже восходит от устья, вверх по воде, а осенью тощает, опускается вниз по воде и дохнет по дороге. Трудно идти по воде. И, может быть, если пойти по воде, то издохнешь, как тощая рыба. Ух, не знаю… Как бы узнать?»
Мальчишка в недоступной одунской глуши, от случайного слова проезжего эвена, от газетного обрывка, почувствовал жажду перемен, любознательное желание узнать что-либо новое, прыгнуть в это новое, как в прозрачное озеро, плавать в нем и забыть навсегда о своей унылой, постылой, голодной жизни.
- Союз молодых
- Воскресшее племя