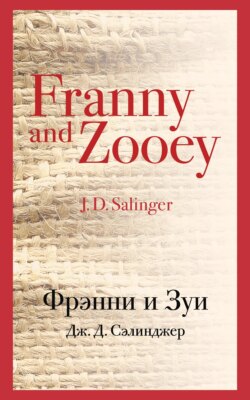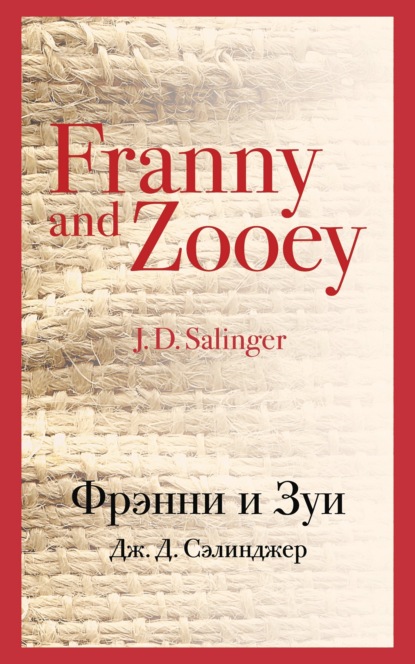J.D. Salinger
Franny and Zooey
* * *
Copyright © 1955, 1957, 1961 by J.D. Salinger,
RENEWED 1989 by J.D. Salinger/ Russian language rights arranged with the J.D. Salinger Literary Trust through the Andrew Nurnberg Literary Agency, Moscow, Russia
© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2024
Фрэнни
Несмотря на яркое солнце, утром в субботу снова пришлось надевать пальто, а не просто куртку, как всю неделю – и такая погода, вопреки ожиданиям, пришлась на большие выходные, когда играла Йельская сборная. Из двадцати с чем-то молодых человек, ожидавших на вокзале своих подруг, которые должны были прибыть поездом в десять пятьдесят две, только шестеро-семеро стояли на холодной открытой платформе. Остальные толпились, сняв шляпы, группками по двое, трое и четверо в нагретом зале ожидания. Они курили и разговаривали, в основном изрекая догмы профессорскими голосами, словно каждый из них с полнейшей категоричностью прояснял, раз и навсегда, некий весьма неоднозначный вопрос, который внешний косный мир запутывал, нарочно или нет, в течение веков.
Одним из тех шестерых-семерых на платформе был Лэйн Коутелл, стоявший в плаще «Бёрберри», вероятно, с пристегнутой шерстяной подкладкой. Впрочем, назвать его одним из них можно было лишь с оговоркой. Вот уже минут десять, если не больше, он намеренно держался вне разговорной досягаемости остальных ребят, спиной к стойке с бесплатными книжками христианской науки [1], убрав руки без перчаток в карманы. На шее у него было намотано каштановое кашемировое кашне, практически не защищавшее от холода. Он вдруг резко и рассеянно вынул правую руку из кармана и стал поправлять кашне, но затем передумал и той же рукой достал из внутреннего кармана пиджака письмо. И тут же стал его читать с приоткрытым ртом.
Письмо было написано на машинке на бледно-голубой бумаге. Вид у него был засаленный, несвежий, словно его уже не раз вынимали из конверта и читали:
Кажется, вторник
Дражайший Лэйн,
Я не представляю, сумеешь ли ты расшифровать это, поскольку гвалт сейчас в общаге просто запредельный и я едва слышу свои мысли. Так что, если я напишу что-нибудь неправильно, будь добр проявить ко мне доброту и не заметить этого. Кстати, я вняла твоему совету и приклеилась с некоторых пор к словарю, так что, если это испортит мой стиль, виноватен ты. Короче, я только получила твое прекрасное письмо и люблю тебя вдрызг, вдребезги и т. п. и жду не дождусь выходных. Очень жаль, что не удалось пристроить меня в Крофт-хауз, но мне вообще-то все равно где жить, лишь бы тепло и без клопов и видеть тебя периодически, т. e. ежеминутно. Я с некоторых пор того, т. e. помешалась. Совершенно обожаю твое письмо, особенно где про Элиота. Кажется, я начинаю смотреть свысока на всех поэтов, кроме Сафо. Я читаю ее как сумасшедшая, и давай без пошлостей, пожалуйста. Я могу даже сделать по ней семестровую работу, если решу добиваться признания и если смогу убедить эту кретинку, которую поставили моей наставницей. «Нежный Адонис при смерти, Киферея, что же нам делать? Бейте в грудь себя, девы, и туники раздирайте». Разве не чудесно? И она сама это делает. Ты меня любишь? Ты ни разу не сказал в твоем ужасном письме. Ненавижу тебя, когда ты такой безнадежный суперсамец и замкнутый. Не то чтобы ненавижу, но у меня идиосинкразия на сильных, молчаливых мужчин. Не то чтобы ты не сильный, но ты меня понимаешь. Здесь становится так шумно, что едва слышу свои мысли. Короче, я тебя люблю и хочу отправить это спешной почтой, чтобы ты получил как можно срочнее, если я найду марку в этом дурдоме. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Ты знаешь, что я вообще-то танцевала с тобой всего дважды за одиннадцать месяцев? Не считая того раза в «Авангарде», когда ты нагрузился. Я, наверно, буду безнадежно застенчива. Кстати, я тебя убью, если там будет почетный кортеж. До субботы, цветик мой!!
Со всей любовью,ФРЭННИXXXXXXXXXXXXXXXX
P.S. Папа получил этот рентген из больницы, и нам всем полегчало. Это новообразование, но не злокачественное. Я говорила с мамой вчера вечером по телефону. Кстати, она передает тебе привет, так что можешь успокоиться насчет той пятничной ночи. Думаю, они даже не слышали, как мы вошли.
P.P.S. Я кажусь такой неумной и недалекой, когда пишу тебе. Почему? Разрешаю тебе проанализировать это. Давай просто постараемся чудесно провести время в этот выходной. То есть постарайся хотя бы раз не анализировать все до смерти, если возможно, особенно меня. Я тебя люблю.
ФРЭНСИС (след от помады)
Лэйн перечитал письмо примерно до середины, когда его прервал – вторгся на его территорию, покусился на его свободу – коренастый молодой человек по имени Рэй Соренсен, решивший узнать, не знает ли Лэйн, о чем там писал этот гад Рильке. Соренсен, как и Лэйн, посещал курс современной европейской литературы 251 (только для старшекурсников и аспирантов), и ему задали к понедельнику четвертую «Дуинскую элегию» Рильке. Лэйн едва знал Соренсена, но испытывал смутное и стойкое отвращение к его внешности и манерам, так что убрал письмо и сказал, что не знает, о чем там, но, кажется, понимает большую часть.
– Везет тебе, – сказал Соренсен. – Счастливый ты человек.
В голосе его звучало минимум эмоций, словно он обратился к Лэйну не для какого-то человеческого общения, а просто от скуки или по блажи.
– Как же холодно, – сказал он и достал из кармана пачку сигарет.
Лэйн заметил поблекший, но все равно раздражающий след помады на лацкане верблюжьего пальто Соренсена. Было похоже, что следу несколько недель, если не месяцев, но Лэйн не настолько хорошо знал Соренсена, чтобы сказать ему об этом, да и в любом случае ему не было до него дела. А тут к тому же показался поезд. Оба парня повернулись как бы вполоборота влево, навстречу приближавшемуся паровозу. Почти сразу дверь зала ожидания шумно распахнулась, ребята, стоявшие в тепле, высыпали на платформу, и, казалось, большинство держало по три зажженных сигареты в каждой руке.
Лэйн и сам закурил, когда поезд подошел. А затем, как и многие другие, которым, пожалуй, не мешало бы пройти курс приветствия прибывающих поездов, постарался убрать с лица любые эмоции, даже самые лучшие, чтобы ничем не выдать своих чувств по поводу скорой встречи.
Фрэнни сошла с поезда в числе первых девушек, из вагона в задней, северной части платформы. Лэйн тут же заметил ее, и, что бы он ни пытался сделать со своим лицом, его рука, взмывшая в воздух, сказала всю правду. Фрэнни увидела его руку и его самого и кокетливо помахала в ответ. На ней была шубка из стриженого енота, и Лэйн, спешивший к ней с неспешным выражением лица, отдал себе отчет, подавив волнение, что он единственный на платформе по-настоящему знает шубку Фрэнни. Он вспомнил, как однажды, в одолженной машине, после того как они с Фрэнни целовались не меньше получаса, он поцеловал лацкан ее шубки, словно то было совершенно замечательное, неотъемлемое продолжение дорогого человека.
– Лэйн!
Фрэнни радостно его приветствовала – она-то не заботилась убирать с лица эмоции. Она схватила Лэйна в охапку и поцеловала. Это был вокзальный поцелуй – прежде всего довольно спонтанный и вообще непозволительный в дальнейшем, особенно учитывая «лобовое столкновение».
– Ты получил мое письмо? – спросила она и почти сразу добавила: – Ты, похоже, замерз, бедняжка. Почему не ждал внутри? Ты получил мое письмо?
– Какое именно? – сказал Лэйн, беря ее чемодан. Он был темно-синего цвета с белой кожаной обвязкой, как и полдюжины других чемоданов, возникавших из поезда.
– Не получил? Я отослала в среду. О боже! Я даже сама отнесла на почту…
– А, то письмо. Да. Это весь твой багаж? А что за книжка?
Фрэнни опустила взгляд на свою левую руку. Она держала книжечку в салатовом тканевом переплете.
– Это? Да так, кое-что, – сказала она.
Открыв сумочку, она сунула туда книжку и пошла за Лэйном по длинной платформе в направлении стоянки такси. Она взяла его под руку и заговорила, точнее, затараторила. Первым делом что-то о платье у нее в сумке, которое нужно погладить. Она сказала, что купила такой славный утюжок, словно для кукольного домика, но забыла взять с собой. Сказала, что, как ей кажется, она знает всего трех девушек с поезда – Марту Фаррар, Типпи Тиббетт и Элеанор как-там-ее, с которой познакомилась давным-давно, когда была в пансионе, в Эксетере или где-то еще. А все остальные в поезде, по словам Фрэнни, выглядели очень в смитовском духе, кроме двух совершенно вассаровских типажей и одной совершенно беннингтонской или сара-лоуренсской [2] особы. Беннингтонско-сара-лоуренсская особа всю поездку проторчала в уборной и вышла с таким видом, словно она там лепкой занималась или живописью или у нее под платьем было балетное трико. Лэйн, шагавший быстрее, чем следовало, сказал, что жалеет, что не смог устроить ее в Крофт-хауз – это, конечно, было безнадежно, – но он ее устроил в такое очень хорошее, уютное место. Маленькое, но чистое и все такое. Сказал, что ей понравится, и Фрэнни тут же представила меблированный дом из белой вагонки. Трое незнакомых девушек в одной комнате. Кто вселится первой, займет продавленную кушетку, а остальные будут делить двуспальную кровать с абсолютно фантастическим матрасом.
– Мило, – сказала она с чувством.
Иногда ей было чертовски трудно скрывать раздражение по поводу общей криворукости самцов рода человеческого, и Лэйна в частности. Ей вспомнился один дождливый вечер в Нью-Йорке, когда Лэйн после театра, исполнившись подозрительной тротуарной галантности, позволил тому ужасному типу в смокинге увести такси у него из-под носа. Она не так уж досадовала на это – то есть, боже правый, до чего ужасно быть мужчиной и ловить такси под дождем, – но вспомнила, каким ужасным, даже враждебным взглядом Лэйн окинул ее, вернувшись к бордюру. Теперь же, испытывая странное чувство вины при воспоминании об этом и не только об этом, она пожала Лэйну руку с особой наигранной сердечностью. И они вдвоем сели в кеб. Темно-синий чемодан с белой кожаной обвязкой встал на переднее сиденье, рядом с водителем.
– Мы закинем твой чемодан и вещи в твою комнату – просто швырни за дверь, – а потом отправимся на ланч, – сказал Лэйн. – Я умираю с голоду.
Он наклонился вперед и сказал водителю адрес.
– Как же приятно видеть тебя! – сказала Фрэнни, когда кеб тронулся. – Я по тебе скучала.
Едва сказав это, она поняла, что это неправда. И снова с чувством вины взяла Лэйна за руку и крепко переплела свои пальцы с его пальцами.
Примерно через час они вдвоем сидели за относительно уединенным столиком в ресторане под названием «Сиклерз» в центре города, в заведении, облюбованном в основном интеллектуальной периферией местной студенческой братии – более-менее той же братии, которая в Йеле или Гарварде могла бы небрежно уводить своих девушек подальше от «Мориз» или «Кронинз [3]». Стоит отметить, что «Сиклерз» был единственным рестораном в городе, где стейки не были «вот такой толщины» – большой и указательный пальцы раздвигались на дюйм. «Сиклерз» – это улитки. В «Сиклерз» студенты с девушками обычно заказывали либо оба по салату, либо не заказывали вовсе – из-за чесночного соуса. Фрэнни и Лэйн заказали мартини. Когда минут десять-пятнадцать назад им принесли бокалы, Лэйн пригубил свой, откинулся на спинку и бегло оглядел помещение, излучая чувство довольства от того, что находился (чего никто, он был в этом уверен, не мог оспорить) в правильном месте с безукоризненного вида девушкой – девушкой не только на редкость хорошенькой, но и, что еще лучше, предпочитающей в одежде не сугубо кашемировый свитер и фланелевую юбку. Фрэнни заметила это мимолетное самораскрытие и восприняла его как есть – ни больше ни меньше. Но по некоему старому, устоявшемуся уговору со своей душой предпочла проникнуться чувством вины за то, что заметила, уловила это, и приговорила себя к подобострастному вниманию к дальнейшим речам Лэйна.
Лэйн говорил с видом человека, который уже добрую четверть часа как монополизировал разговор и считал, что вышел на такую прямую, на которой, что ни скажет, все будет складно.
– То есть, грубо говоря, – говорил он, – чего ему недостает, так это, скажем так, тестикулярности. Понимаешь то есть?
Он подался вперед, к Фрэнни, точно лектор – к благодарной аудитории, поставив локти по обе стороны от своего мартини.
– Чего недостает? – сказала Фрэнни. Ей пришлось прокашляться прежде, чем заговорить – так долго она сидела молча.
Лэйн замялся.
– Маскулинности, – сказал он.
– Я расслышала с первого раза.
– В общем, это был, так сказать, основной мотив – что я довольно тонко пытался донести, – сказал Лэйн, предельно внимательный к собственным словам. – То есть боже мой. Я честно думал, эта вещь пойдет ко дну, как свинцовый шар, а когда получил ее обратно с чертовой A [4] шести футов высотой, я чуть не грохнулся, ей-богу.
Фрэнни снова прокашлялась. Было похоже, что она сполна отмотала свой срок увлеченной слушательницы.
– Почему? – спросила она.
Лэйн не ожидал такого вопроса.
– Что почему?
– Почему ты думал, что она пойдет ко дну, как свинцовый шар?
– Я же сказал. Только что рассказывал. Этот Брагмэн помешан на Флобере. Или, по крайней мере, я так думал.
– А, – сказала Фрэнни. Она улыбнулась. И отпила мартини. – Это чудесно, – сказала она, глядя на бокал. – Я так рада, что разбавили не двадцать к одному. Терпеть не могу, когда там один джин.
Лэйн кивнул.
– В общем, эта чертова бумага вроде как у меня в комнате. Если представится случай за выходной, я прочитаю тебе.
– Чудесно. С радостью послушаю.
Лэйн снова кивнул.
– То есть я не сказал чего-то чертовски громогласного или чего-то такого, – он поерзал на стуле. – Но… не знаю… думаю, у меня неплохо получилось показать, почему он так невротически цеплялся за mot juste [5]. То есть в свете того, что нам сегодня известно. Я не только про психоанализ и всю эту чушь, но до некоторой степени очень даже. То есть понимаешь, о чем я. Я не фрейдист, ничего такого, но определенные вещи нельзя просто окрестить Фрейдизмом с большой буквы «Ф» и на этом успокоиться. То есть, до некоторой степени, я думаю, у меня были все основания отметить, что никто из по-настоящему хороших ребят – ни Толстой, ни Достоевский, ни Шекспир, господи боже, – не трясся, черт возьми, над каждым словом. Они просто писали. Понимаешь то есть?
Лэйн посмотрел на Фрэнни как-то выжидательно. Ему показалось, что она его слушает с преувеличенным вниманием.
– Будешь есть свою оливку или как?
Лэйн бросил взгляд на свой бокал мартини, затем перевел взгляд на Фрэнни.
– Нет, – сказал он холодно. – Хочешь?
– Если не будешь, – сказала Фрэнни.
Выражение лица Лэйна подсказало ей, что она спросила что-то не то. Что еще хуже, ей вдруг совершенно расхотелось оливку, и она задумалась, почему вообще спросила про нее. Однако Лэйн протянул ей свой бокал мартини, и ей ничего не оставалось, кроме как взять оливку и проглотить с видимым аппетитом. Затем она взяла сигарету из пачки Лэйна на столе, и он поднес ей огонек, и сам закурил.
После оливковой паузы над столиком повисла тишина, но ненадолго. Нарушил ее Лэйн – он просто не мог сидеть молча, когда его распирало.
– Этот Брагмэн считает, мне нужно где-то издать эту чертову работу, – сказал он вдруг. – Но я не знаю. – Затем, словно на него навалилась усталость – или, точнее сказать, это мир, алчный до плодов его интеллекта, вытянул из него соки, – он принялся тереть скулу тыльной стороной ладони, избавляясь с бессознательной грубостью от остатков сна в одном глазу. – То есть критических эссе по Флоберу и этим ребятам и без того пруд пруди. – Он подумал о чем-то с мрачным видом. – Между прочим, я сомневаюсь, что о нем была написана по-настоящему меткая работа за последние…
– Ты говоришь как практикант. Прямо вылитый.
– Прошу прощения? – сказал Лэйн с нарочитым спокойствием.
– Ты говоришь в точности как практикант. Извини, но это так. Правда.
– Да? А как говорит практикант, позволь спросить?
Фрэнни увидела, что задела его, и задела неслабо, но в данный момент, в равной степени осуждая себя и злясь на него, ей захотелось высказаться начистоту.
– Ну, не знаю, как здесь, но в моих краях практикант – это человек, который ведет занятия в классе, когда отсутствует профессор – по делам, из-за нервного срыва, приема у дантиста или еще чего-нибудь. Обычно это аспирант или кто-то вроде. В общем, если это, скажем, курс по русской литературе, он входит в такой рубашке с воротничком на пуговичках и галстуке в полоску и начинает с того, что разносит Тургенева не меньше получаса. Затем, когда закончит, когда совершенно угробит Тургенева в твоих глазах, он начинает говорить о Стендале или еще о ком-нибудь, о ком написал магистерскую диссертацию. Там, где я учусь, на кафедре английского штук десять таких практикантиков, которые повсюду снуют и гробят всех подряд, и они все такие блестящие ораторы, что никогда не могут рта открыть – прости за противоречие. То есть, если вступишь с ними в спор, они только напустят на себя такое до жути благостное…
– Тебя сегодня дурная муха укусила – ты в курсе? Что, блин, с тобой вообще такое?
Фрэнни быстро стряхнула пепел с сигареты, затем чуть пододвинула к себе пепельницу.
– Извини. Я ужасна, – сказала она. – Я всю неделю чувствую себя так разрушительно. Это ужасно, я кошмарная.
– Твое письмо не показалось мне таким уж разрушительным.
Фрэнни серьезно кивнула. Она смотрела на теплое солнечное пятнышко на скатерти, не больше покерной фишки.
– Мне пришлось напрячься, чтобы написать его, – сказала она.
Лэйн начал что-то говорить на это, но внезапно возник официант и забрал пустые бокалы из-под мартини.
– Хочешь еще? – спросил Лэйн Фрэнни.
Ответа он не дождался. Фрэнни уставилась на солнечное пятнышко с такой сосредоточенностью, словно была готова улечься в него.
– Фрэнни, – сказал Лэйн терпеливо, как бы для официанта. – Ты будешь еще мартини или что?
Она подняла взгляд.
– Извините, – она посмотрела на убранные пустые бокалы в руке официанта. – Нет. Да. Я не знаю.
Лэйн хохотнул, глядя на официанта.
– Так что? – сказал он.
– Да, пожалуйста.
Вид у нее был тревожный.
Официант ушел. Лэйн смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, затем перевел взгляд на Фрэнни. Она сидела с приоткрытым ртом и возилась сигаретой в пепле с краю новой пепельницы, которую принес официант. Лэйн смотрел на нее, и в нем, ей-богу, росло раздражение. Очень может быть, что ему внушали возмущение и опасение любые признаки отстраненности в девушке, на которую он имел серьезные виды. Так или иначе, он определенно беспокоился, что дурная муха, укусившая Фрэнни, могла испортить им все выходные. Он вдруг подался вперед, положив руки на стол, словно собрался разгладить скатерть, но Фрэнни заговорила первой.
– Я сегодня никакая, – сказала она. – Просто не мой день сегодня, – она посмотрела на Лэйна как на незнакомца или на актера с постера в подземке с рекламой линолеума. И снова почувствовала укол вины и укоризны, преследовавшие ее, казалось, с самого утра, и в итоге накрыла руку Лэйна своей. Но почти тут же отдернула руку и подобрала свою сигарету из пепельницы. – Я приду в себя через минуту, – сказала она. – Железно обещаю, – она улыбнулась Лэйну – с чувством, искренне, – и в этот момент ответная улыбка могла бы, по крайней мере, хоть как-то смягчить определенные события, которые должны были последовать, но Лэйн старательно изображал собственную отстраненность и предпочел оставить ее улыбку без ответа. Фрэнни затянулась сигаретой. – Если бы не было уже так поздно и все такое, – сказала она, – и если бы я не решила, как дура, быть отличницей, я бы, наверно, бросила английский. Я не знаю. – Она стряхнула пепел. – Меня просто так достали педанты и самодовольные зануды, что я на стенку лезу. – Она взглянула на Лэйна: – Извини. Я перестану. Даю тебе слово… Просто, будь у меня хоть немного смелости, я бы в этот год вообще не возвращалась в колледж. Я не знаю. То есть это все такой полнейший фарс.
– Блестяще. Это просто блестяще.
Фрэнни покорно приняла его сарказм.
– Извини, – сказала она.
– Хватит извиняться – хорошо? Тебе, наверно, не приходило на ум, что ты все сваливаешь в кучу и чертовски обобщаешь. Если бы все на кафедре английского были такими самодовольными занудами, тогда бы другое дело…
Фрэнни что-то сказала, но еле слышно. Она смотрела поверх угольно-фланелевого плеча Лэйна на какую-то абстракцию в другом конце зала.
– Что? – спросил Лэйн.
– Я сказала, что знаю. Ты прав. Я просто устала, вот и все. Не обращай на меня внимания.
Но Лэйн не мог допустить, чтобы это противоречие улеглось, пока не повернет его в свою пользу.
– То есть, блин, – сказал он. – Во всех сферах жизни есть некомпетентные люди. То есть это же очевидно. Давай на минуту отбросим чертовых практикантов. – Он взглянул на Фрэнни: – Ты меня слушаешь или что?
– Да.
– У тебя на твоей чертовой кафедре английского двое из лучших людей в стране. Мэнлиус. Эспозито. Боже, хотел бы я, чтобы они были здесь. Они хотя бы поэты, господи боже.
– А вот и нет, – сказала Фрэнни. – Отчасти в этом и ужас. То есть они не настоящие поэты. Они просто пишут стихи, которые публикуют и включают во всякие антологии, но они не поэты. – Она замолчала, смутившись, и положила сигарету. Вот уже несколько минут, как она заметно побледнела. Даже ее помада вдруг показалась ярче на тон-другой, словно она только что промокнула губы «клинексом». – Давай не будем об этом, – сказала она еле слышно и раздавила окурок в пепельнице. – Я не в духе. Я угроблю все выходные. Может, у меня под стулом люк – и я просто исчезну.
Подошел официант, поставил по мартини перед ними и сразу удалился.
Лэйн взялся пальцами – изящными и длинными, то и дело мелькавшими в воздухе, – за ножку бокала.
– Ты ничего не гробишь, – сказал он тихо. – Мне просто интересно понять, что, черт возьми, не так. То есть нужно быть таким богемным типажом или мертвым, черт возьми, чтобы быть настоящим поэтом? Чего тебе надо – этакого сукина сына с волнистыми волосами?
– Нет. Давай не будем? Пожалуйста. Я совершенно никакая, и у меня ужасное…
– Я бы с радостью отбросил эту тему – с превеликой радостью. Просто скажи сперва, что такое настоящий поэт, если не возражаешь. Я был бы тебе признателен. Правда.
Лоб Фрэнни ближе к волосам блестел от пота. Это могло означать, что здесь жарковато, или что у нее не в порядке желудок, или что мартини слишком крепкий; так или иначе, Лэйн этого как будто не заметил.
– Я не знаю, что такое настоящий поэт. Давай перестанем, Лэйн. Я серьезно. Мне как-то не по себе, странно так, и я не могу…
– Хорошо, хорошо… Окей, расслабься, – сказал Лэйн. – Я только пытался…
– Я вот что знаю, – сказала Фрэнни. – Если ты поэт, ты делаешь что-то прекрасное. То есть ты должен оставлять что-то прекрасное в людях после того, как они закроют книгу и все такое. А те, о ком ты говоришь, ничего прекрасного – ну, ничегошеньки – не оставляют. Все, что некоторые, кто получше, делают, это как бы забираются тебе в голову и оставляют что-то там, но одно это, одно их умение оставить что-то еще не означает, что они пишут стихи, господи боже. Это может быть просто какой-нибудь неотразимой синтаксической какашкой – прости такое сравнение. Как у Мэнлиуса и Эспозито, и всех этих бедняг.
Прежде чем что-то на это сказать, Лэйн закурил сигарету.
– Я думал, тебе нравится Мэнлиус, – сказал он. – Между прочим, примерно месяц назад, если правильно помню, ты сказала, что он очарователен и что он тебе…
– Он мне нравится. Мне надоели люди, которые мне просто нравятся. Господи, как же хочется встретить кого-то, кого бы я уважала… Извини, я отойду на минутку?
Фрэнни вдруг встала и взяла сумочку. Она очень побледнела.
Лэйн тоже встал, отодвинув стул, с приоткрытым ртом.
– Что случилось? – спросил он. – Ты нормально себя чувствуешь? Что-то не так или что?
– Я вернусь через секунду.
Она вышла, не спросив, куда идти, словно уже бывала в «Сиклерз» и знала, где здесь что.
Лэйн, оставшись один за столиком, курил и экономно прикладывался к мартини, чтобы растянуть его до возвращения Фрэнни. Было совершенно ясно, что чувство довольства, испытанное получасом ранее оттого, что он был в правильном месте с правильной девушкой или правильно выглядевшей девушкой, совершенно пропало. Он взглянул на шубку из стриженого енота, кривовато висевшую на спинке стула Фрэнни – ту же шубку, что обрадовала его на платформе одним тем, что он был с ней так близко знаком, – и проникся к ней безоговорочным недовольством. Складки на шелковой подкладке не пойми почему раздражали его. Он отвел взгляд от шубки и уставился на ножку своего бокала мартини со смутной тревогой, как человек, безвинно ставший жертвой заговора. В одном он был уверен. Начало у выходных получалось чертовски курьезным. В следующий миг он поднял взгляд от столика и увидел в другом конце зала одного знакомого – одноклассника с девушкой. Лэйн чуть приосанился, чтобы не выглядеть несчастным бедолагой, и придал лицу выражение мужчины, чья девушка просто ушла в уборную, оставив его, как это свойственно девушкам, наедине с собой, так что ему оставалось только курить и скучать, предпочтительно скучать со вкусом.
Дамская комната в «Сиклерз» почти не уступала столовой размерами и в известном смысле – удобствами. Когда Фрэнни входила туда, при входе никого не было, как, вероятно, и внутри. Она немного постояла – так, словно ожидала некоего рандеву, – в центре кафельного пола. Теперь над бровями у нее выступили капельки пота, она ловила ртом воздух и была еще бледнее, чем в столовой. Она вдруг шмыгнула в самую дальнюю и уединенную на вид из семи-восьми кабинок – ей повезло, что там не требовалась монетка, – закрыла за собой дверь и не без трудностей задвинула щеколду. Не обратив никакого внимания на интерьер, она присела. Она стиснула колени, словно пытаясь стать меньше, компактнее. Затем прижала руки, вертикально, к глазам и сильно надавила основаниями ладоней, словно пытаясь парализовать зрительный нерв и утопить все образы в черной бездне. Вытянутые пальцы, хоть и дрожали, а может, как раз поэтому, выглядели необычайно изящными и нежными. Она застыла на какое-то время в такой напряженной, почти эмбриональной позе и расплакалась. Она проплакала пять минут. Она плакала навзрыд, не пытаясь подавить чувство горя и потерянности, издавая все те судорожные горловые звуки, какие издает ребенок в истерике, когда воздух рвется наружу, минуя полуопущенный надгортанник. Тем не менее, когда она наконец перестала, она перестала враз, без болезненных, режущих спазмов, обычно следующих за отчаянным приступом плача. Она перестала так резко, словно у нее в уме внезапно сменилась полярность, вызвав немедленный умиротворяющий эффект во всем теле, так что на заплаканном лице исчезли почти всякие эмоции. Она подобрала с пола сумочку, открыла ее и достала книжечку в салатовом тканевом переплете. Положила ее себе на колени – почти на самые коленки – и хорошенько всмотрелась в нее, словно лучшего места для салатовой книжечки и быть не могло. Затем взяла книжечку, подняла к груди и прижала – на миг, но крепко. Затем убрала в сумочку, встала и вышла из заточения. Она умылась холодной водой, вытерлась полотенцем из стопки над раковиной, накрасила губы, причесалась и вышла из уборной.
Шагая через зал к своему столику, выглядела она сногсшибательно, как и положено выглядеть девушке в режиме qui vive [6] в большой студенческий выходной. Когда она подошла быстрым шагом, улыбаясь, к своему стулу, Лэйн медленно встал, не выпуская салфетку из левой руки.
– Боже. Извини, – сказала Фрэнни. – Думал, я уже умерла?
– Я не думал, что ты умерла, – сказал Лэйн и отодвинул ей стул. – Я не понимал, что стряслось. – Он подошел к своему стулу. – Нельзя сказать, что у нас до черта времени, ты же знаешь. – Он уселся. – Ты в порядке? У тебя глаза слегка покраснели, – он всмотрелся в нее. – Ты окей или как?
Фрэнни закурила.
– Теперь – чудесно. Меня в жизни так не шатало. Просто фантастика. Ты заказал?
– Я тебя ждал, – сказал Лэйн, не сводя с нее взгляда. – В чем вообще дело? Желудок?
– Нет. И да и нет. Я не знаю, – сказала Фрэнни. Она опустила взгляд на меню у себя на тарелке и изучила его, не трогая. – Я только хочу сэндвич с курицей. И, может, стакан молока… А ты заказывай, что хочешь, и вообще. То есть возьми улиток и осьминожек, и всякое такое. Осьминогов. Я на самом деле ничуть не голодна.
Лэйн посмотрел на нее и выдохнул тонкую, донельзя характерную струйку дыма себе в тарелку.
– У нас будут просто кукольные выходные, – сказал он. – Сэндвич с курицей, господи боже.
Фрэнни это задело.
– Я не голодна, Лэйн… Извини. Хоспаде. Слушай, я тебя прошу. Ты заказывай, что хочешь – что такого? – и я буду есть, пока ты ешь. Но я не могу просто включить аппетит по твоему желанию.
– Хорошо, хорошо, – Лэйн повел шеей, привлекая внимание официанта. Он заказал сэндвич с курицей и стакан молока Фрэнни и улиток, лягушачьи лапки и салат – себе. Когда официант ушел, он взглянул на свои наручные часы и сказал: – Мы, кстати, должны быть в Тэнбридже в час пятнадцать, час тридцать. Не позже. Я сказал Уолли, мы, наверно, остановимся выпить, а потом, может, мы все вместе поедем на стадион в его машине. Не против? Тебе нравится Уолли?
– Я даже не знаю, кто это.
– Ты его раз двадцать видела, господи боже. Уолли Кэмпбелл. Господи. Если ты хоть раз его видела, ты его видела…
– А. Вспомнила… Слушай, не злись на меня, если я не сразу вспомню кого-то. Особенно когда он выглядит так же, как все, и говорит, и одевается, и ведет себя, как все. – Фрэнни заставила себя замолчать. Собственный голос показался ей придирчивым и стервозным, и ее захлестнула волна злобы на себя, просочившаяся сквозь лоб новыми каплями пота. Но, стоило ей заговорить, как голос снова зазвучал на повышенных тонах. – Не хочу сказать, что в нем что-то такое ужасное, – вовсе нет. Просто я уже четыре битых года повсюду вижу таких Уолли Кэмпбеллов. Я заранее знаю, когда они будут очаровашками, знаю, когда услышу от них по-настоящему грязные сплетни о ком-то из моих соседок, знаю, когда они спросят меня, что я делала летом, знаю, когда они возьмут стул, сядут на него задом наперед и будут трепаться таким ужасно тихим-претихим голосом… или сыпать именами таким ужасно тихим небрежным голосом. Есть неписаное правило, что люди в определенных социальных или финансовых кругах могут сыпать именами сколько им вздумается, лишь бы говорили что-то ужасно пренебрежительное о ком-то, как только назовут его, – что он козел, или нимфоман, или все время под кайфом, или какие-нибудь гадости. – Она снова замолчала и стала крутить пальцами пепельницу, стараясь не смотреть в лицо Лэйну. – Извини, – сказала она. – Дело не только в Уолли Кэмпбелле. Я просто срываюсь на нем, потому что ты его назвал. И потому, что он так выглядит, словно проводит лето в Италии или вроде того.
- Укус ангела
- Зеленые тени, Белый Кит
- Ящик для письменных принадлежностей
- Мадонна в меховом манто
- Странные истории
- Нос
- Передышка
- Скорбь Сатаны
- Эликсиры дьявола: бумаги найденные после смерти брата Медардуса, капуцина
- Девять рассказов
- Победивший дракона
- Львы Сицилии. Закат империи
- Ловец во ржи
- Фрэнни и Зуи
- На маяк
- Пробуждение
- Тесные врата. Фальшивомонетчики
- Рассказы о людях необычайных
- Дон Хуан
- Туман
- Берлинское детство на рубеже веков
- Мальчуган
- Танские новеллы
- Призраки. Таинственные повести
- Цветы для Элджернона
- Портрет Дориана Грея
- Герой нашего времени
- Трое храбрых, пятеро справедливых
- Плоды земли
- Игрок
- Обломов
- Двенадцать стульев
- Граф Монте-Кристо. Том 2
- Граф Монте-Кристо. Том 1
- Белые ночи
- Отцы и дети
- Мы
- Петербург
- Палата № 6
- Морфий
- Анна на шее
- Аристократка
- Тридцатилетняя женщина
- Педро Парамо. Равнина в огне
- Светлолунный сад
- На берегах Невы
- Сокровище семи звезд
- Чарующий апрель
- Голые среди волков
- Вступление в будни
- Vita Nostra. Собирая осколки