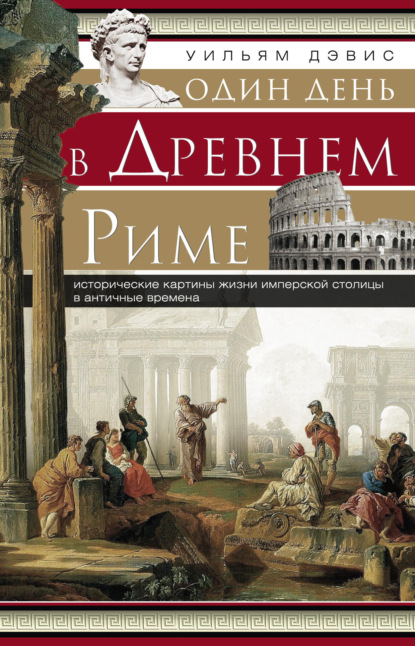Один день в Древнем Риме. Исторические картины жизни имперской столицы в античные времена
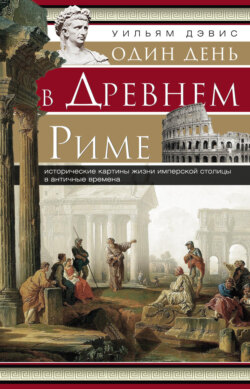
000
ОтложитьЧитал
Римлянки, озабоченные стройностью своей фигуры, не могли затягивать себя в корсет, но иногда плотно обматывали свое тело широкими полосами мягкой кожи. Затем наступал черед туники, чрезвычайно похожей на мужскую, но более облегающей. Порой она не имела рукавов, закрывала тело до колен и не требовала пояса. Поверх этого единственного предмета одежды носилось важнейшее одеяние римской матроны – ее стола, отделанная значительно более изысканно, чем верхняя мужская туника. В большинстве случаев она не была сшита, но удерживалась на своей хозяйке благодаря целой серии застежек и заколок, предоставляя окружающим превосходную возможность любоваться пряжками, украшенными драгоценными камнями. Стола скрепляется и поясом, стягивающим ткань выше талии, почти под грудью; многочисленные складки ниспадают до ступней, но в самом низу проходит вышитая складка или кайма. У женщин благородного происхождения она пурпурного цвета, как и кайма у ворота.
Подобно тоге, стола тоже является чрезвычайно пышным одеянием, дающим ее владелице возможность продемонстрировать все живописно уложенные складки. Хороший вкус требовал также, чтобы стола была чисто-белого цвета. Ношение ее стало привилегией римских матрон, и никакой легкомысленной женщине не позволено было дефилировать в ней[72]. Девушки надевали столу сразу же после замужества, и в ней, даже в большей степени, чем в тоге, можно было принимать позы, исполненные величественного достоинства.
Выходя из дома, римская женщина закутывалась в паллу. Это одеяние представляло собой всего лишь большую шаль, хотя зачастую и снабженную искусными приспособлениями для ношения. Служанки Грации обычно перебрасывали одну треть паллы через плечо своей госпожи, позволяя подолу спуститься до ее ступней. Остаток материи, закрывавший спину женщины, искусно оборачивался вокруг ее талии, хотя если было необходимо прикрыть голову, то можно было натянуть часть паллы на голову и образовать нечто вроде капюшона.
Каждая женщина в Риме имела паллу; у богатых, разумеется, был собственный «арсенал» таких одежд всех возможных размеров, материалов, цветов и вышивок для каждого подходящего случая – будь то поездка в зимний период или же посещение театра.
Материал для одежд. Шерсть и шелк. Пожалуй, это все, что можно сказать о типах одежд. Однако материи, из которых они сделаны, и детали одеяний воистину неисчислимы. Самым распространенным материалом была и остается шерсть. Даже «в эти дни всеобщего вырождения» лучшие римские матроны хранили дома ручную прялку и веретено и работали со своими домашними служанками в перистиле, выделывая там большую часть непритязательной одежды, необходимой в домашнем хозяйстве. Кальв с гордостью носил и демонстрировал друзьям прекрасную тогу, не уставая говорить, что «это сделала моя Грация сама». Нечто подобное могут сказать и некоторые другие сенаторы, хотя их жены лишь в малой мере подражали императрице Ливии, которая собственноручно соткала и сделала все повседневные одежды Августа.
В больших деревенских поместьях в долгие зимние месяцы рабы от скуки ткали материи – не только для себя, но и для всех «фамилий» их хозяев в городах. Но выделанные ими ткани обычно получались довольно грубыми, очень хорошие и тонкие шерстяные умели делать в Южной Италии, но самые лучшие поступали с Востока. Милетская шерсть известна на каждом рынке, хотя, скорее всего, на самом деле ее привозили из Тира, Сидона или Александрии. Значительная доля льняных тканей шла на изготовление удобной домашней одежды. Из восточных стран поступало множество тканей из хлопка, поэтому они уже перестали быть такой уж редкостью для исключительных предметов одежды, правда, для обиходных изделий они по-прежнему остаются в дефиците. Но что до безумия любит каждый помешанный на моде римлянин – это шелк.
Далеко на Востоке есть полумистическая страна Серика или Серес. Вряд ли до этой страны добирался кто-нибудь из европейцев[73], но караваны торговцев иногда привозили небольшие отрезы восхитительной ткани, которая, как утверждают, росла на деревьях. Одежды, сделанные из этой материи, несравненно красивы; однако сам материал ценится на вес золота или даже больше, поэтому используется при изготовлении только самых роскошных и тонких одежд, частично сделанных из хлопка. Сенека с отвращением писал о них: «Мы видели эти шелковые одежды, которые, воистину, в любом случае не могут быть названы „одеждами“, поскольку не дают никакой защиты телу и не предоставляют защиту для скромности». Но женщины, подобные Статилии и ее матери, были бы просто несчастны, если бы не носили «ткани из Серики», которые позволяли им входить в амфитеатр или цирк и привлекать к себе всеобщие взоры граждан города, где, как сетовал Ювенал, «все и всегда одеваются совершенно не по своим средствам».
Способы драпировки одежд. Сукновалы и белители. Использование римлянами одежды такой простой в изготовлении, как тоги и столы, не способствовало появлению в столице большого числа портновских ателье или искусных закройщиков «платьев». Практически все, что носили ее жители, сколь дорого бы это ни было, продавалось в лавках, являлось «готовым платьем», но при этом было чрезвычайно развито «искусство» подпоясывания, укладки складок, установки пряжек и т. д. Так, например, имелись мастера, способные уложить тогу особенно большим количеством складок, что требовало от владельца преизрядного терпения.
И если мастерство портных было развито невысоко, то был постоянный спрос на услуги белителей тканей, чье мастерство развилось до превосходной степени. Большие отрезы тонкой шерстяной ткани постоянно доставляли к мастерским сукновалов и все время куда-то вывозили. Сукновалы настолько считались жизнелюбивыми и веселыми людьми, что привычным персонажем римских комедий стал «веселый сукновал».
Мыло, изобретенное галлами, только-только начало входить в широкое использование. Одеяния же все еще отбеливались с помощью «белительской мякоти» – разновидности щелочной земли. Если вы шли по кварталам римской бедноты, то буквально на каждом шагу могли слышать монотонную песнь, распеваемую снова и снова и доносящуюся из небольших заведений, от которых шел мерзкий едкий запах. Сукновалы распевали свои tripodium («три степени»), целыми днями перемешивая в больших чанах мокрую одежду. После первичной мойки ее следовало расчесать, чтобы поднять мокрый ворс, а затем тщательно отжать в больших деревянных установках с мощными винтовыми прессами. Безусловно, каждое домашнее хозяйство могло и само справляться со всей этой стиркой, но именно тогда – как ни в каком другом более позднем столетии – белильщики просто наслаждались той атмосферой почитания, которая была для них создана в Риме. Настоящим триумфом их мастерства являлись большие общественные собрания – тогда тысячи тог и стол сияли под жарким итальянским солнцем, подобно свежевыпавшему снегу.
Парикмахерские. Возвращение моды на бороды. Рим был тогда и городом парикмахеров. Их заведения, во множестве рассыпанные по улицам города, служили также прекрасными местами для праздного времяпрепровождения и сплетен его жителей. Большинство мужчин стригли волосы коротко, хотя довольно значительная прослойка щеголей находила удовольствие носить челки или ряды коротких завитых кудрей (как это делал Нерон), часто обильно напомаженных. Люди, которые не хотели выдавать свой возраст сединой, часто использовали черную краску для волос, а немалая часть престарелых сенаторов, по слухам, покрывали голову париками.
Однако этим заведениям был нанесен ужасный удар, который вызвал громкий ропот среди всех профессионалов-парикмахеров: в их сферу вторглись так называемые «домашние парикмахеры», обслуживавшие состоятельных римлян. После примерно 300 г. до н. э. римляне чисто выбривали лицо, борода обычно считалась признаком приверженности к простоте или откровенной бедности; хотя преподаватели философии носили длинные бакенбарды как своего рода профессиональную эмблему.
День, когда молодой человек сбривал свою первую бороду, отмечался почти так же торжественно, как и момент надевания его чисто-белой «мужской» тоги. Но в эпоху правления императора Адриана, его приближенные, зная о его страстном восхищении Афинами эпохи Перикла, изумили весь Рим, появившись однажды на его улицах с окладистой бородой на лице. Разумеется, все придворные и государственные служащие сочли своим долгом последовать причуде императора, и, конечно, каждый сенатор и каждый всадник также стали отпускать бороду. Все протесты женщин остались втуне. Борода, порой коротко подстриженная, у иных длинная и уложенная под старину, пышным цветом расцвела на почти каждом мужском подбородке по всей империи. В императорском Риме эта мода на бороду с тех пор сохранялась около двух веков, вплоть до эры правления Константина, когда бритва неожиданно «возвратила свое влияние». Такова была сила императорского примера!
Моды на женские прически. Украшения волос. Если парикмахеры и пребывали в унынии, то их более счастливые соперники, ornatrices, занимавшиеся прическами на женских головках, по-прежнему процветали. Ни одна римская женщина не могла и помыслить о том, чтобы остричь свои волосы, но моды на их укладку, как писал Овидий, «были столь многочисленны, как листья на дубе или пчелы на пасеке». Моды появлялись и проходили с ошеломляющей быстротой, и мы уже знаем, что бюст Грации был устроен таким образом, что на ее мраморной головке старая прическа могла быть заменена новой.
Как правило, юные девушки заплетали волосы простой косой сзади или же стягивали их там в пучок локонов, но некоторые прически настоящих матрон не так-то просто описать. Преобладающая мода повелевала собирать волосы надо лбом в полукруглое возвышение, оставляя на затылке падающие локоны и заплетенные небольшие косички. Но многие женщины появлялись с башнеподобными конструкциями на голове. И если бы прически не были искусно укреплены посредством чрезвычайных парикмахерских ухищрений, то при малейшем движении своих хозяек непременно бы развалились. Естественно, что создание таких сооружений требовало большого количества подкладных волос, предпочтительно светлых – из Германии, или даже их монтировали на париках. Каштановые и темно-рыжие волосы считались чрезвычайно модными, и многие дамы покупали дорогую «батавскую[74] щелочь», которая, как считалось, высвечивала темные волосы до нужного оттенка цвета. Еще можно было наблюдать, как даже очень скромные женщины с громадным наслаждением копаются в больших шкатулках с головными украшениями, изысканными заколками и гребнями, сделанными из драгоценных металлов или древесины самшита, слоновой кости, черепаховых панцирей, разбирают всевозможные сетки для волос и покрывала – обычно алые, аметистовые или цвета слоновой кости. Среди украшений любой благородной дамы имелась по меньшей мере одна диадема – длинная головная повязка из золотых цепочек, усыпанная где только можно жемчужинами и драгоценными камнями. Выходя в свет по случаю скромных общественных событий, дамы обычно закрывали волосы сеткой из золотых нитей. При появлении на более значительных мероприятиях – в обществе знати и весьма состоятельных людей – обычно использовался один простой и излюбленный ими способ демонстрации своего богатства. Он заключался в том, что женщины приказывали своим служанкам как можно чаще посыпать их прически порошком из чистого золота.
Тщательно продуманные туалеты. Само собой разумеется, что дама, помешанная на моде, относится к своему туалету как к серьезнейшему и не терпящему спешки делу, которое поглощает бо́льшую часть ее утреннего времени[75]. Так, например, мать Статилии, которая находилась теперь в таком возрасте, что могла не заботиться о цвете и состоянии своей кожи, утром прежде всего заставляла служанок смывать с ее лица толстый слой косметических притираний, накладывавшихся ей перед отходом ко сну. Она жаловалась, что ее муж довольно прижимист, потому что не позволяет ей, подобно Поппее (императрице, жене Нерона), принимать каждое утро ванну из молока ослиц для улучшения цвета кожи.
Подобной матроне, само собой разумеется, были необходимы две прислужницы для того, чтобы ее одевали и укладывали массу волос на ее голове. При этом пожилая вольноотпущенница давала им указания и «помогала советом», искусно улучшала прическу. Она же, возможно, порой могла успокоить гнев домины, если та вдруг усматривала в своем серебряном зеркале несколько небрежно уложенную прядь волос, после чего могла вонзить острую заколку в руку служанки или даже приказать выпороть ее плетьми.
Будучи украшены такими «ярусами и этажами» на голове, римские женщины, выходя на улицы столицы, вряд ли нуждались в чем-либо еще, разве что в легком покрывале или капюшоне для защиты от палящей жары или непогоды. Вдоль всей Via Lata или Vicus Tuscus не было лавочек модисток. Мужчины также редко покрывали голову и в погожие дни разгуливали по городу без головных уборов, хотя путешественники все же пристегивали капюшоны к своим пенулам. Ремесленники, весь день не защищенные от капризов погоды, носили небольшие конические шапочки из войлока (pilei); а путешественники, считавшие капюшон неудобным, защищались от солнца шляпой с широкими полями (petasus).
Сандалии и башмаки. Обувь была более необходима на улицах столицы, и никто, кроме рабов, не разгуливал по улицам Рима босиком. Находившимся в доме обитателям вполне хватало куда более легких и простых сандалий, представлявших собой всего лишь подошвы из кожи, крепившиеся к ногам ремнями. Но даже и эта обувь снималась и откладывалась в сторону, если люди возлегали для принятия пищи. Выражение «потребовать свои сандалии» стало идиомой и означало «встать из-за стола».

Сандалии
Выходя на улицу, римляне часто надевали на ноги calceus, нечто вроде башмаков других эпох, но крепившихся на ногах не шнурками, а довольно сложной системой ремней. Женская обувь – похожая на мужскую, но более легкая – чаще всего была изготовлена из ярко окрашенной кожи. Высшие магистраты гордо носили красные «патрицианские башмаки» с особо сложной системой ремней и бросающейся в глаза буквой «С», сделанной из слоновой кости и закрепленной в области колена[76]. У обыкновенных сенаторов такая же красная обувь, но без «С»; всадники же разгуливали в башмаках с высокими голенищами как память тех времен, когда социальный статус этих людей связывали с конницей. Солдаты, естественно, громко клацали подбитыми гвоздями caligae (массивными сандалиями со столь мощными ремнями и подошвами), напоминавшими походные сапоги. Что же касается чулок, то о них почти ничего не знали в Риме.
Страсть к драгоценностям и кольцам. Но чем дополняли свои обычные наборы предметов одежды настоящие денди и светские женщины? Страсть к драгоценным украшениям становилась у них совершенно неумеренной. Преподаватели риторики предостерегали своих слушателей, как это делал Квинтилиан[77], что «пальцы рук [успешного публичного оратора] не должны быть унизаны кольцами, в особенности же они не должны быть выше среднего сустава». Франты же обоих полов часто носили по полдюжине колец сразу; все они обязательно были украшены драгоценными камнями, причем у подобных любителей имелся отдельный «легкий» набор колец для лета и «тяжелый» – для зимы.

Римские драгоценности и украшения
Ювелирные изделия, разумеется, отличались изяществом. В лучших лавках на Марсовом поле можно было увидеть кольца великолепной работы – с гравировкой, украшенные ониксами, сердоликами, ленточными агатами, аметистами, рубинами и сапфирами[78], просто полированные, причем такой красоты, которой вполне могли бы позавидовать ценители прекрасного более поздних эпох. Там же покупали и изысканные кулоны, диадемы, бесчисленные броши и пряжки.
Вдобавок ко всем этим творениям ювелиров каждый римлянин сенаторского или всаднического сословия с гордостью носил одно ничем не украшенное, без гравировки, но великолепной работы простое золотое кольцо (больше всего похожее на обручальное, но позднейших эпох) как знак своей принадлежности к аристократии, а также в память тех времен, когда подобное ювелирное изделие считалось признаком истинного благосостояния. Впоследствии у любого знатного человека также будет особый перстень с печаткой – выгравированным каким-либо мифологическим персонажем. Оттиск такой печатки вскоре заменит личную подпись, а незаконное использование этого кольца станет тягчайшим преступлением.
Огромная популярность жемчуга. Время не позволяет нам повести разговор о прекрасных камеях, инталиях, гравированных медалях и невероятно больших резных геммах, ставших триумфом римских мастеров резьбы по камню, которые многие знатоки с гордостью хранят в своих коллекциях; но мы не можем не обратить внимания на те драгоценные предметы, которые римляне, похоже, ценили превыше всех остальных, – жемчужины. Чем больше ими украшались башмаки, одежда, пальцы и прически (прежде всего женские), тем большее удовольствие это приносило владельцам жемчуга. Крупные ювелиры подсчитали, что это драгоценное украшение они продавали больше всех других, вместе взятых.
Императорские советники тщетно протестовали против непрекращавшегося экспорта золота в Индию в качестве оплаты за не приносивший выгоды импорт жемчуга с Тапробейна (Цейлона), но маниакальный спрос на него продолжался. Из уст в уста передавались рассказы о том, как Юлий Цезарь подарил Сервилии, матери Марка Брута, громадную жемчужину стоимостью в 6 млн сестерциев (240 тыс. долларов); или о том, что невероятно богатая Лоллия Паулина, одна из многочисленных жен Калигулы, появилась на одном из обедов в одежде, усыпанной большими жемчужинами общей стоимостью более 40 млн сестерциев (1,6 млн долларов)[79]. Ни у кого в Риме не было столь обширной коллекции жемчуга, но многие женщины среднего достатка хранили в своих шкатулках по несколько больших и прекрасных жемчужин. Циники же поговаривали, что в толпе «вид большой жемчужины в ухе женщины куда прекраснее, чем вид ликтора, расчищающего путь для нее».
Благовония: их постоянное использование. Тем не менее для изысканного образа римской матроны необходимо кое-что еще, помимо роскошного одеяния, колец и жемчугов, а именно – благовония. Древние обитатели Италии были грубым и неприхотливым народом, позднее же появившиеся здесь обитатели Востока, которых привели туда рабство или собственный интерес, привнесли с собой и истинно варварскую любовь к сильным запахам. Даже скромные женщины и тем более такие, как Грация, почитавшиеся за отменный вкус, появлялись в обществе, благоухая ароматами, которые совсем бы не понравились их предшественницам.
При этом носителем ароматов был отнюдь не спирт. Ароматические субстанции приходилось растворять в оливковом масле, делая их жирными, что приводило к потере первоначального аромата или его изменению после всасывания масла в тело. Но использование благовоний стало практически обязательным. И вряд ли мужчины использовали их меньше, чем женщины. Во время светских банкетов гостей обносили фиалами благовоний, чтобы те могли время от времени смачивать ими руки и голову. От молодых франтов, оставлявших волосы только на голове (свои гладкие и блестящие тела они отдавали во власть депиляториев), просто «разило» ароматами.
Буквально на каждой значимой улице вы могли найти небольшую лавку, в которой обычно управлялась одна женщина, продававшая ароматические пудры, благоухающие масла для купальщиков, драгоценные флаконы из золота, серебра, стекла и алебастра для фимиама, а также и сами благовония. Бесполезно даже пытаться перечислить все имевшиеся там ароматы; Плиний Старший как-то назвал двадцать одну стандартную их разновидность, каждая из которых называлась большей частью по имени его самых любимых цветков (например, нарцисса) или восточных пряностей (корица и т. д.)[80]. Для проведения погребения необходимо было определенное количество мирры, а для жертвоприношений требовался ладан. Торговля благовониями с Востоком занимала значительную долю в древнеримском импорте, хотя и очень многие популярные мази составлялись в Италии. Знаменитый город провинции Кампания – Капуя – быстро разбогател на производстве благовоний[81], сама же отрасль составляла значительную часть экономики империи. Но, пожалуй, довольно уже рассказывать об одеждах и украшениях, которые носят типичные римляне. Пора поинтересоваться куда более важным предметом их жизни: что они едят за обедом?