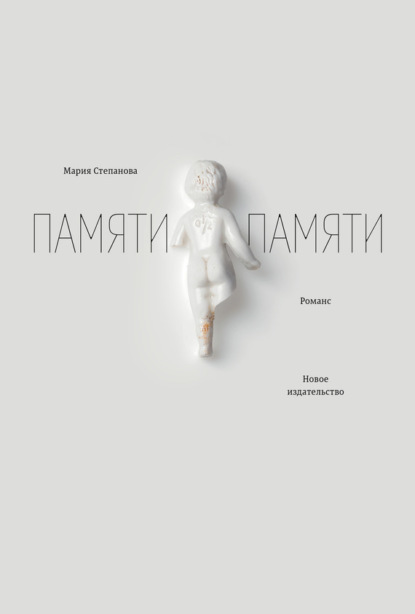© Новое издательство, 2018
978-5 98379-217-3
2-е издание, исправленное
Часть первая
Что толку в книжке, – подумала Алиса, – если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
Кэрролл
Бабушка сказала:
– Видно, возраст сейчас другой у него. Пей с живыми, залейся, но не пей с мертвыми.
Я не понял.
– Как можно с мертвыми? – я не понимаю.
– Еще как можно, – сказала бабушка. – В основном-то с мертвыми ведь и пьют. Не пей, ты. Выпьешь рюмку – пройдет сто лет. Выпьешь вторую – пройдет еще сто. Выпьешь третью – и еще. Выйдешь на улицу, а уж триста лет – нет. Никто не узнает, не то время.
Я думал – пугают; ребенка.
Соснора
Какой ужас! – сказали дамы, – что же вы тут нашли удивительного.
Пушкин
Глава первая, чужой дневник
Умерла моя тетя, папина сестра, было ей немногим за восемьдесят. Мы не были близки, и за этим тянулся длинный хвост семейных разночтений и обид; мои мама и папа были с ней, что называется, в сложных отношениях, виделись мы нечасто, и между нами почти ничего своего не выросло. Время от времени мы перезванивались, виделись и еще реже, и с годами, отключая телефон («Не хочу никого слышать!»), она все дальше уходила в собственноручно выстроенную раму: в толщу вещей и вещиц, которыми была заставлена ее маленькая квартира.
Тетя Галя жила мечтой о красоте: о решающей и окончательной перестановке предметов, окраске стен, вывешивании штор. Когда-то, годы назад, она взялась за генеральную уборку, и та постепенно захватила дом. Шел постоянный процесс перетряхивания и пересмотра; содержимое квартиры необходимо было разобрать и систематизировать, каждая чашка требовала раздумья, книги и бумаги переставали быть собой и становились просто узурпаторами объема: стопками и грудами, баррикадой перекрывавшими квартиру. Комнат было две; по мере того как предметы завоевывали пространство, Галка перебиралась из одной в другую, захватив с собой самое необходимое. Но и там начинался процесс разборки и переоценки; дом жил, вывалив наружу собственное нутро и не умея втянуть его обратно. Важного и неважного уже не осталось; значимым так или иначе было все – и особенно желтоватые газеты, собранные за десятилетия, высокие колонны вырезок, подпиравшие стены и кровать. Место для хозяйки находилось теперь лишь на продавленном диванчике, там мы и сидели вдвоем среди взбесившегося моря открыток и тележурналов в тот раз, который я особенно помню. Она пыталась меня накормить какими-то кабачками, впихнуть в меня драгоценные, припасенные для гостей, шоколадки, я постыдно отнекивалась. Верхняя, ближняя вырезка была «Какая икона необходима вашему знаку Зодиака», название газеты и дата публикации были аккуратно надписаны сверху, идеальным почерком, синими чернилами по неживой бумаге.
* * *
Мы приехали где-то через час после того, как позвонила сиделка. На лестнице была полутьма, и казалось, что она жужжит: на ступеньках и лестничной площадке стояли и сидели незнакомые люди, которые уже каким-то образом узнали о смерти и слетелись сюда первыми – предлагать свои ритуальные услуги, помощь с документами, отнесем-заверим-разберемся. Кто дал им знать, милиция, врачи? Один из них прошел с нами в комнату и стоял там, не снимая куртки.
Тетя Галя умерла под вечер 8 марта, в советский праздник мимоз и открыточных утят, – один из табельных дней, когда в нашей семье было принято собираться вместе, раскладывался широкий гостиный стол, газировка лилась в темные, рубинового стекла, бокалы, присутствовали четыре непременных салата, морковный с орехами, свекольный с чесноком, сырный – и великий уравнитель оливье. Этого всего не случалось с нами уже лет тридцать, оно кончилось задолго до того, как мои родители уехали жить в Германию, Галка гневно осталась, а в газетах стали печатать волнующие вещи: гороскопы, рецепты, новости домашней медицины.
Ей очень не хотелось в больницу, и было отчего. В больнице умерли ее родители, мои дедушка с бабушкой, и собственный опыт казенной медицины у моей тети тоже был. И тем не менее дело шло к тому, чтобы вызвать «скорую»; этим бы и кончилось, если бы не праздничные дни, решили подождать до рабочего понедельника – и так у Галки появилась возможность повернуться на бок и умереть во сне. В соседней комнате, где жила сиделка, в шахматном порядке висели фотографии и рисунки моего отца, много, по всей ширине стены; ближе всего к дверям – черно-белая картинка, снятая им в шестидесятых, из моей любимой серии про ветеринарную клинику. Это очень хорошая фотография: сидят у стенки и ждут врача собака и хозяин, хмурый мальчик лет четырнадцати и пес-боксер, приткнувшийся к нему плечом.
* * *
Квартира теперь стояла оторопевшая, съежившаяся, полная внезапно девальвировавшихся вещей. По углам большой комнаты молчали сухие остовы телевизоров. Огромный новый холодильник был впрок набит ледяною цветной капустой и замороженными буханками хлеба («Мишенька любит хлеб, купи побольше»). В шкафах были все те книги, с которыми здороваешься, как с родней, приходя в гости, – «Убить пересмешника», черный Сэлинджер с мальчиком на обложке, синие корешки «Библиотеки поэта», серый Чехов, зеленый Диккенс. На полках стояли старые знакомые: деревянная собака и желтая пластмассовая собака, какой-то еще резной медведь с флажком на нитке. Все они словно присели перед дорогой, разом усомнившись в собственной нужности.
Когда несколькими днями спустя я стала разбирать бумаги, среди фотографий и праздничных открыток почти не было письменного. Были залежи теплого белья и офицерских кальсон, были новые и красивые пиджаки и юбки, рассчитанные на особенный парадный выход и поэтому ненадеванные и всё еще пахнувшие советским магазином. Была вышитая мужская рубашка из до-войны, и маленькие костяные брошки, сквозные и девичьи, – роза, еще роза, журавль; они принадлежали Галкиной маме, моей бабушке Доре, их уже лет сорок никто не носил. Между всем этим существовала безусловная и прямая связь, и все это имело смысл и значение только как целое, в общей раме длящейся жизни, а теперь на глазах рассыпалось в пыль. В одной книге про устройство мозга я вычитала, что для того чтобы осознать в человеческом лице лицо, чтобы его как лицо опознать, необходима не столько совокупность черт, сколько овал. Без овала никак не обойтись: он – то, что ограничивает нашу историю, то, что собирает ее в умопостигаемое единство. Овалом может быть сама жизнь, пока продолжается; или, уже постмортем, связующая линия рассказа о том, что было. Покорное, разом ощутившее себя мусором, содержимое этого дома вдруг расчеловечилось и перестало хоть что-нибудь помнить и означать.
Стоя над ним, делая что положено, удивляясь тому, как мало в этом, таком читающем, доме писали, я с шаткой нежностью перебирала немногие словесные клавиши, на которые можно было нажать; какие-то фразы из недавнего или давнего, истории про хозяина барбоски, расспросы про то, как поживает малышка – мой подрастающий сын, рассказы о далеком, из тридцатых, походе через поля, быстро испаряющуюся, невосстановимую языковую ткань. «Я никогда не сказала бы шикарно, только роскошно!» – говорила мне Галка строго, и что-то еще такое, что уже не вспомнить, батя об отце, известия о подружках, новости соседок, вести из очень одинокой, самой собой питающейся жизни.
И все же квартира была местом письма, и вскоре об этом я узнала. Среди вещей, с которыми тетя Галя не расставалась до последнего, о которых спрашивала и которые трогала рукой, оказались тома и тома исписанных ежедневников, подневных хроникальных записей, которые она вела годами, ни-дня-без-строчки, в обязательном, как встать и умыться, режиме. Они всё еще лежали в деревянном коробе у изголовья кровати, их было много: хватило на две большие сумки, в которых я увезла их к себе домой, на Банный переулок, и сразу же села читать в поисках рассказа, объяснения, овала. И прочла; и странные же это были дневники.
* * *
Для пристрастного читателя разного рода дневников и записных книг они делятся на две внятные категории. Есть те, где речь специальным образом рассчитана на то, чтобы стать официальной и объясняющей, – и, стало быть, на то, чтобы быть услышанной извне. Тетрадь становится полигоном, местом для отлаживания и тренировки внешнего-себя, и, как какой-нибудь дневник Марии Башкирцевой, оказывается развернутой декларацией, нескончаемым монологом, обращенным к невидимой, но явно сочувственной инстанции.
Мне интересней дневники другого рода, те, что представляют собой рабочий инструмент, специально пригнанный под руку этого вот ремесленника и поэтому мало пригодный для чужих. Рабочий инструмент – это формулировка Сьюзен Зонтаг, десятилетиями практиковавшей этот жанр, и она кажется мне не вполне точной. Записные тетради Зонтаг, и не ее одной, – не просто способ сложить в беличий защечный мешок идеи, к которым еще предстоит вернуться или оставить быстрый, в три точки, очерк того, что случилось, чтобы вспомнить, когда понадобится. Это практика, совершенно необходимая для повседневной жизни людей определенного типа: каркасная сетка, на которой держится их привязанность к реальности и вера в то, что она непрерывна. Такие тексты имеют в виду одного-единственного читателя – зато очень заинтересованного; еще бы! Разломив тетрадь на любом месте, убеждаешься в собственной яви; она – набор вещественных доказательств, подтверждающих, что у жизни есть история и длительность – и главное, что до всякой точки своего прошлого рукой подать.
По большей части эти вещи (так богато представленные в дневниках той же Зонтаг – перечни фильмов и прочитанных книг, списки красивых слов, сушеные, как грибы, выжимки пройденного) почти никогда не имеют прямого выхода, последствий – не разворачиваются в книгу-статью-фильм, не становятся подпоркой или отправной точкой для реальной работы. Они вовсе не имеют в виду кому-либо что-либо объяснять (разве что себе, но таким галопом и такой скорописью, что иногда нелегко восстановить то, что именно имелось в виду). Это простой холодильник – или, как это было в старину, ледник, место хранения скоропортящегося продукта памяти, территория, где накапливаются свидетельства и подтверждения, вещественные залоги невещественных отношений, если воспользоваться гончаровской формулой.
Есть в этом что-то смутно неприятное, хотя бы в силу избыточности; говорю это с тем большим основанием, что я и сама из таких, и мои рабочие записи слишком часто кажутся мне балластом: мертвым, избыточным грузом, с которым хотелось бы расстаться, но что тогда от меня останется? В книге «The silent woman» Джанет Малькольм описывает интерьер, который чем-то похож на мою собственную тетрадь – и это жутковатое ощущение. Там, помнится, соприсутствовали журналы, книги, полные пепельницы, пыльные перуанские сувениры, немытая посуда и коробки из-под пиццы, банки, коробочки, открывашки, справочники «Who is Who», отвечающие за точное знание, и какие-то предметы, не отвечающие ни за что, потому как ни на что уже давно не похожие. Для Малькольм это жилье – борхесовский алеф, монструозная аллегория правды, месиво нерасчищенных фактов и версий, так и не обретшее чистый порядок истории.
* * *
Но дневники моей тети Гали были совершенно особого рода: пока я читала, их своеобразная текстура – больше всего похожая на крупноячеистую сеть – становилась все загадочней и все интересней.
В детстве на больших художественных выставках всегда было можно увидеть посетителей одного определенного типа. Почему-то большей частью это были женщины, они переходили от картины к картине, наклонялись к табличкам и делали записи на листках или в тетрадках. В какой-то момент я поняла, что они просто переписывают туда все выставленные работы, делают что-то вроде своеручного каталога – почти нематериальную копию увиденного. Я думала тогда, зачем им это, пока не поняла, что перечень дает иллюзию обладания: выставка должна была пройти и рассеяться, но бумага сохраняла порядок уходящих из-под носа картин и скульптур в первоначальном виде, как оно было, не давая им кончиться.
Галкины дневники были таким перечнем ежедневного случившегося, на удивление подробным – и при этом на удивление скрытным. Они всегда точно документировали такие вещи, как время вставания и засыпания, названия телепередач, количество телефонных звонков и имена собеседников, то, что было съедено, и то, что было сделано. Тем, что виртуозно и тщательно огибалось, было содержание дня, его наполнение. Было написано, скажем, «читала», но ни слова не говорилось о том, что это было за чтение и что оно значило; и так было со всем, из чего состояла ее длинная и полностью записанная жизнь. Ничего указывающего на то, чем эта жизнь была, – ничего о себе, ничего о других, ничего, кроме дробных и подробных деталей, с летописной точностью фиксирующих ход времени.
Мне все казалось, что где-то эта жизнь должна высунуться – хоть раз, но показать себя, сказать все. В конце концов, она состояла из интенсивного чтения, а значит, и думанья, и еще из тихого кипения разнонаправленных прихотей и обид, которые много для моей тетки значили и подолгу ее занимали. Что-то из этого должно было сохраниться, разрешиться – гневным абзацем, где тетя Галя сказала бы этому миру и нам, его представителям, всю правду, все, что она о нас думает.
Но ничего такого в тетрадях не было. Были оттенки и полутона смысла, были какие-то складки текста, где задержалась эмоция, – «ура» на полях, когда звонили папа или я, несколько не поясняющих себя горьких фраз в родительские годовщины. И, в общем-то, всё. Словно главной задачей каждой записи, каждого ежегодно заполняемого тома было именно оставить надежное свидетельство о своей внешней жизни – а жизнь настоящую, внутреннюю, оставить при себе. Все показать. Все скрыть. Хранить вечно.
Чем она так дорожила в этих тетрадях? Почему до последнего дня держала их при себе, и боялась, что пропадут, и просила придвинуть поближе? Возможно, писаный текст, как он вышел, а вышел он рассказом об одиночестве и незаметном сползании в небытие, все же имел для нее силу обвинительного заключения – мир и мы должны были прочесть все это и понять наконец, как дурно мы с ней поступили.
Или, странно подумать, в этих скудных событиях для нее сохранялось какое-то вещество радости, которое ей важно было обессмертить, перевести в разряд рукописей, которые не горят – и говорят, вовсе не пытаясь свидетельствовать? Если так, ей это удалось.
11 октября 2002
Опять от обратного. Сейчас 1:45. Только что замочила полотенца и ночнушки и др., что надо, кроме темного. Постельное позже. До того унесла все с балкона. За окном +3 °C, вдруг овощи бы замерзли! Почистила тыкву и пока в короб ломтями, буду морозить. Очень медленно все! Под капустник на РТР за два часа сделала и чуть еще время ушло. До того чай с молоком.
С 16 до 18 спала, не было сил, чтобы не прикорнуть. До того звонок Т. В. о телефоне на Войковской. А его звонок до 12: работает ли телек? А он с утра не работает ни на одном канале. Я поднялась около 8, когда Сережа (жилец. – М. С.) умывался, а после 9-ти, долго собираясь, ушла. Автобус № 3 пришел в 9:45, ждали его долго. Надо было идти на 171-ый. Везде уже были толпы и все получилось долго. Уральская, автовокзал, газеты. Зато купила тыкву, впервые увидев ее за этот сезон, и морковь. Дома была около 12-ти. Хотела смотреть «Коломбо». А с ночи после 1:45, измерив давление, приняла клофелин, ждала, пока оно снизится, чтобы еще принять лекарства. А, двадцать минут провозившись, не смогла его измерить и легла уже в 3 часа.
8 июля 2004
С утра хороший солнечный день, без дождя обошлось. Утром пила кофе со сгущенкой и ушла около 11 на Алтайскую. Там оказалась толпа, и я сидела очень долго, до 13-ти, у пруда, смотрела на зелень, облака, небо, пела и так мне было хорошо!
По дорожкам прогуливали собак, везли малышей в колясках, целые группы загорали в купальниках, отдыхали и веселились.
Заплатила уже без очереди, купила творог и поплыла домой. У новой школы такая роскошная зелень – кашки высоченные, шиповник – удивительно красиво! А на дороге ребята-мальчишки играли в разбитой машине. У них была пластиковая бутылка, набитая до крышки стручками. Говорят – съедобные.
11 октября 2005
Не было сна и желания вставать, шевелиться, что-то делать… 10:40 принесла почту, снова легла. Света вскоре пришла, такая умница – купит всё лучше меня! Выпила чай и лежала весь день. Поблагодарила Вл. Вас. за почту!..
Боброва дозвонилась до меня после 12-ти. Она приехала в четверг…
Я звонила в 79-ую Морозке, Ире из ЦСО, вечером – Юрчуку. Под ТВ убрала со стула стирку. Легла 23:30.
Жарко. Надела юбочку Тони. «Серая бесцветная, никому не нужная жизнь». Днем – чай, вечер – кофе! Аппетит полностью отсутствует!
И все-таки там была одна запись, непохожая на остальные, от 17 июня 2005 года.
С утра позвонила Симе. Потом достала альбом. Конечно, вытряхнула все фото и долгое время их рассматривала. Есть не хотелось, а это занятие вызвало такую тоску, слезы, грусть и по ушедшему времени, и по всем тем, кого нет, и по бестолковой, точнее напрасной жизни своей, по пустоте, что на душе… Хотелось забыться.
И легла я снова в постель и весь день, даже странно, непонятно как, спала, почти не поднимаясь, до самого вечера, до 20-ти часов, когда, выпив молока и закрыв шторы, снова легла и продолжился этот сон, уводивший от действительности. Сон – спасение.
* * *
Прошло сколько-то месяцев или лет. Галкины тетради лежали тут и там, смешиваясь понемногу с другими бумагами, какие оставляешь на поверхности, имея в виду, что они немедленно пригодятся, и так они стареют под рукой, как домашняя утварь. Я вспомнила их исподволь, когда оказалась в Починках.
Глухой заштатный городок в Арзамасском уезде, двести с длинным хвостом километров от Нижнего Новгорода, Починки пользовались в нашем доме сомнительной славой. Это было место, откуда все вышли и куда никто не хотел возвращаться семьдесят или сколько там лет. Набоков пишет про существование как про щель слабого света между двумя идеально черными вечностями; кажется, что первая – та, где нас еще нет, – зияет глубже; вот такой дырой в семейной памяти стал за годы этот тишайший населенный пункт, никому особо не интересный.
Семья там была, кажется, огромная; я смутно помнила рассказы о братьях и сестрах, которых было больше десятка, фотографии телег с лошадьми и деревянных строений, и все это заслонялось позднейшей историей о невероятных приключениях уроженки Починок моей прабабушки Сарры Гинзбург. Как-то она успела и отсидеть в тюрьме в царские еще времена, и пожить во французском городе Париже, и выучиться на врача, и лечить советских детей, включая мою маму и меня, и все, что о ней ни рассказывали, имело лавровый привкус легенды. Проверять ее истоки никто и не брался.
Был, впрочем, у нас родственник, который все же собирался в Починки – теперь, съежившись за век, они стали селом – как в полярную экспедицию и пытался подбить на это ближних и дальних, меня в числе последних. У него были удивительно прозрачные глаза и постоянный, работавший как моторчик энтузиазм, поводы для которого он обсуждал со взрослыми. В Москве он бывал нечасто и, приехав туда с разговорами о поездке, вдруг не застал там моих родителей: они жили теперь в Германии, семью представляла я. Никогда не думавшая о сентиментальных путешествиях такого рода, я вдруг легко воодушевилась: наше месторождение впервые показалось достижимым, то есть реальным. И чем больше мой собеседник настаивал на тяготах пути и дальности расстояния, делавших путешествие маловероятным, требующим подготовки, планирования, мысли, тем понятней выходило, что добраться до него как-нибудь да можно. Этот саратовский Лёня намеревался поехать в Починки семьей, имея в виду что-то вроде возвращения колен Израилевых, которых должно быть много; так и прособирался и умер лет десять назад. Починки продолжали стоять невидимые, как Китеж.
И вот я понемногу к ним приближалась. Что меня подгоняло – не знаю, и вовсе уж непонятно, что именно я рассчитывала там обнаружить, но перед дорогой я посидела в интернете, вроде как наводясь на резкость. Выходило, что место это и впрямь потустороннее, размещенное на старой карте глубоко за Арзамасом, в Лукояновском уезде – под боком у пушкинского Болдина, среди населенных пунктов с именами Утка и Погибелка. Поезда даже близко не подходили к этим краям, от любой железнодорожной станции было добираться еще часа три. Решили ехать без выкрутасов: машиной из Нижнего.
Отправились рано утром, по розовым, не оправившимся от зимы проспектам. Странная, не вполне обеспамятевшая городская среда – индустриальные постройки пополам с деревянными домами, не сдающими новому миру ни пяди, с их заборами и палисадами, – съезжала в овраги и снова подступала к стеклам. Когда выбрались на шоссе, машина пошла сама собой, набирая бессмысленную гоночную скорость; водитель, отец трехмесячного сына, руки на руле, пренебрежительно молчал. Дорога ходила вверх-вниз прижимистыми волнами, под елями попонками лежал выживший из ума снег. Мир беднел с каждым прожитым километром. В почернелых поселках светили фаянсовым блеском новенькие церкви, белые, как зубные коронки. Со мной был путеводитель, обещавший красоты Арзамаса, давно оставшегося далеко по правому боку, и книжечка про Починки, изданная двадцать лет назад. Там упоминалась лавка еврея Гинзбурга, торговавшего швейными машинами, и это было все. О героической Сарре там и не слышали.
Ехали долгие часы. Начались наконец смурные, не тосканские-мандельштамовские, а умбрийские какие-то холмы цвета темной меди, ровные, как вдох и выдох. Иногда отсвечивала быстро кончавшаяся вода. Как миновали развилку, ведшую к Болдину, стали попадаться памятники Пушкину; по преданию, его деревенская любовница была родом из села Лукоянова, давшего название уезду. Стояли древесные табунки.
Городок был выстроен вдоль главной продольной улицы; от нее расходились влево-вправо аккуратные линии-перпендикуляры. По ту сторону дороги стояла хорошая классицистская церковь – как объяснял путеводитель, это был Рождественский собор, где служил когда-то священник Орфанов. Фамилию я знала: Валя Орфанова передавала мне в детстве приветы, а один раз попросила маму купить мне от ее имени книжку, чтобы Маша помнила. Из того, что было в букинисте, мама выбрала сборничек Сологуба. На беду это оказался «Великий благовест», книжка революционных стихов, изданная в 1923-м; речевки вроде «Я свободный пролетарий с сердцем пламенным в груди», по моим тогдашним меркам, никуда не годились, а оценить звук я была еще не в состоянии, а ведь было что:
Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил.
На пустынной площади, с которой хотелось поскорей свернуть туда, где есть что смотреть и трогать, нас встречала Мария Алексеевна Фуфаева, историк починковской жизни. В этот воскресный день для нас открыли библиотеку, место местной культуры, где была выставка: кто-то прислал из Германии столетней давности акварели – портреты домов и улиц. Эта немецкая семья жила в Починках с конца девятнадцатого века, и я вдруг вспомнила слышанную в детстве фамилию – Гетлинг. Картинки были гемютные, цветные; Августа Гетлинг, сестра их автора, готовила мою юную прабабку к гимназии вон в том веселом домике с мальвами и надписью «Аптека». Он все еще стоял, облицованный каким-то бетоном, потерявший крылечко, ни цветов, ни резных наличников. Где жила в начале двадцатого моя Сарра со своей родней, широким двором, телегой, никто не знал.
И это было все, только это и было, как в дневниковых записях тети Гали, где приходилось довольствоваться отчетами о погоде, перечнем продуктов и телепрограмм. То, что за этим стояло, колеблясь, гудя, не торопилось себя обнаружить, а может, и вовсе не собиралось этого делать. Нас угостили чаем, нас повели гулять. Я шарила глазами по земле, словно пыталась найти копеечку.
Село так и не затянуло очертания того, что было городом, существовавшим вокруг крупнейшей в уезде, а то и во всей губернии конской ярмарки. Мы прошли насквозь когдатошнюю базарную площадь – огромное ее пространство теперь заросло деревьями, где-то по центру присутствовал свинцового цвета памятник Ленину, но место явно отвыкло от людей, слишком велико оно было, чтобы найти себе новое назначенье. Его окаймляли сошедшие с тех картинок игрушечные домики, некоторые со следами быстрой и насильственной перестройки. Мне показали еще одно пустое место – асфальтовый квадрат вместо лавки Соломона Гинзбурга, старшего брата Сарры, и мы наскоро сфотографировались: группа нахохленных женщин в пальто и шапках. Ветер дул. На краю травы, у проезжей дороги, серебрился еще один памятник: могучему жеребцу Капралу, двадцать лет прослужившему в этих местах производителем.
За мостом через реку Рудню, если проехать сколько-то, стояло пережившее себя градообразующее предприятие – завод лейб-гвардии Конного полка, построенный в пушкинские времена. Лошадей здесь разводили и раньше, «аргамачих и нагайских жеребцов, и коней, и меринов, и кобылиц ногайских, и стадных и русских жеребят», потом Екатерина II поставила это дело на промышленную ногу, и огромный завод с его классическими линиями и потрескавшейся белизной, с просевшей и рухнувшей центровой башенкой, с входным порталом, зеркально отраженным на той стороне квадрата, имел в виду быть оплотом цивилизации, островом упорядоченного петербуржества. Он окончательно зачах совсем недавно, в девяностых. Сейчас его окружало поле, долыса вылизанное долгой зимой. По открытым загонам ходили последние лошади: рыжие, тяжеловатые, со светлыми вахлацкими челками. Они поднимали головы и тыкались носом в протянутые руки. Небо стало уже совсем ослепительным, облака были летучая гряда, облупившаяся краска показывала розоватую тельную основу.
Мы проехали уже полдороги, когда я вдруг поняла, что не догадалась сделать главное: здесь не могло не быть кладбища, еврейского или хоть какого, где все мои лежат. Водитель выжимал свои сто двадцать, мелькали названия, Суроватика, Пешелань. Я стала звонить Фуфаевой; кладбища давно не было, как не было уже в Починках евреев. Один, впрочем, остался, она знала, кто он и как зовут. Как ни странно, фамилия его была Гуревич: как у моей мамы.