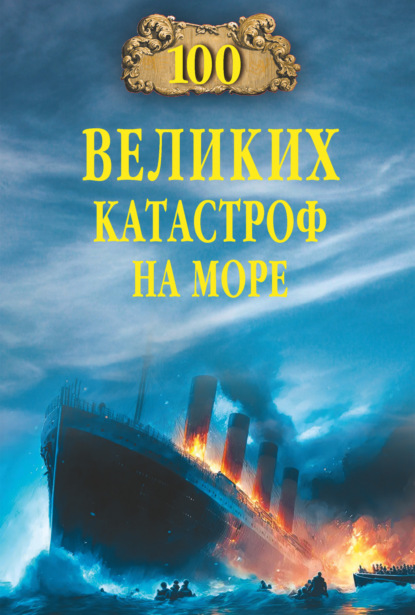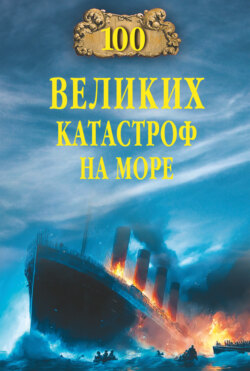
000
ОтложитьЧитал
Кораблекрушения и философы Древней Греции
В наше время во многих греческих храмах, особенно прибрежных или расположенных на островах, можно заметить благодарственные приношения – серебряные лампады в виде кораблей либо пластины из того же металла с тем же изображением. Это – приношения Христу, Богоматери и святым за спасение на море. Уходя в глубь веков, видим граффити кораблей и надписи на греческом языке в поствизантийской церкви Святого Спаса (1609 г.) бывшей Месемврии, расположенной на острове. Ее исконные обитатели, греки, были выселены оттуда болгарами после Первой мировой войны, и с 1934 г. древний город носит варварски-искаженное наименование Несебр.
Теперь уходим еще глубже и видим, что обычай этот ведется у греков еще со времен Античности, по меньшей мере с IV в. до н. э. Был обычай приносить дары за спасение на море в священную пещеру подземной трехликой богине Гекате на острове Самофракия. И вот что рассказывает древний историк философии Диоген Лаэртский (180–240) о своем тезке, известном кинике Диогене Синопском (412–323 до н. э.) – том самом, знаменитом, жившем в бочке: «Кто-то удивлялся приношениям в Самофракийской пещере. «Их было бы гораздо больше, – сказал Диоген, – если бы их приносили не спасенные, а погибшие». Впрочем, некоторые приписывают это замечание Диагору Мелосскому». Блестяще и вполне логично.
В трактате этого автора «О жизни, учениях и изречениях великих философов» есть немало материалов, посвященных интересующему нас вопросу. Скептик Пиррон из Элиды (360–270 до н. э.) был славен тем, что побывал вместе с Македонским в Индии, и результатом его бесед с брахманами и гимнософистами (то есть йогами, дословно с греческого – «нагими мудрецами», γυμνοσοφισταί) и стал скептицизм. Последний – не только отрицание возможности достоверного познания, но и достижение поистине буддийского бесстрастия. Лаэрций пишет: «В согласии с этим вел он и жизнь свою, ни к чему не уклоняясь, ничего не сторонясь, подвергаясь любой опасности, будь то телега, круча или собака, но ни в чем не поддаваясь ощущениям» – и далее: «Посидоний (Родосский (135—51 до н. э.), знаменитый философ, учитель Цицерона. – Е.С.) рассказывает о нем вот какой случай. На корабле во время бури, когда спутники его впали в уныние, он оставался спокоен и ободрял их, показывая на корабельного поросенка, который ел себе и ел, и говоря, что такой бестревожности и должен держаться мудрец».
О Ферекиде Самосском (580–520 до н. э.) Лаэрций сообщает: «О нем рассказывают много удивительного. Так, однажды, прогуливаясь на Самосе, он увидел с берега корабль под парусом и сказал, что сейчас он потонет, – и он потонул на глазах». Интересно, действительно ль философ разбирался в морском деле или просто «накаркал» беду?

В Древней Греции на Самофракии богине Гекате приносились дары за спасение на море
Римский архитектор Витрувий (80–15 до н. э.) свидетельствует о том, как высоко ценились философские знания на Родосе, благодаря описанию случая кораблекрушения с философом Аристиппом (435–355 до н. э.): «Когда последователь Сократа, философ Аристипп, выброшенный после кораблекрушения на берег острова Родос, заметил вычерченные там геометрические фигуры, он, говорят, воскликнул, обращаясь к своим спутникам: «Не отчаивайтесь! Я вижу следы людей». С этими словами он направился в город Родос и вошел прямо в гимнасий, где за свои философические рассуждения был награжден такими дарами, что не только себя самого обеспечил, но и тем, кто был вместе с ним, раздобыл и одежду и все прочее, необходимое для удовлетворения жизненных потребностей. Когда же его спутники захотели вернуться на родину и спросили его, не желает ли он что-нибудь передать домой, то он поручил им сказать следующее: «Надо снабжать детей таким имуществом и давать им на дорогу то, что может выплыть вместе с ними даже после кораблекрушения. Ибо истинная помощь в жизни – то, чему не могут повредить ни невзгоды судьбы, ни государственные перевороты, ни опустошения войны». А развивавший эту мысль Теофраст, убеждая, что лучше быть ученым, чем полагаться на свои деньги, утверждал так: «Ученый – единственный из всех не бывает ни иностранцем в чужой земле, ни – при потере родных и близких – лишенным друзей, но во всяком городе он гражданин и может безбоязненно презирать удары судьбы. И наоборот, кто думает, что он защищен оградой не учености, а удачи, тот, идя по скользкому пути, сталкивается не с устойчивой, но с неверной жизнью». Не расходится с этим и Эпикур, говоря: «Не многое мудрым уделила судьба, но, однако, то, что важнее и необходимее всего: руководиться указаниями духа и разума»… Ведь все дары судьбы могут быть легко ею отняты; внедренные же в умы знания никогда не изменяют, но непоколебимо остаются до самого конца жизни».
Случалось философам и идти на дно; не сомневаемся, что и это они воспринимали поистине философски. Такой конец постиг знаменитого Протагора из Абдер (485–410 до н. э.), известного крылатой фазой «Человек есть мера всех вещей». Незадолго до кончины он трудился в Афинах, войдя в знаменитый круг деятелей науки и искусства, сплотившийся вокруг Перикла (494–429 до н. э.), подвизался на законотворчеством поле, но, увы, уже приближались темные дни серого безумия афинян, казнивших своего величайшего философа Сократа (399 г. до н. э.). По Диогену Лаэртскому, Протагор написал в начале одного из своих сочинений: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, – и вопрос темен, и людская жизнь коротка». За такое начало афиняне изгнали его из города, а книги его сожгли на площади, через глашатая отобрав их у всех, кто имел». Есть мнение, что Протагору в Афинах грозила смертная казнь или просто самосуд, отчего он решил податься на Сицилию, но до нее не доплыл: «Филохор утверждает, будто корабль его потонул, когда он плыл в Сицилию, и на это намекает Еврипид в своем «Иксионе».
Историческая основа кораблекрушений в греческом эпосе
Весьма любопытную информацию о древних кораблекрушениях дает древнегреческий эпос. Давно прошли те времена, когда мифы и эпос рассматривались исключительно как легенды, не сказать – сказки. На самом деле это – кладезь всесторонней информации, от мировоззрения до быта. Мы еще вернемся к этому вопросу, рассуждая об «Одиссее» Гомера. В реальности Троянской войны (XIII в. до н. э.) большая часть серьезных ученых не сомневается, остро дискутируются разве что действительные места боев и особенно результат. В родосской каменной «Линдосской хронике» жертвователями храма Афины наряду с сатрапом Артаферном, тираном Акраганта Фаларидом, фараоном Амасисом, царем Артаксерксом III и многими другими историческими персонами, в реальности существования которых никто не сомневается, упомянуты и Менелай с Еленой Прекрасной. Кроме того, известно, что в линдосском храме Афины хранилась чаша из электрона (сплава золота и серебра), согласно Плинию, являвшаяся даром Елены Прекрасной, отлитая по слепку с ее персей. Видимо, они того действительно заслуживали, коль скоро об этом пишет Еврипид, упрекая Менелая устами Пелея:
…Все дрожал,
Жену бы как вернуть не помешали…
А дальше что? Ты Трою взял… Жена
В твоих руках… Что ж? Ты казнил ее?
Ты нежные едва увидел перси,
И меч из рук упал… Ты целовать
Изменницу не постыдился – псицу,
Осиленный Кипридой, гладить начал…
Характерно, что Еврипид, как оказалось, писал не «от себя», но опираясь на конкретно широко известную ситуацию, ибо хранящаяся в Лувре краснофигурная амфора из Памфея (около 530–510 гг. до н. э.) как раз представляет нам этот момент (задолго до Еврипида!), где улыбающаяся Елена противопоставляет мечу схватившего ее Менелая две свои гигантские красы – как правило, древнегреческие вазописцы нечасто изображали нагие женские перси, и если и делали это, то в относительно скромных формах. Не то здесь! Над осиной талией прекрасной Елены царят шарообразные перси величиной более головы их хозяйки, увенчанные ореолами (околососковыми кружками) с Еленину ладонь шириной. Итак, ответ, чем именно была прекрасна знаменитая Елена, найден.
Обратимся же теперь к преданию о возвращении героев Троянской войны на родину, до которой на самом деле добрались очень немногие (древние видели в этом возмездие богов за излишнее кровопролитие и насилия во взятой Трое). В частности, «благодаря» Навплию, сыну Посейдона. Он мстил за своего сына Паламеда: согласно поэмам Троянского цикла, Паламед разоблачил одного из первых «уклонистов» в истории – царя Итаки Одиссея. Не желая идти на Троянскую войну, тот притворился сумасшедшим, стал пахать и сеять соль. Паламед подложил под лемех Телемаха, новорожденного сына Одиссея, и тому пришлось прекратить притворяться. Под стенами Трои Одиссей хитроумно отомстил ему; как именно – предания об этом разнятся, но факт, что Паламед погиб. И вот, когда Троя пала после 10 лет осады, греческие герои стали возвращаться домой, и старый Навплий проделал с ними знатную штуку, которую затем (а то и до него) веками применяли различного рода пираты или прибрежные жители, охочие до добра мореплавателей. К сожалению, многие поэмы Троянского цикла (в то числе «Возвращение») утрачены, и источник этих сведений ныне – трагедия Еврипида (480–406 до н. э.) «Елена». Сначала царь Менелай вспоминает «об огнях коварных старца Евбейского», а затем более подробно об этом сообщает хор пленниц:
О, скольких ахейцев!..
Печальный Аид их тени объял;
В сирых остались домах жены; им косы
Отрезал булат златые
В сирых чертогах…
Их много сгубил и пловец одинокий;
Там, на Евбее, огни он
Зажег, чтоб о скрытые скалы
Лодки разбило.
Их обмануло светило вдали…
Знаменитый механик Герон Александрийский, прославившийся созданием различных причудливых автоматов и даже паровой машины («Эоловых шаров», крутившихся вокруг оси под воздействием нагретого в них воздуха), сконструировал «театр автоматов», в котором был запрограммирован сложный ряд действий и сцен. Немецкий ученый Г. Дильс так описывает его: «(Этот) прибор представляет целую античную драму «Навплий» в пяти актах, в которой все фигуры приводятся в движение автоматически одна за другой при помощи системы зубчатых колес и шнурков. Паламед, сын Навплия, благодаря козням эллинов был побит камнями в Троянском лагере. За это Навплий мстит возвращавшимся домой грекам тем, что ночью устраивает на южной оконечности острова Эвбеи ложный маяк. Все греческие корабли гибнут у опасного мыса. Афина мечет молнию в Аякса. Театр же автоматов представляет эту драму в следующих пяти актах.
Акт 1-й. 12 греков суетятся возле кораблей, готовясь спустить их на воду. Различные мастеровые работают в глубине, они пилят, куют, сверлят и т. д., подобно автоматам Гельбруннского парка, с той разницею, что фигуры греческого театра автоматов приводятся в движение не силой воды, а грузами, которые действовали при помощи шнурков на колеса механизма.
Акт 2-й. Спуск кораблей на воду.
Акт 3-й. Отплытие кораблей. Дельфины ныряют вокруг судов.
Акт 4-й. Буря. Навплий сооружает ложный маяк.
Акт 5-й. Кораблекрушение. Аякс плывет к берегу. Тогда сверху на театральной машине (как это было в древних аттических театрах) появляется богиня Афина, поражающая Аякса молнией. Специальная машина производит обязательный в этом случае гром. Аякс исчезает в волнах, в то время как опускается занавес и скрывает пловца».
Наше «компьютерное» время, окинув подобные творения Герона новым взглядом, увенчало его лаврами первого программиста.
Римский военный и административный деятель Секст Юлий Фронтин (30—103 н. э.) собрал в своем труде «Стратегемы» хитрости древних – греков, карфагенян, римлян и т. п. И вот он описывает близкий способ обманом устроить кораблекрушение, который придумали иллирийские либурны (позже в честь этого племени будут названы легкие боевые корабли римлян): «Либурны, занимая мелководье, выставили из воды только головы, внушив таким образом неприятелю представление, что там – глубокое место; преследовавшая их трирема села на мель и была захвачена».

Воображаемый портрет Навплия. XVI в.
Но не будем углубляться в военное дело, наша задача несколько иная. «Рекордсменом» по пережитым кораблекрушениям, конечно же, был Одиссей. Разумеется, 10 лет добираться с Эгейского побережья Малой Азии (фактически из нынешней Турции) до соседней Греции – это надо постараться. Кто хотя бы поверхностно вспомнит его странствия, может даже недовольно ухмыльнуться: куда все эти циклопы, сирены, лотофаги, волшебницы, цари ветров и нимфы «лезут» в историческую книгу?.. А теперь мы вспомним данное в начале этой главы обещание вернуться к историчности «Одиссеи». Обратите внимание (хотя именно на это обращают внимание реже всего – или даже вовсе над этим не задумываются): все эти чуда чудные, дивы дивные появляются не в повествовании самого Гомера! Это видавший виды моряк за столом у царя феаков вдохновенно расписывает свои злоключения, явно не без помощи замечательного греческого вина! Так теперь это, как говорят в Одессе, две большие разницы!
Средь его приключений отметим легендарное попадание между Сциллой и Харибдой, вошедшее в поговорку. Несмотря на мифологические образы этих исчадий ада, имеется в виду совершенно конкретное место на Земле: Мессенский пролив между Апеннинским полуостровом и Сицилией. Издревле печально «славный» как место кораблекрушений. Согласно легендам, Сцилла, из бывших нимф, имела двусоставное тело – девы и либо рыбы, либо змеи, либо собаки; при этом от ее пояса росло шесть шей с собачьими головами. Напротив нее мифологическая Харибда устраивала водовороты. Если мимо Сциллы еще можно было проплыть, потеряв 6 членов экипажа (что и случилось с Одиссеем), то спастись от водоворота Харибды кораблю было уже почти нереально.
Волшебница Кирка так наставляла Одиссея:
«После ты две повстречаешь скалы: до широкого неба
Острой вершиной восходит одна, облака окружают
Темносгущенные ту высоту, никогда не редея.
Там никогда не бывает ни летом, ни осенью светел
Воздух; туда не взойдет и оттоль не сойдет ни единый
Смертный, хотя б с двадцатью был руками и двадцать
Ног бы имел, – столь ужасно, как будто обтесанный, гладок
Камень скалы; и на самой ее середине пещера,
Темным жерлом обращенная к мраку Эреба на запад;
Мимо ее ты пройдешь с кораблем, Одиссей многославный;
Даже и сильный стрелок не достигнет направленной с моря
Быстролетящей стрелою до входа высокой пещеры;
Страшная Скилла живет искони там. Без умолку лая,
Визгом пронзительным, визгу щенка молодого подобным,
Всю оглашает окрестность чудовище. К ней приближаться
Страшно не людям одним, но и самым бессмертным. Двенадцать
Движется спереди лап у нее; на плечах же косматых
Шесть подымается длинных, изгибистых шей; и на каждой
Шее торчит голова, а на челюстях в три ряда зубы,
Частые, острые, полные черною смертью, сверкают;
Вдвинувшись задом в пещеру и выдвинув грудь из пещеры,
Всеми глядит головами из лога ужасная Скилла.
Лапами шаря кругом по скале, обливаемой морем,
Ловит дельфинов она, тюленей и могучих подводных
Чуд, без числа населяющих хладную зыбь Амфитриты.
Мимо ее ни один мореходец не мог невредимо
С легким пройти кораблем: все зубастые пасти разинув,
Разом она по шести человек с корабля похищает.
Близко увидишь другую скалу, Одиссей многославный:
Ниже она; отстоит же от первой на выстрел из лука.
Дико растет на скале той смоковница с сенью широкой.
Страшно все море под тою скалою тревожит Харибда,
Три раза в день поглощая и три раза в день извергая
Черную влагу. Не смей приближаться, когда поглощает:
Сам Посейдон от погибели верной тогда не избавит.
К Скиллиной ближе держася скале, проведи без оглядки
Мимо корабль быстроходный: отраднее шесть потерять вам
Спутников, нежели вдруг и корабль потопить, и погибнуть
Всем». Тут умолкла богиня; а я, отвечая, сказал ей:
«Будь откровенна, богиня, чтоб мог я всю истину ведать:
Если избегнуть удастся Харибды, могу ли отбиться
Силой, когда на сопутников бросится жадная Скилла?»
Так я спросил, и, ответствуя, так мне сказала богиня:
«О необузданный, снова о подвигах бранных замыслил;
Снова о бое мечтаешь; ты рад и с богами сразиться.
Знай же: не смертное зло, а бессмертное Скилла. Свирепа,
Дико-сильна, ненасытна, сражение с ней невозможно.
Мужество здесь не поможет; одно здесь спасение – бегство.
Горе, когда ты хоть миг там для тщетного боя промедлишь:
Высунет снова она из своей недоступной пещеры
Все шесть голов и опять с корабля шестерых на пожранье
Схватит; не медли ж; поспешно пройди; призови лишь Кратейю:
Скиллу она родила на погибель людей, и одна лишь
Дочь воздержать от второго на вас нападения может.
Скоро потом ты увидишь Тринакрию остров» (то есть Сицилию).
И вот после острова сирен корабль Одиссея потянуло в опасный пролив, хотя гребцы и не гребли; зная, чем все обернется, Одиссей говорит сотоварищам:
Силу удвойте, гребцы, и дружнее по влаге зыбучей
Острыми веслами бейте; быть может, Зевес покровитель
Нам от погибели близкой уйти невредимо поможет.
Ты же внимание, кормщик, удвой; на тебя попеченье
Главное я возлагаю – ты правишь кормой корабельной:
В сторону должен ты судно отвесть от волненья и дыма,
Видимых близко, держися на этот утес, чтоб не сбиться
Вбок по стремленью – иначе корабль, несомненно, погибнет».
Так я сказал; все исполнилось точно и скоро; о Скилле ж
Я помянуть не хотел: неизбежно чудовище было;
Весла б они побросали от страха и, гресть переставши,
Праздно б столпились внутри корабля в ожиданье напасти.
Сам же я, вовсе забыв повеление строгой Цирцеи,
Мне запретившей оружие брать для напрасного боя,
Славные латы на плечи накинул и, два медноострых
В руки схвативши копья, подошел к корабельному носу
В мыслях, что прежде туда из глубокого жадная Скилла
Бросится лога и там ей попавшихся первых похитит.
Тщетно искал я очами ее, утомил лишь напрасно
Очи, стараясь проникнуть в глубокое недро утеса.
В страхе великом тогда проходили мы тесным проливом;
Скилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала
Жадно Харибда соленую влагу: когда извергались
Воды из чрева ее, как в котле, на огне раскаленном,
С свистом кипели они, клокоча и буровясь; и пена
Вихрем взлетала на обе вершины утесов; когда же
Волны соленого моря обратно глотала Харибда,
Внутренность вся открывалась ее: перед зевом ужасно
Волны сшибались, а в недре утробы открытом кипели
Тина и черный песок. Мы, объятые ужасом бледным,
В трепете очи свои на грозящую гибель вперяли.
Тою порой с корабля шестерых, отличавшихся бодрой
Силой товарищей, разом схватя их, похитила Скилла;
Взор на корабль и на схваченных вдруг обративши, успел я
Только их руки и ноги вверху над своей головою
Мельком приметить: они в высоте призывающим гласом
Имя мое прокричали с последнею скорбию сердца.
Так рыболов, с каменистого берега длинносогбенной
Удой кидающий в воду коварную рыбам приманку,
Рогом быка лугового их ловит, потом, из воды их
Выхватив, на берег жалко трепещущих быстро бросает:
Так трепетали они в высоте, унесенные жадною Скиллой.
Там перед входом пещеры она сожрала их, кричащих
Громко и руки ко мне простирающих в лютом терзанье.
Страшное тут я очами узрел, и страшней ничего мне
Зреть никогда в продолжение странствий моих не случалось.
Скиллин утес миновав и избегнув свирепой Харибды,
Прибыли к острову мы наконец светоносного бога
(то есть опять же на Сицилию. – Е.С.).
Но после отдыха и отплытия разразился шторм:
Мачту поднявши и белый на мачте расправивши парус,
Все мы взошли на корабль и пустились в открытое море.
Но, когда в отдалении остров пропал и исчезла
Всюду земля и лишь небо, с водами слиянное, зрелось,
Бог громовержец Кронион тяжелую темную тучу
Прямо над нашим сгустил кораблем, и под ним потемнело
Море. И краток был путь для него. От заката примчался
С воем Зефир, и восстала великая бури тревога;
Лопнули разом веревки, державшие мачту; и разом
Мачта, сломясь, с парусами своими, гремящая, пала
Вся на корму и в паденье тяжелым ударом разбила
Голову кормщику; череп его под упавшей громадой
Весь был расплюснут, и он, водолазу подобно, с высоких
Ребр корабля кувырнувшися вглубь, там пропал, и из тела
Дух улетел. Тут Зевес, заблистав, на корабль громовую
Бросил стрелу; закружилось пронзенное судно, и дымом
Серным его обхватило. Все разом товарищи были
Сброшены в воду, и все, как вороны морские рассеясь,
В шумной исчезли пучине – возврата лишил их Кронион.
Я ж, уцелев, меж обломков остался до тех пор, покуда
Киля водой не отбило от ребр корабельных: он поплыл;
Мачта за ним поплыла; обвивался сплетенный из крепкой
Кожи воловьей ремень вкруг нее; за ремень уцепившись,
Мачту и киль им поспешно опутал и плотно связал я,
Их обхватил и отдался во власть беспредельного моря.
Стихнул Зефир, присмирела сердитая буря; но быстрый
Нот поднялся: он меня в несказанную ввергнул тревогу.
Снова обратной дорогой меня на Харибду помчал он.
Целую ночь был туда я несом; а когда воссияло
Солнце – себя я узрел меж скалами Харибды и Скиллы.
В это мгновение влагу соленую хлябь поглощала;
Я, ухватясь за смоковницу, росшую там, прицепился
К ветвям ее, как летучая мышь, и повис, и нельзя мне
Было ногой ни во что упереться – висел на руках я.
Корни смоковницы были далеко в скале и, расширясь,
Ветви объемом великим Харибду кругом осеняли;
Так там, вися без движения, ждал я, чтоб вынесли волны
Мачту и киль из жерла, и в тоске несказанной я долго
Ждал – и уж около часа, в который судья, разрешивши
Юношей тяжбу, домой вечерять, утомленный, уходит
С площади, – выплыли вдруг из Харибды желанные бревна.
Бросился вниз я, раскинувши руки и ноги, и прямо
Тяжестью всею упал на обломки, несомые морем.
Их оседлавши, я начал руками, как веслами, править.
Скилле ж владыка бессмертных Кронион меня не дозволил
В море приметить: иначе была б неизбежна погибель.
Девять носился я дней по водам; на десятый с наставшей
Ночью на остров Огигию выброшен был, где Калипсо
Царствует, светлокудрявая, сладкоречивая нимфа.
Принят я был благосклонно богиней.
По пути с ее острова к острову феаков Одиссеев плот настигло новое крушение:
В это мгновенье большая волна поднялась и расшиблась
Вся над его головою; стремительно плот закружился;
Схваченный, с палубы в море упал он стремглав, упустивши
Руль из руки; повалилася мачта, сломясь под тяжелым
Ветров противных, слетевшихся друг против друга, ударом;
В море далеко снесло и развившийся парус, и райну.
Долго его глубина поглощала, и сил не имел он
Выбиться кверху, давимый напором волны и стесненный
Платьем, богиней Калипсою данным ему на прощанье.
Вынырнул он напоследок, из уст извергая морскую
Горькую воду, с его бороды и кудрей изобильным
Током бежавшую; в этой тревоге, однако, он вспомнил
Плот свой, за ним по волнам погнался, за него ухватился,
Взлез на него и на палубе сел, избежав потопленья;
Плот же бросали туда и сюда взгроможденные волны…
Так он два дня и две ночи носим был повсюду шумящим
Морем, и гибель не раз неизбежной казалась.
Читатель, верно, согласится, что эти художественные строки почти трехтысячелетней давности, так ярко описывающие кораблекрушение и стойкость человеческого духа, было вполне уместно привести здесь, в этой книге.
Теперь же, после трех своеобразных вступительных глав, пойдут конкретные рассказы о морских авариях и катастрофах.
- 100 великих авантюристов
- 100 великих адмиралов
- 100 великих городов мира
- 100 великих гениев
- 100 великих географических открытий
- 100 великих заговоров и переворотов
- 100 великих загадок природы
- 100 великих военачальников
- 100 великих кораблекрушений
- 100 великих архитекторов
- 100 великих военных тайн
- 100 великих нобелевских лауреатов
- 100 великих богов
- 100 великих футболистов
- 100 великих экспедиций
- 100 великих футбольных тренеров
- 100 великих загадок XX века
- 100 великих мастеров балета
- 100 великих феноменов
- 100 великих спортивных достижений
- 100 великих библейских персонажей
- 100 великих дипломатов
- 100 великих загадок истории Франции
- 100 великих загадок Африки
- 100 великих литературных героев
- 100 великих оригиналов и чудаков
- 100 великих узников
- 100 великих событий XX века
- 100 великих тайн
- 100 великих сокровищ России
- 100 великих историй любви
- 100 великих загадок русской истории
- 100 великих предсказаний
- 100 великих тайн Древнего мира
- 100 великих тайн Второй мировой
- 100 великих загадок истории флота
- 100 великих загадок Индии
- 100 великих полководцев Средневековья
- 100 великих героев 1812 года
- 100 великих достопримечательностей Москвы
- 100 великих достопримечательностей Санкт-Петербурга
- 100 великих загадок астрономии
- 100 великих тайн Востока
- 100 великих рекордов стихий
- 100 великих интриг
- 100 великих криминальных историй
- 100 великих мистических тайн
- 100 великих монастырей
- 100 великих полководцев Западной Европы
- 100 великих полководцев древности
- 100 великих рекордов животных
- 100 великих рекордов транспорта
- 100 великих свадеб
- 100 великих спортсменов
- 100 великих тайн археологии
- 100 великих тайн Земли
- 100 великих тайн космонавтики
- 100 великих тайн человека
- 100 великих творцов моды
- 100 великих футбольных клубов
- 100 великих чудес природы
- 100 великих загадок истории
- 100 великих рекордов авиации и космонавтики
- 100 великих приключений
- 100 великих тайн Нового времени
- 100 великих рекордов военной техники
- 100 великих тайн советской эпохи
- 100 великих российских актеров
- 100 великих войн
- 100 великих городов древности
- 100 великих тайн сознания
- 100 великих реликвий мира
- 100 великих тайн Первой Мировой
- 100 великих супружеских пар
- 100 великих тайн океана
- 100 великих загадок современности
- 100 великих заблуждений
- 100 великих криминальных драм XX века
- 100 великих наград мира
- 100 великих тайн Библии
- 100 великих русских путешественников
- 100 великих тайн медицины
- 100 великих тайн доисторического мира
- 100 великих загадок современной медицины
- 100 великих мистификаций
- 100 великих разведчиков России
- 100 великих загадочных смертей
- 100 великих деятелей тайных обществ
- 100 великих крылатых выражений
- 100 великих тайн Ватикана
- 100 великих технических достижений древности
- Сто великих гор и вершин мира
- 100 великих парадоксов
- Сто великих речей
- 100 великих битв Средневековой Руси
- 100 великих криминальных драм XIX века
- Сто великих загадок уфологии
- 100 великих тайн из жизни растений
- 100 великих литературных прототипов
- 100 великих отечественных самолетов
- 100 великих историков
- 100 великих кораблей отечественного ВМФ
- 100 великих открытий российской науки
- 100 великих тайн Сибири
- Сто великих покорителей космоса
- 100 великих катастроф на море
- 100 великих автомобилей мира