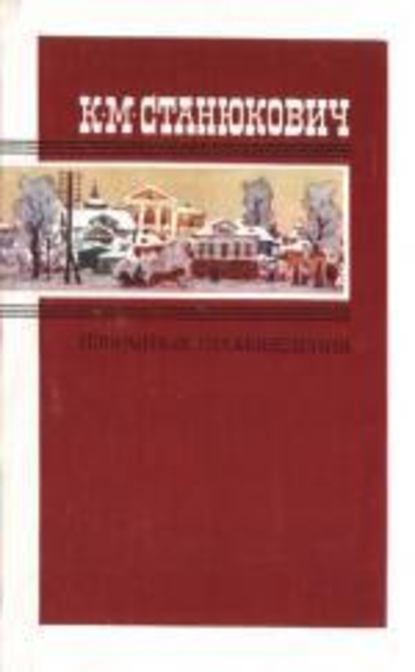I
Был первый час на исходе славного солнечного морозного декабрьского дня.
В скромно убранной столовой маленького деревянного особнячка, в одном из переулков, прилегающих к Пречистенке, за небольшим столом, умело и опрятно сервированным, друг против друга сидели за завтраком муж и жена: Николай Сергеевич Заречный, тридцатипятилетний красивый брюнет, профессор, лет восемь как подающий большие надежды в ученом мире, и Маргарита Васильевна, изящная блондинка ослепительной белизны, казавшаяся гораздо моложе своих тридцати лет, похожая на англичанку и необыкновенно привлекательная одухотворенным выражением строгой целомудренной красоты своего худощавого, словно выточенного, энергичного лица. Светло-русые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в коронку на красиво посаженной, гордо приподнятой голове.
Ткань черного шерстяного лифа обрисовывала стройный стан и тонкую, как у молодой девушки, талию. Воротник белоснежного рюша обрамлял шею. На маленькой тонкой руке одиноко блестело обручальное кольцо.
Профессор весь был поглощен завтраком.
Накануне он вернулся домой поздно и в несколько веселом настроении с какого-то ученого заседания, окончившегося, как водится, ужином в «Эрмитаже» и шумными и горячими разговорами о том, что скверно живется. Встал он в двенадцатом часу и сел завтракать позже обыкновенного. В два часа Николай Сергеевич должен был поспеть в университет и потому, наскоро проглотив рюмку водки, он торопливо и молча принялся за огромный кровяной сочный бифстекс, предварительно облюбовав его глазами, загоревшимися плотоядным огоньком чревоугодника.
Он ел с жадностью человека, любящего покушать, но у которого нет времени свершать культ чревоугодия как бы следовало, не спеша, и громко чавкал среди тишины, царившей в столовой, по временам смолкая, чтобы выпить из большого бокала пива.
Жена почти ничего не ела.
Серьезная и, казалось, сосредоточенная на какой-то мысли, она лениво отхлебывала из маленькой чашки кофе и по временам взглядывала на мужа.
И эти взгляды серых вдумчивых глаз, осененных длинными ресницами, светились не любовью и не лаской, а холодным, внимательным выражением бесстрастного наблюдателя, казалось, не столько взволнованного, сколько заинтересованного любопытным открытием; точно объектом наблюдения молодой женщины был посторонний человек, а не этот, близкий ей по праву, плотный, широкоплечий, здоровый красавец брюнет в своем потертом вицмундире, с крупными и мягкими чертами несколько полноватого и жизнерадостного лица, отливавшего румянцем, с черной как смоль гривой волнистых волос, закинутых небрежно назад и оставляющих открытым высокий большой лоб, несколько полысевший у висков, с кудрявой бородой и пушистыми усами, из-под которых сверкали ослепительно белые зубы.
Заречный был бесспорно хорош, и вся его крупная фигура невольно обращала на себя внимание. Недаром же на его талантливые публичные лекции всегда собиралось множество дам и девиц, желавших взглянуть на этого чернобрового, румяного красавца профессора, приятный и звучный тенорок которого так ласкал слух.
А между тем лицо его казалось теперь Маргарите Васильевне далеко не таким смелым и умным, с печатью дара божия на челе, каким два года назад и еще недавно, совсем недавно… Она точно смотрела на него другими очами и видела в нем что-то самоуверенное, грубоватое и пошловатое, чего не замечала раньше или, быть может, не хотела замечать.
А теперь ей точно хотелось все распознать в своем муже, и она с каким-то злорадным мужеством смелого человека, наказывающего себя за обманутые ожидания, старалась подметить всякую черту, подтверждавшую ее новое откровение.
Как она наказана за свою уверенность, что хорошо узнает людей. Какой туман тогда нашел на ее глаза?
И в голове ее невольно пронеслось все то, что было два года тому назад и в эти два года…
Ей было двадцать семь лет, она повидала свет и людей, когда приехала в Россию сперва на холеру, а потом к тетке в Москву из-за границы, где доканчивала свое образование после высших курсов в Петербурге. Она ехала на родину, чтоб осмотреться, добыть себе кусок хлеба и найти интересных и значительных людей, которых она напрасно искала раньше в Петербурге, и в Париже, и в Женеве среди разных кружков. Ухаживателей было много, но особенно интересных, которые заставили бы молодую девушку отдать свою душу и вместе работать, никого. В Москве благодаря тетке она познакомилась с интеллигентными кружками и не нашла своего героя среди многочисленных поклонников, в числе которых был и Заречный. Никто ей не нравился, никто не заставлял сильнее биться ее сердце, никто не отвечал на ее запросы: что делать? как жить?
Она отыскала себе переводную работу, занялась благотворительною деятельностью, часто встречалась с Заречным и остановила свое благосклонное внимание на молодом, блестящем профессоре, о котором тогда говорила Москва.
Она не любила его, но он ей казался интереснее, умнее и смелее других. Он так горячо уверял, что души их родственны, так искренне звал на совместную трудовую жизнь и борьбу и вдобавок так сильно любил ее, что она после года колебаний согласилась быть его женой, далеко не увлеченная им, не охваченная страстью. Боязнь остаться старой девой и нажить себе неврастению и страстный темперамент сдержанной и целомудренной натуры немало повлияли на ее решение. Она не обманывала себя иллюзиями безбрачного подвижничества и понимала риск замужества без той любви, о которой мечтала. Но Заречный казался ей вполне порядочным человеком, и, давая ему слово, она добросовестно дала и себе слово сделать его счастливым и быть ему верным другом и помощницей.
И она сдержала свое обещание, и если не любила, то уважала мужа. Он был знающим, талантливым профессором, его любили студенты, он занимался каким-то исследованием, часто в беседах говорил горячие речи о долге общественного человека, и в эти два года никакая серьезная размолвка не нарушала их счастия. Он по-прежнему безумно любил свою Риту, она охотно позволяла себя любить. Они, казалось, понимали друг друга и были одной веры, и Маргарита Васильевна прощала мужу и его лень и его недостатки, казавшиеся ей неважными в сравнении с его достоинствами.
Маргарита Васильевна окончила кофе, отодвинула чашку и снова взглянула на мужа.
«Как он противно ест, совсем как животное!» – мысленно проговорила она и как-то брезгливо поджала свои тонкие губы.
Она переводила взгляд и подвергала беспощадной критике и жадное чавканье мужа, и его довольное лицо, и его вицмундир, и сбившийся набок узкий черный галстух, и красноватые пухлые руки с лопатообразными плоскими пальцами и не совсем опрятными ногтями, и его сочные, чувственные губы.

И вдруг краска прилила к ее лицу и покрыла румянцем нежную белую кожу ее щек.
Она вспомнила, что еще несколько часов тому назад эти самые сочные губы, от которых пахло вином, грубо и властно целовали ее уста. И она не противилась, и сама отдавалась этой ласке.
При этом воспоминании молодую женщину охватило чувство стыда, негодования и злобы против мужа, и она продолжала с еще большею беспощадностью развенчивать его. Он был в ее глазах грубый, чувственный человек, не способный тонко чувствовать. Он не убежденный человек, каким высокомерно себя считает, а такой же фразер, как и многие другие. Для него, в сущности, дорого только свое «я» и собственное благополучие. Он – тщеславный, лживый и самолюбивый эгоист, умеющий прикрываться блеском фразы.
Николай Сергеевич окончил свой завтрак, посмотрел на часы и потом на жену. Взоры их встретились. В его глазах, добродушных и веселых, светилась такая преданная любовь, такая нежность, что Маргарита Васильевна была обезоружена, и взгляд ее невольно смягчился.
А Николай Сергеевич между тем не без горячности воскликнул, удовлетворенно отодвигая от себя пустую тарелку:
– А у нас черт знает что творится, Рита. Вчера мы долго об этом говорили за ужином…
– Вы только и делаете, что говорите да ужинаете! – промолвила она с нескрываемой насмешкой. – В этом, кажется, и проявляется вся ваша смелость.
Заречный удивленно посмотрел на жену. Таких речей он никогда не слыхал от нее.
И, оскорбленный в своем самолюбии, проговорил не без иронической нотки в голосе:
– А что же ты нам прикажешь делать, Рита?
– Разве вы сами, жрецы науки, не додумались? – так же иронически переспросила молодая женщина.
– Я не понимаю, что ты хочешь сказать.
– Я хочу сказать, что недостойно взрослых людей болтать за ужинами, повторяя одни и те же жалостные слова.
– Ты, Рита, не думаешь, что говоришь!.. – воскликнул он порывисто. – Разве я сделал что-нибудь такое, за что можно краснеть? Разве я принимаю какое-нибудь участие в том, что у нас творится?..
– Этого только недоставало, чтоб ты принимал участие!.. Тогда… тогда…
Она на секунду запнулась.
– Что тогда?..
– Я давно бы оставила тебя.
– Без всякого сожаления? – спросил профессор.
– Без малейшего! – проронила молодая женщина.
***
Он ушел, взволнованный и огорченный.
Прошла легкой, грациозной походкой и Маргарита Васильевна в свой кабинет, чистенький, со светлыми обоями и камельком, в котором слегка шипели угли.
Небольшой письменный стол в углу, два большие шкапа с книгами, хорошая литография мурильевской мадонны, несколько портретов любимых писателей, иностранных и русских, цветы на окнах с белоснежными занавесками, маленькая оттоманка, два кресла, этажерка с букетиком искусственных парижских цветов – все это имело уютный вид гнездышка, свитого женской умелой рукой, и в то же время свидетельствовало о серьезных занятиях хозяйки.
Она присела на оттоманку и задумалась, вспоминая только что бывшее объяснение. Она не отказывалась от своего мнения о муже, но она почувствовала жалость к нему и сознавала себя виноватой перед ним.
Зачем она вышла за него замуж? Зачем?
И он так безумно любит ее, а она теперь едва его выносит. Не потому ли она так беспощадна к нему, что не любит мужа и никого еще не любила?
А может быть, он и искренне убежден в том, что оставаться среди нечестивых – подвиг, а не трусость? Он так горячо говорил.
– Нет… Это ложь, ложь! – прошептала она.
Как же ей поступить? Оставить его, и чем скорее, тем лучше?
Она испугалась пришедшей вслед за тем мысли. Он ведь говорил, что не может жить без нее. И пожалуй, сдержит слово. Имеет ли она право губить чужую жизнь?
И молодую женщину снова охватила жалость к человеку, который так ее любит и в любви которого виновата и она. Будущее казалось ей безнадежным. Никого близкого, с кем можно бы поговорить.
– Одна… одна… Всегда одна! – тоскливо проронила она…
И слезы незаметно катились из ее глаз.
В третьем часу Маргарита Васильевна, по обыкновению, собралась навестить свой участок по делам попечительства и потом заехать к Аглае Петровне Аносовой, богатой интеллигентной купчихе, поговорить об одном деле, которое с недавнего времени занимало ее мысли, и привлечь ее к задуманному предприятию. Она охотно жертвовала на разные полезные дела, и Маргарита Васильевна почти не сомневалась в том, что Аносова, узнавши подробный план, не откажется помочь этому делу.
Настроение, в каком находилась Маргарита Васильевна, побуждало ее ехать сегодня же к Аносовой. Заречная хоть и не была с ней знакома, но несколько раз встречалась с ней и знала ее по репутации. Наверное, она не удивится цели ее посещения. Она женщина умная, понимает людей и не станет вилять, а скажет прямо. Таким образом, можно сегодня же узнать: устроится ли скоро дело, которое Маргарита Васильевна считала серьезным и стоящим, чтоб ему посвятить свои силы.
Переводная и компилятивная работа не удовлетворяла молодую женщину, и вдобавок приходилось переводить иногда глупости, а то, что ей нравилось, редактор часто не одобрял, ссылаясь на времена и на разные циркуляры.
Не удовлетворяла ее и та благотворительная деятельность, которой она усердно отдалась, имея много свободного времени и посещая разные подвалы и трущобы, где знакомилась с нищетой в разных ее проявлениях, сознавая, что не помочь грошовыми подачками несчастным людям.
Ей хотелось какого-нибудь большого, хотя бы и благотворительного дела, уж если женщине заказаны другие пути…
Она уже надевала принесенную ей в кабинет каракулевую шапочку, когда до ее ушей долетел звук электрического звонка, и вслед за тем вошла молодая горничная Катя и доложила:
– Прикажете принимать? Я сказала, что вы собираетесь уходить, а господин сказал, что он на минутку… Вот и карточка ихняя! – прибавила она, подавая карточку.
Маргарита Васильевна взглянула на карточку и чуть не вскрикнула от изумления:
– Принимать, принимать! Просите сюда, ко мне, Катя.
И молодая женщина торопливо сняла шапочку и перчатки, взглянула на себя в зеркало, оправила волосы и опустилась на оттоманку, ожидая с радостным чувством нежданного гостя, Василия Васильевича Невзгодина, самого близкого ее московского приятеля и когда-то преданного и любящего поклонника, влюбленного в нее по уши, делавшего ей два раза предложение и скрывшегося за границу, как только она дала слово Заречному.
Она предпочла блестящего профессора этому милому, но беспутному малому с неустановившимися взглядами, без определенной профессии, с злым языком и добрейшим сердцем, который, вдобавок, был на три года моложе ее и казался ей больше товарищем, чем претендентом.
С тех пор Невзгодин не подавал о себе никаких вестей, точно канул в воду.
Маргарита Васильевна о нем справлялась и получила известие, что он в Париже серьезно занимался химией. Затем недавно до нее дошел слух, будто бы Невзгодин написал повесть, которая скоро появится в одном из толстых журналов.
II
– Здравствуйте, Маргарита Васильевна! Не пугайтесь, я не задержу вас… Вы собирались куда-то уходить… Только взгляну на вас и исчезну!
Голос Невзгодина звучал весело и радостно, и в этом голосе было что-то располагающее и искреннее.
Он крепко, по-товарищески, пожал Маргарите Васильевне руку и, улыбаясь, прибавил:
– Я объевропеился и совлек с себя московский халат. Не буду мешать вам… В самом деле, уезжайте… Я как-нибудь в другой раз заверну. Скажите только, как поживаете? Надеюсь, хорошо?
– Садитесь, Василий Васильич… Я так рада вас видеть, что с большим удовольствием останусь дома, – говорила Маргарита Васильевна, ласково оглядывая Невзгодина. – А в самом деле, вы объевропеились, как говорите… Стали франтом… В вас и не узнать прежнего богему на московский лад.
– Отрицавшего приличный костюм и носившего русские рубашки? – прибавил Невзгодин. – У нас, в Париже, нельзя, как вы знаете, отрицать такое видимое отличие цивилизованного человека от мизерабля… [1] Никуда не пустят… Ну, я и приучился иметь про всякий случай новый редингот и стричь волосы, чтобы не пугать парижских гаменов… [2] Хоть к самой генеральше Дергачевой с визитом. Помните, как она делила людей по костюму на приличных и «мовежанрных» [3], как она выражалась?
Действительно, модный редингот с бархатным воротником и шелковыми отворотами сидел отлично на Невзгодине. Широкий галстух, стоячие воротники белоснежной белизны, модный цилиндр, ботинки с широкими носками – одним словом, все как следует, чтобы иметь вид вполне приличного джентльмена.
И сам он, невысокий, сухощавый и стройный, с тонкими чертами живого, неспокойного лица, бледного и болезненного, с карими, острыми и смеющимися глазами, глядел изящным интеллигентом, в котором чувствуется и ум, и тонкость деликатной натуры, и темперамент. Каштановые волосы стояли «ежиком» на кругловатой голове с большим открытым лбом, рыжеватого оттенка бородка подстрижена, маленькие усики прикрывали тонкие, несколько искривленные губы, придававшие физиономии Невзгодина саркастический вид. В общем что-то мефистофелевское и в то же время располагающее.
– Вас не только к генеральше Дергачевой, а в самый первый салон можно повести, Василий Васильевич. Какая разница с тем невозможным, который был на холере.
Они познакомились во время холеры в Саратовской губернии. Маргарита Васильевна приехала туда из Парижа, а Невзгодин из Москвы.
– В костюме разве… А я все такой же, каким был и тогда… Подучился только за два года да больше опыта понабрался.
– Еще бы… Ну, рассказывайте о себе. Давно приехали?
– Сегодня…
– И надолго?
– А не знаю… Как поживется. Подыщется ли подходящая… работа. Ведь я, как знаете, из бродяг… Люблю новые впечатления.
– Что же вы делали в Париже?
– Учился, получил диплом, гулял по бульварам, давал уроки русского языка взрослым французам и французского маленьким соотечественникам. Много читал, ну и…
– И что?
– Случалось, покучивал…
– В веселой компании, конечно?
– Хуже: один… в минуты хандры, знаете ли, русской хандры, нападающей на человека, желающего поймать луну и сомневающегося в такой возможности…
– Говорят, вы и повесть написали?
– И в этом грешен, Маргарита Васильевна. Написал, и даже целых три. Решился послать только одну… Кроме того, два мемуара по химии напечатал во французском журнале.
– Вот вы какой усердный стали… А как называется ваша повесть?
– «Тоска»…
– «Тоска»?.. Какое странное название… Тоска по ком-нибудь?
– Об этаких пустяках не стоит писать! – усмехнулся Невзгодин. – Я люблю, ты любишь, он любит… Вариации на тему об Адаме и Еве… Скучно!
Маргарите Васильевне почему-то неприятен был этот шутливый тон.
«Как он скоро излечился от своей любви. А как тогда говорил!» – пронеслось у нее в голове.
– Так, значит, в вашей повести тоска по чем-нибудь?
– Да… Вот скоро прочтете… Обещали в январе напечатать.
– А раньше… У вас нет разве копии с оригинала?
– Есть. Я несколько раз переписывал рукопись.
– Так прочитайте, пожалуйста. Мне очень интересно будет прослушать.
– Извольте… Только, надеюсь, вы не устроите литературного вечера?
– Я буду единственной слушательницей. Ну, а еще что было за эти два года?
– Я женился.
– Вы? – удивленно спросила Маргарита Васильевна и, казалось, не была довольна этим известием.
– Родить детей ума кому недоставало? – засмеялся Невзгодин. – Впрочем, у меня нет их.
– Когда же вы женились?
– Год тому назад…
– И жена с вами приехала?
– Нет, осталась за границей. Мы через шесть месяцев после свадьбы разошлись с ней!
– И вы так спокойно об этом говорите?
– Недостаточно радуюсь, вы думаете, Маргарита Васильевна, что впредь не так-то легко могу повторить эту глупость?..
– Зачем же вы тогда женились?
– Зачем люди, и в особенности русские, иногда совершают необъяснимые никакой логикой поступки?.. Мне думается, что я женился по той же причине, по которой покучивал… Хотел переменить положение… посмотреть, что из этого выйдет… Ну, и не вышло ничего, кроме отчаянной и еще большей скуки жить с человеком, с которым у вас так же мало общего, как с китайцем…
– Вы разве раньше этого не видели? Или настолько влюбились, что были ослеплены? Она, верно, француженка? – допрашивала Маргарита Васильевна с жадным любопытством человека, положение которого отчасти напоминает положение другого.
– Чистейшая русская и даже москвичка. По правде говоря, я даже не был настолько влюблен, чтобы быть в ошалелом состоянии. И не скрывал этого. Да и она, кажется, была в таком же точно положении и вышла за меня больше для удобства иметь мужа и не жить одной в меблированных комнатах… Ну, и притом вдова, тридцать лет… Учится медицине, оканчивает курс и скоро приедет сюда. Очень дельная и по-своему неглупая женщина… Наверное, сделает карьеру и будет иметь хорошую практику.
– И хороша?
– Очень… Знаете ли, тип римской матроны, строгой и несколько величественной, гордой своими добродетелями, с предрассудками, прямолинейностью и некоторой скаредностью дамы купеческой закваски и горячим темпераментом долго вдовевшей здоровой особы. Неспокойная богема по натуре, как я, и такая непреклонная, строгая поклонница умеренности, аккуратности и накопления богатств по сантимам. Что получилось в результате от такого соединения? Месяц-другой скотоподобного счастья, и затем взаимная неприязнь друг к другу… ряд раздраженных колкостей и насмешек – с одной стороны, и строгих, принципиальных и методичных нотаций – с другой, с прибавкой подчас обвинений ревнивого характера, если я не был в нашей квартирке в одиннадцать часов вечера… А я, признаться, редко приходил к сроку… Ну, и в один прекрасный день за утренним кофе мы откровенно сознались, что оба сделали глупость и только мешаем друг другу готовиться к экзаменам, и порешили разойтись в ближайшее воскресенье, когда жена могла не идти в клинику. Разошлись мы по-хорошему, без сцен и без упреков, – словом, без всяких драматических осложнений… Напротив. Она простерла свою внимательность до того, что сама уложила мое белье и платье, предоставив моему попечению одни только книги и взяв с меня слово принять вину на себя, если она захочет повторить глупость, то есть выйти опять замуж, «но, конечно, за более основательного человека», – любезным тоном прибавила она. С тех пор мы и не видались. Ну, вот я и кончил свою одиссею, стараясь не особенно злоупотреблять вашим вниманием. Позволите закурить?
– Пожалуйста…
– Ну, а теперь мой черед, Маргарита Васильевна, допросить вас. Позволите?
– Позволю.
– Вам как живется? Я слышал, недурно?..
– И не особенно хорошо! – произнесла молодая женщина.
Невзгодин взглянул на Маргариту Васильевну и заметил что-то сурово-страдальческое в ее лице.
«Видно, раскусила своего благоверного», – подумал он и, осведомившись из любезности об его здоровье, продолжал:
– Только сытым коровам нынче хорошо живется, Маргарита Васильевна, а людям, да еще таким требовательным, как вы, трудно угодить… Ищете по-прежнему оригинальных людей? Много работаете? – деликатно перешел он на другую тему.
– Бросила искать. Их так мало среди моих знакомых. Кое-что перевожу… Читаю.
– Бываете в обществе?
– Бываю, но редко… Мало интересного… Дома спокойнее, хоть и в одиночестве.
– А Николай Сергеич?
– Он редко по вечерам дома. Заседания, комиссии… Я более одна.
– Значит, набили вам оскомину московские фиксы, Маргарита Васильевна?
– И как еще.
– Видно, они такие же, что и прежде! Чай с печеньем, невозможная толпа приглашенных в маленьких комнатах, какой-нибудь приезжий «гость» в качестве гвоздя, изредка певец или певица для разнообразия, сплетни и самые оптимистические административные слухи и, наконец, объединяющий ужин и за ним обязательно речи, и иногда длинные, черт возьми, речи, и всегда с гражданским подходом… Сперва тост за «гостя», который… и так далее, потом за «честного представителя науки», который… и так далее, за «мастера слова», за «жреца искусства» – одним словом, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Иван Петрович великий человек и Петр Иваныч тоже великий человек, и, чтоб никому не было обидно, всем по тосту и по «великому человеку» белым или крымским вином… Знаю я эти фиксы… Узнаю свою милую Москву… Любит она таки поболтать и покушать…
– Эта болтовня с цивической [4] окраской и противна…
– Отчего?.. Мне так она прежде нравилась. По крайней мере, люди приучаются говорить.
Невзгодин стал прощаться.
– И то вместо минутки час просидел, а мне еще надо в одно место.
– Ну, не удерживаю… Приезжайте опять, да поскорей… вечером как-нибудь. Мне еще надо обо многом с вами переговорить… Я тут одно дело затеваю… И вообще, надеюсь, мы, как старые друзья, будем часто видеться.
– Я бы не прочь, да боюсь, Маргарита Васильевна.
– Чего?
– Как бы старое не вернулось. Рецидивы, знаете ли, бывают при лихорадках! – шутливо промолвил Невзгодин.
– И как вам не надоест всегда шутить, Василий Васильич… Зачем вы этот вздор говорите?.. Кокетничаете?.. Так вы и без кокетства милый старый приятель, которого я всегда рада видеть… Что было, то не повторится… Так навещайте… С вами как-то приятно говорить.
– За то, что речей не говорю?
– И за это, а главное – за то, что вы не топорщитесь… не играете роли. Такой, как есть.
– Один из беспутнейших россиян, как вы прежде меня называли. Помните?
– Мало ли, что я прежде говорила… Вот вы беспутный, а работали-таки много… в Париже.
– И женился даже. Ну, до свиданья… Когда к вам можно?
– Да хоть завтра вечером.
– Не могу, я на юбилее Косицкого. Хочу всю Москву видеть. Да и юбиляра стоит почтить – премилый человек! А вы разве не собираетесь? Поедемте, Маргарита Васильевна. Я заеду за вами. Идет?
Она согласилась, но просила не заезжать. Она приедет с мужем.
– А за обедом сидеть будем рядом, Василий Васильевич. Займите места.
Невзгодин еще раз пожал руку хозяйке и откланялся.
Дорогой, плетясь на санях, Невзгодин думал о Маргарите Васильевне.
Он находил, что она очень похорошела с тех пор, как вышла замуж, и стала еще обворожительнее, как женщина. Но думал он об этом совсем объективно. Красота Маргариты Васильевны уж не влекла к себе, как прежде, когда он безумствовал от любви. Теперь он может быть с ней таким же приятелем, каким был на холере, оставаясь совсем равнодушным к ее женским чарам. Она славный человек, и с ней нескучно и без ухаживания, что большая редкость. Он непременно будет ее навещать, и часто.
«Да, видно, любовь в самом деле не повторяется!» – думал Невзгодин. А как он ее тогда любил! Целых два года не мог отделаться от этой любви, и вот теперь совсем не жалеет, что она ему отказала. Жаль только бедняжку, она несчастлива, конечно, с Заречным.
И Невзгодин удивлялся тому, что Маргарита Васильевна живет с человеком, которого, очевидно, не любит и не уважает и все-таки остается его женой. Видно, в самом деле, даже и в самых порядочных женщинах животное дает-таки себя знать, и они прощают такому красавцу, как Заречный, то, что не простили бы самому гениальному человеку, будь он дурным мужем.
Это возмущало Невзгодина, и он обвинял Маргариту Васильевну за то, что она не бросает мужа.
– Это свинство! – проговорил вдруг вслух, охваченный негодованием, Невзгодин. – Свинство! – повторил он.
– Что, барин? – спросил его извозчик.
– Поезжай, ради бога, скорей! – отвечал Невзгодин.