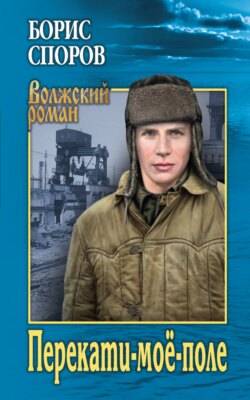© Споров Б.Ф., 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
После войны
(Год в деревне)
Дорога
Когда отец в 1945 году приехал из госпиталя в Актюбинск, то спросил нас с Митей:
– Куда вас отвезти: в Киргизию (там он работал до войны) или на Волгу (на свою родину)?
– На Волгу, – решили мы, потому что нам надоел песок на зубах и мелкая пересыхающая речушка: мы станем ловить рыбу на Волге, и тогда у нас будет еда.
И отец согласился:
– Мне туда и не надо бы, но вас я на Волгу отвезу…
И отвез.
Здесь, на Волге, немцев во время войны не было, но люди и после войны дышали с трудом. Кто-то задыхался от утрат, кто-то от физического изнурения; мы с братом и мама все еще задыхались от затяжного голода, отец – от военной усталости… В родном его городке, маленьком и неуютном, работы для него не нашлось. Работу предложили в деревне, в Смольках. Я не мог себе даже представить, как можно жить в деревне, если там и всего-то несколько десятков домов, нет ни магазинов, ни карточек, ни городского рынка. Совсем будет нечего есть!
– Там у каждого свое продовольствие, без своего в деревне нельзя, – хмуро пояснил отец. – В деревне так: что потопаешь, то и полопаешь.
Но я ничего не понял – не мог понять…
Отец уже несколько дней жил в деревне, когда и мы отправились к нему – пешком, двенадцать верст. И еще не раз ходил я по той дороге, но первое путешествие неповторимо запало в душу, так что и слов нет.
Стоило лишь свернуть с булыжного большака на проселок, городок как будто провалился за спиной, а впереди открылось такое восторженное приволье, что и дыхание перехватило. Справа простиралось хлебное поле с тяжелым обвисшим колосом – вплоть до мелкой речушки с непонятным названием Сундовик. За мостом на взгорке сказочно рисовался светлый смешанный лес. А слева, вдалеке, – яблоневый совхозный сад и огороды вплоть до нашей дороги, – и мы с опаской срывали огурцы и грызли их острыми изголодавшимися зубами.
В лесу проселочная дорога была крепко стянута мозолистыми корнями деревьев. Мама с братом шли по тропке на обочине, а я, как непутевый фокстерьер, убегал то в одну, то в другую сторону, искал и находил грибы – и весь содрогался от восторга, хотя мы и не могли определить: съедобные грибы или нет.
– Ты не рыскай, побереги силы – впереди еще десять километров, – тщетно охолаживала мама.
Знала бы она, какие концы отмахивали мы с Юрой в походах за рыбой по пескам и колючкам! Но здесь – я был опьянен. Какие деревья, какие родники вдоль дороги – обложенные голышами, с песчаным дном и с узелками пульсирующей воды, студеной и вкусной! И всякий раз я нырял лицом в воду и радостно смеялся… А потом громадная поляна с домом лесника в глубине и стога золотистого сена. Три сторожевых собаки лениво ухали в нашу сторону…
В лесном овраге было сыро и хмуро. На дороге в беспорядке валялись жерди и ветки деревьев. Тянуло ознобом. Робея, я подумал: «Сейчас и выскочит волк или медведь!» – и поднял суковатую палку, чтобы отбиваться.
Когда же мы вышли из леса на чечевичное поле, то как-то сразу и навалилась усталость: ноги отяжелели, во рту появилась горечь. Впереди едва вынырнули крыши домов и возвышалась церковь с колокольней – Смольки.
Мы представляли собой, наверно, печальное зрелище. Узел с пожитками давно уже оттянул маме руки, и она то и дело перебрасывала ношу с одного плеча на другое; брат хромал следом с кошелкой в одной руке и с клюшкой – в другой; и я с хозяйственной тяжелой сумкой – безнадежно усталые и неприкаянные.
Занятые собой, даже не углядели, откуда они взялись – подростки моего возраста, лишь покрупнее, помордастее. Босые, рубахи навыпуск, на одном ветхая кепочка с висячим козырьком. Не отошли мы и двух десятков шагов, как под ноги нам шлепнулись сухие комья земли. Мама опустила ношу, взяла у брата клюку и пошла на задир – и все это молча с обеих сторон. Подростки беззаботно развернулись и пошли в глубь чечевичного поля.
Не ходи ко мне в деревню,
Не ходи ко мне в село.
На деревне бабы лают
И в селе не весело! —
донеслось до наших ушей.
От деревни повеяло холодом.
Остатками воды из бутылки мама ополоснула себе лицо, головным платком утерлась, поправила волосы – и мы пошли, все ближе и ближе к чужому очагу.
Деревня залегала на взгорке, дворов сорок в два порядка; за домами спуск к реке Суре. Налево деревня упиралась в Лисий овраг. Всего лишь одна крыша под железом да одна под тесом, остальные под соломой впритык с соломенными дворами.
Дорога вела между скотными постройками и гумном с одной стороны и церковью с кладбищем с другой. Церковь с заколоченными окнами, заросшая со всех сторон кустарником и бурьяном, и даже с выступа колокольни падала хилая березка. Ограды не было, но кресты на старом кладбище еще стояли.
Редкие деревья вдоль улицы склонялись сиротливо над домами – и никого не видно, деревня казалась затаившейся или нежилой.
В кирпичном доме под железом с одной стороны размещался медпункт, с другой – Правление колхоза «Путь Ленина». Дом этот когда-то принадлежал церкви.
Дом солдатки
«От Правления четвертый дом направо», – наказывал отец.
Дом широкий, на пять лицевых окон, но уже завалившийся, с оплывшей завалинкой. На крыльцо вышла женщина с плоским, как будто раздавленным лицом, глубоко пожилая, хотя лет ей, оказалось, столько же, как и нашей маме. Из-за ее спины выглядывал белобрысый мальчик лет семи.
– Вы Настя? – спросила мама.
– Она самая и есть, Настя. Заходьте сюда. – Нет, Настя не улыбнулась, губы ее бесформенные горько изогнулись. – Заходьте, – повторила она и пошла в избу – звучно заиграли хлябкие половицы на мосту[1].
Первый деревенский дом, в который я вошел в сорок пятом году, и до сих пор он представляется мне скелетом дореволюционного существа: могучий сруб, полы, потолок, тесовые отгородки – все как будто до кости оголенное, гладкое, отскобленное и вымытое, отсвечивало желтизной. Шторка на печи, шторки на окнах, голый стол в углу передней, две скамьи и несколько табуреток, да над столом иконы с подвесной лампадкой – вот и все. В широкой горнице на три окна опять же голый стол с самоваром, скамья и широкая деревянная кровать, покрытая одеялом из лоскутков.
Хозяйка вытянула с печи вытертое ватное одеяло, пошлепывая по полу босыми ногами, прошла в горницу, разбросила одеяло на пол и сказала:
– Вода на мосту – умойтесь с дороги да отдохните, – сказала и пошла, и руки ее обреченно обвисли.
Нам суждено было прожить в этом доме всего лишь несколько дней. Зато окунулись мы как будто в собственный мир: хозяин дома – муж и отец – уже в 1941 году погиб на фронте, а в 1945-м и старшего сына мобилизовали, так что солдатка Настя осталась с дочерью Валей и сыном Гришей. Тихий унылый мальчик с печальными глазами, Гриша точно привязан был к матери.
Вскоре Настя накинула на плечи мужской пиджак и ушла на колхозную работу. Шла она по-мужицки твердо и отрешенно, а следом за ней семенил Гриша.
Далеко за полдень из леса пришла Валя, рослая, крепкая девчонка. Мне она показалась настоящей невестой.
– Помоги, – сказала мне Валя, освобождаясь от узкого мешка с орехами, перекинутого через плечо, как солдатская скатка.
На мосту она развязала мешок, вытряхнула орехи на пол, разгребла кучу рукой. Как будто колючки топорщились грозди орехов.
– Вот тебе за помощь, – и прихватила ладонями большую горку орехов. – Иди лузгай. – И подошла к рукомойнику, чтобы смыть усталость и пот.
Именно тогда, в тот день, в тот час и минуту, с гроздьями лещины в обнимку, я не только почувствовал, я пережил, перетерпел, как собственную боль, сострадание постороннему человеку – вот так и воспринял вместе с Валей этот неудобный мешок на шее, эту набитую в уголки рта спекшуюся пыль, шалую смуту в глазах и застрявший в волосах лесной мусор. Я перечувствовал, как ей и мне сдавило грудь, затем горло, как оцепенели шейные позвонки, а ноги онемели от усталости…
Валя шумно расплескала воду себе в лицо, утерлась вафельным полотенчиком, расчесала гребенкой волосы, тряхнула головой – и оба мы засмеялись почти весело.
– Ты что на меня уставился, не сахарная?! Иди лузгай орехи – завтра вместе и пойдем в лес, возьмем и тебя.
От восторга я едва не уронил на пол орехи, но не уронил – закричал во все горло:
– Ура!
Закричать-то закричал, а в душе своей вновь почувствовал, что там, внутри, что-то во мне перевернулось. Правда, тогда я еще не догадывался, что это – на всю жизнь. Но именно с тех пор я постоянно сопереживаю и радости и беды вместе с людьми, с которыми соприкасаюсь, о которых думаю.
За орехами
Утром снарядились за орехами: Валя, ее товарки-однолетки, Зина и Шура, и я, с нескладной котомкой на плече. Я вознамерился идти босой, но тотчас же получил внушение от Вали:
– Ты, летошний жених, кто же в лес босиком ходит? Надень какие-нито обутки: тамо-тко и сучки острые, и шишка сосновая, и на гада ненароком наступить можно… И голову, голову покрой.
Я и шел за орехами, как за яблоками: залез на яблоню, потряс – и загружайся по силам. Только и есть, что нести. Донесу, думал я, а ходить не привыкать.
Мне, хотя и должно было скоро исполниться одиннадцать лет, на вид можно было дать и меньше: истощенный маломерок. И моим благодетельницам-товаркам было невдомек, что я, мужичок лихолетья и улицы, и понять все могу, и рассудить по-взрослому.
Они шли размашисто и ходко и без умолка говорили, будто и времени не было наговориться. Я забегал вперед то слева, то справа, заглядывал им в лица, но они меня как будто и не замечали. «Во, зануды», – ворчал я и все прислушивался к их разговору.
Зина, под стать Вале, рослая и жилистая невеста. Она была бы даже красивая, только глубокий шрам уродовал ей нижнюю губу. Зато коса у нее была золотистая, до пояса. И рассуждала Зина раздумчивее и глубже. А Шура и пониже товарок, и пополнее. Она, похоже, уродилась хохотушкой, потому и в разговоре шутейски ахала, покачивала головой да вклинивала смешные словечки.
Как только вышли за картофельные усады, так и повеяло простором и лесом. Справа от тока по взгорку до самого леса рядками тянулась пропаханная и уже пожухлая картошка. Мы огибали поле вдоль Лисьего оврага по хозяйственной конной дороге. Я уже знал – за оврагом по опушке леса и начинается орешник, но до сплошного орешника надо пройти еще километр…
– Не бай-ка, дома теперь и завалящего не сыщется – одни мальчишки.
– Знамо дело, так. Наши-то залетки на фронтах полегли, – согласилась Зина, – а кои остались – из армии не возвернутся. Вот и твой братушка усватает городскую. И ждать нечего.
«О женихах говорят! – сообразил я, и сердчишко мое так и встрепенулось. – Да ведь это они так плачут!..» Вот и я заплакал в своей душе. Знал я, дома говорили об этом: паспортов в деревне не выдают, а самовольно уйдешь в город – в тюрьму посадят… И я легко представил жизнь моих товарок: вот исполнится им по шестнадцать лет – и начнут их наряжать на работу в колхозе, через суд, а заставят работать. А женихов в деревне так и не будет, городские не придут сватать. Исполнится им и по двадцать лет, и по двадцать пять, и по тридцать – вот и старухи. Так они и станут ходить вместе и на трудодни, и в лес за орехами – и плакать…
Я забежал подальше вперед – и обернулся: навстречу шли старушки и о чем-то шамкали ссохшимися ртами.
– Тогдашеньки и припоем: «Старушка моя, у нас залеточка один: ты гуляешь, я ревную – давай его продадим!»
Я тряхнул головой, закрыл-открыл глаза – и наваждение исчезло: товарки мои весело смеялись.
– А вот наш женишок! – вскрикнула Валя. – Сейчас мы его и начнем целовать! – и побежала ко мне.
Ужас охватил меня, я действительно представил, что они по очереди меня целуют, и когда доходит черед Зины, она прикладывается своим шрамом! Я развернулся и дал во всю прыть теку! А за спиной оглушал топот ног и веселый смех…
Оказалось, орехи собирать непросто. Прежде всего, надо их увидеть, часто зеленые грозди сливаются с остроконечными листьями. Упругий орешник надо пригнуть и только затем обрывать орехи и отправлять их в проем мешка на плече. И всюду кустарник, ямины – не пролезешь! Я обрывал орехи подряд, замечая между тем, что товарки больше грызут орехи, чем собирают впрок. Но уже скоро Валя сказала:
– Ты, милый, не обдирай все подряд. Пробуй – не то принесешь пустых.
«Как это, – думал я, – каждую гроздь пробовать?» – Не понял, что снимать пробу надо с ветки, с куста: если один-два ореха пустые или молочные, то и оставь куст – иди к другому.
Сначала заболела шея, а затем в глазах зарябило – вскоре и голова закружилась… Вот почему глаза становятся шалые, а рот воспаленный от пробы орехов.
В деревню возвращались молча – усталые. Состоялся лишь один короткий разговор:
– Еще разочка три схожу – и хватит, малый мешок и по завязку.
– И я тоже, – согласилась Шура.
Зина молчала, шла напряженная, со своей думой наедине.
– Что, уже и на зиму хватит? – по-хозяйски рассудил я.
В ответ Валя усмехнулась:
– Да не на зиму, а в счет налога, вместо шерсти или яиц.
Для меня это осталось загадкой, но я согласно кивнул, делая вид, что понял.
Мы уже шли по задворкам, когда на краю усадов я увидел и узнал обидчика, одного из тех, которые швырнули в нас комья земли. При нем была коса.
Шаркнув лопаткой по жалу косы, он поморщился и выкрикнул:
– Эй, парень!
Я не понял, кому это он.
– Чего крутишь головешкой? Ты и есть парень, коли с девками!
Я обомлел от его насмешки. И не будь у него в руках косы, непременно ринулся бы на него с кулаками. Но коса – как меч обоюдоострый. Только взмах – напополам и перехватит. «Погоди, – утешил я себя, – вот встречу без косы!» – И на душе вдруг стало легко.
– Как, Федюнчик, все косишь?
– Кошу…
– А курочек пошшупал? – и Шура состроила ему рожицу. Федя в ответ так и расплылся в улыбке:
– Пошшупал… Не хошь ли – и тебя пошшупаю?
Шура захихикала:
– Экий жеребчик…
Мой старший брат
Моему старшему брату Мите уже исполнилось 14 лет. И до сих пор был он для меня просто брат, со стороны я не видел его и не знал. Но в тот час, когда я вошел в горницу с орехами, я увидел брата иначе – на всю жизнь.
Митя сидел на табуретке за столом и читал какую-то книгу. Понятно – какую-то, ведь у нас в семье не было ни одной книги. Старые учебники бросили при переезде, а иных книг и не бывало. Митя поднял на меня взгляд и улыбнулся с неподдельным восторгом:
– Орехи?! Набрал!.. Теперь ты знаешь – где, сходим вдвоем!
В этот самый момент мне стало до слез стыдно, что я за годы войны не раз дрался с ним, порой не понимая даже из-за чего.
Я передал ему орехи – все! – и, наверное, с восторгом сказал:
– Вот тебе – грызи! Я нагрызся. Пойду умываться.
И пока умывался – за одну минуточку! – пережил всю братнину судьбу… По словам мамы, лет шести, что ли, в детском саду Митя ушибся на качелях. Долго синяк на бедре не проходил. А когда обратились к врачу, то и оказалось – у него загнила кость, вот и развился так называемый туберкулез кости. Для него и для мамы начались бесконечные мытарства. Ему свело ногу коленкой к груди, нога не разгибалась. В восемь и девять лет Мите сделали две операции под наркозом, с пересадкой кости. И это в другом городе, так что и не навестишь. Он и учился в больнице. И вся его детская энергия уходила на недуг и на умственные занятия: он быстро и много читал, а уж рисовал, мне казалось, как художник! Умел что-нибудь смастерить – выдумывал, вырезал, клеил… Я завидовал ему, может быть, поэтому и дрался с ним… А потом он лежал в эвакуированной из Харькова санаторной больнице – у нас в городе. Это спасло его от голода. Правая нога у него стала короче сантиметра на четыре, и в бедре она не гнулась. И это отстраняло Митю от мальчишеской жизни, стесняло и угнетало. Я не понимал этого. А вот тогда вдруг и понял. И наперед увидел – как же тяжело ему будет в жизни.
Умывшись, я вошел в горницу, уже и сам стесненный, и предложил:
– Митя, пойдем на речку, искупаемся.
– Да мы и плавать не умеем. – Митя разгрыз очередной орех и сплюнул его в ладонь. – Вкусные. Только неспелых и гнилых много. – И вдруг охотно согласился: – А что, пойдем, может, плавать научимся.
И мы пошли.
Горькая ягода
Уже с крыльца мы увидели, что перед домом напротив что-то затевается. Коноводили мои товарки, там же увивались несколько мальчишек помельче меня… Перед окнами дома плодоносила громадная ветвистая рябина. Я уже слышал от взрослых, что зима впереди холодная – рябина очень уж народилась. Но зиме еще предстояло быть, а вот ягод на дереве было так много, что казалось – и листьев нет: сплошной желто-красный шатер.
– Идите сюда, идите, женишки! – окликнула нас Валя.
Уже принесена была высокая лестница. Здесь же двуручные корзины-плетюхи – одна в другой. Под деревом на траве разостлан кусок старого брезента.
– Урожай собирать будем, – сказала Зина и протянула Мите кисть крупной яркой рябины. Митя сорвал и бросил в рот несколько ягод – и сморщился:
– Наверное, рано еще – горькая, – оценил он.
– Рано-то рано, да душа рада: сушить годится, не то ведь помощники из леса нагрянут – все соберут, ничего не оставят… Сережа, ты по деревьям лазать умеешь? Да не свались!
Что-что, а по деревьям лазить я умел. Митя подсобил мне под согнутую ногу – и я мгновенно уже сидел на первой ветке.
Товарки подняли лестницу. Мальчишки кроме Мити полезли следом за мной. И уже скоро на брезент шлепнулись первые тяжелые кисти ягод.
– Ветки-то зазря не ломайте, да сами не обвалитесь на беду, – остерегла с крыльца старуха, хозяйка дома, Шурина бабушка. Но ее никто не слушал.
А кисти падали и падали – янтарными на солнце брызгами отскакивали от брезента ягоды, и дерево как будто вздыхало, расправляя затекшие ветви… Оказалось, и ягоды оборвать непросто: на дерево-то взлезешь, а до ягод на тонких ветвях не дотянешься. Удобнее ветки над головой притягивать, но ведь и держаться надо – не то сверзишься! Зато товарки тоже приспособились: две подпирают лестницу, а третья на горе – и тут уж раздолье, кисти одна к одной.
И не заметили, как солнышко уже над Сурой зависло. Уже и с наряда колхозницы пошли. Наконец и мы спешились: глянули вверх на свою работу – и жалко стало красавицу рябину. Как же мы ее изуродовали! Была барынька в сарафане – поободрали, пообломали, повыщипали. А ведь и половину не обобрали.
По плетюхе с горой уволокли Вале и Зине, две плетюхи без горы – Шуре. Взялись за россыпь.
– А куда же ее так много? – полюбопытствовал Митя.
Валя откинула волосы со лба и как-то безнадежно вздохнула.
– Усохнет – и немного. Еще и в лес пойдем.
– И на всю зиму хватит? – Меня тревожила зима.
– Да не себе это – в счет налога.
– Рябиновую водку настаивать будут на заводе, – хмуро пояснила Зина.
И вновь непонятное для нас чудовище – налог! Какой налог? За что?
Потом я увидел, как с кистей обрывали ягоды на противни и ставили в русскую печь – сушиться. И тогда из головы не уходил – как жестокий приговор – налог!
Как мыли избу
Две оказии в один день! С утра засуетились мои товарки: избу мыть! С ними и еще две шабёрки[2] постарше. Оказалось, когда я еще спал, они уже нагрели в бане воды, приготовили щёлок[3] – и теперь суматошничали с ведрами, с тряпками и голиками[4]. Я бегал следом за Валей и надоедливо допытывался:
– Валь, Валя, а как это мыть?..
– Ну, летошний! Мыть водой со щелоком, а пол с дресвой…[5]
Для меня это были очередные загадки, и я с негодованием, правда, негодование было притворное, закричал:
– Ты мне скажи – и с улицы мыть будете?! Каждую неделю, что ли, моете?!
Она уставилась на меня недоуменно, дважды хмыкнула, но даже не засмеялась – поняла, что для меня все в диковинку, как если бы в городе начали мылить булыжные мостовые. И Валя коротко пояснила… Изб, оклеенных обоями, в Смольках нет. Редко у кого крашеные полы. Поэтому дважды в год – к празднику праздников, к Пасхе, и к престольному празднику – избы моют теплой водой со щелоком. До войны и с мылом мыли, но после войны мыла в деревне нет, только для рук хозяйственное, вот и заваривают для стирок и для мытья изб щелок. Кстати, и головы щелоком мыли. Для этого и золу хранили специально… Сговаривались, как теперь, пять товарок и мыли поочередно пять изб – одну избу в день. И никакой тут хитрости. А снаружи дом и дождем ополоснет.
Я восторгался, как ловко у них получалось. Разобрали деревянную тяжелую кровать, вынесли на лужайку, ошпарили кипятком, чтобы клопов не завелось, протерли тряпкой и на солнышко выставили. А в горнице уже два стола приготовили: на одном ведро щелоку, на другом простая вода – и почли потолок драить тряпками. Одна щелоком, вторая водой ополаскивает и тотчас насухо протирает. А три других товарки за окна взялись – каждой по окну. А после окон, как потолок ряд пройдут, тотчас и за стену возьмутся. Скок да скок – то со стула, то с табуретки. Вода плещется, все босые, все болтливые, и только Зина хмурится. Мне ее жаль, и я ей первой приношу щелока из летней бани. Глянет она на меня – и улыбнется, а мне радостно. Я знаю, что она с мамой вдвоем остались – и отец, и брат на войне погибли, а сестра старшая в далекое село взамуж ушла… Ловки товарки, споро трудятся. К полудню уже и за пол взялись. Дресва у них заранее приготовлена. Ополоснули весь пол теплой водой, посеяли густо дресвой – в обутке ногой на голик – и в пять голиков! Так вдоль половиц рядами и проходят. А когда ототрут дресвой, опять же теплой водой смывают и протирают насухо.
В полдень горницу завершили – чистота!
А когда развели самое болото в передней, на пороге появились отец с мамой: новая оказия.
– Где Митька, найди Митьку, – сказал отец, – в другой дом пойдем. – Он скупо улыбнулся: – Спасибо этому дому – пойдем к другому.
Мои товарки смотрели растерянно, босоногие, с тряпками в руках.
А мама уже собирала на мосту наши пожитки. Отцов чемодан и наша мешочная поклажа – вот и все.
Где Митя – я знал: за летней баней читает какую-то книгу… Вот и все в сборе: взяли каждый по ноше, попрощались – и пошли в другой конец деревни, ближе к Лисьему оврагу. Это не переезд из дома в дом, а переход. Так вот мы и перешли в небольшой красивый домик с резными облупившимися наличниками, с высокой крапивой сбоку крыльца и с горой соломы во дворе.
Узенькая передняя с лазом на русскую печь и с закутком у печи. Направо дверной проем – и горенка на два окна. И даже икона в красном углу и керосиновая лампа на столе.
В этом доме мы и прожили весь тот год.
- Последний рейс «Фултона»
- Проклятый род
- Караван в Хиву
- Демидовский бунт
- Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье
- Волга-матушка река. Книга 1. Удар
- Над Самарой звонят колокола
- Ивушка неплакучая
- Сарматы. Рать порубежная
- Казаки
- Гул
- Отчий дом
- Вишневый омут
- Золотой Трон
- Самарская вольница
- Разбитое зеркало (сборник)
- Беглая княжна Мышецкая
- Христоверы
- Секрет опричника; Преступление в слободе
- Исчезнувшее свидетельство
- Зверь из бездны
- Живица. Исход
- Живица: Жизнь без праздников; Колодец
- Ушедшие в никуда
- Когда куковала кукушка
- Ордынский волк. Самаркандский лев
- Плаха да колокола
- Дубовый дым
- Перекати-моё-поле
- Агнцы Божьи
- Жил отважный генерал
- Пиковая Дама – Червонный Валет
- Поймать тишину