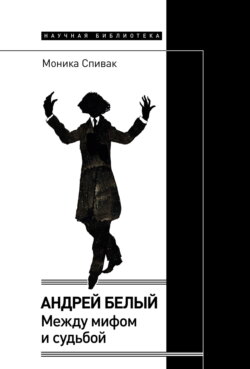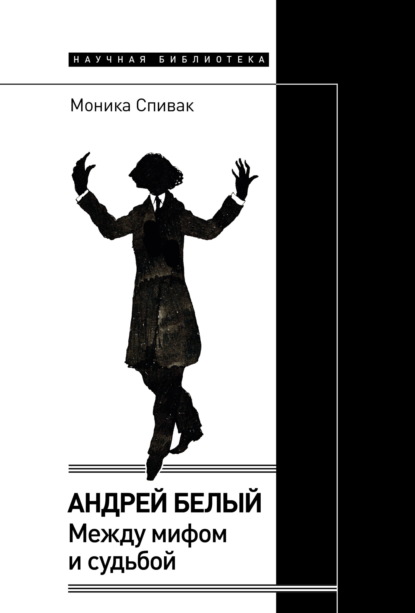При подготовке издания использовались иллюстрации из следующих собраний:
© Р. Герра (Франция), илл., 2023
© Государственный музей А. С. Пушкина (ГМП), илл., 2023
© Государственный музей истории русской литературы имени В. И. Даля (ГЛМ), илл., 2023
© Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, илл., 2023
© Российский архив литературы и искусства (РГАЛИ), илл., 2023
© Государственная Третьяковская галерея (Москва), 2023
© Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой (Махачкала), 2023
© Российская государственная библиотека (РГБ), илл., 2023
© Российская национальная библиотека (РНБ), илл., 2023
© Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung (Dornach), илл., 2023
Art Institute of Chicago,
Galleria degli Uffizi (Флоренция),
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Musée du Louvre (Париж),
National Gallery of Art (Вашингтон),
National Gallery of Victoria (Мельбурн),
Schloss Charlottenburg (Берлин).
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В книге рассматривается мифотворчество Андрея Белого, исследуются его автобиографические практики и стратегии, начиная с первого выступления на литературной сцене (начало 1900‐х) и заканчивая поздними попытками сохранить при советской власти свою жизнь, лицо, место в литературе. Эта книга в какой-то степени продолжает мою прошлую монографию «Андрей Белый – мистик и советский писатель» (М.: РГГУ, 2006; второе издание – 2020). Вместе они составляют своего рода дилогию.
Меня по-прежнему интересует Белый в его духовных взлетах и мелких слабостях, Белый – маститый писатель и Белый – смешной, часто нелепый человек, Белый-символист и Белый-антропософ, Белый, начинающий литературную карьеру в эпоху Серебряного века, и «поздний» Белый, завершающий жизненный путь в эпоху сталинизма. Он предстает здесь и как лидер московских младосимволистов, радикально изменивший и приспособивший к веянию времени миф о золотом руне, и как мистик, пытающийся внедрить в общественное сознание идеи своего учителя Р. Штейнера; как идеолог группы «Скифы» и издательства «Алконост»; как адепт высокодуховной эвритмии и любитель разнузданного фокстрота.
Анализ творчества, жизнетворчества и мифотворчества Белого базируется как на хрестоматийно известных текстах, так и на архивных материалах. Исследуется обширный корпус рисунков Белого. Привлекается широкий исторический и литературный контекст. В поле зрения попадают А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Эллис, П. П. Перцов и многие-многие другие. Предпринимается попытка разобраться в «судьбоносных» конфликтах Белого: ссора с Ивановым-Разумником, разрыв отношений с Э. К. Метнером, бунт против западной антропософии, трагедия разрыва с женой Асей Тургеневой. Особое внимание уделено отражению и мифологизации образа Андрея Белого в сознании современников (М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам и др.).
В первой главе Андрей Белый выступает вождем и главным мифологом кружка «аргонавтов», ставшего в 1900‐е настоящей лабораторией для выработки символистского миропонимания, языка, терминологии. Однако древнегреческий миф о путешествии героев-аргонавтов за золотым руном был Белым существенно переосмыслен. «Аргонавты»-символисты восприняли миф о Язоне и его спутниках как солярный миф, их путешествие стало не плаванием, но полетом, а корабль «Арго» трансформировался в крылатый летательный аппарат. В книге выявляются неожиданные источники этого основного жизнетворческого мифа московских символистов. Так, оказывается, что он восходит не к книгам по древнегреческой истории и культуре, а к работам Ф. Ницше. Из Ницше, прежде всего из его «Веселой науки», перешло в лексикон символистов и само слово «аргонавты», и сопряженные с ним термины-символы. Обнаруживается, что образ Солнечного града, лежащий в основе аргонавтической утопии Белого и активно используемый им на протяжении всей жизни, восходит не к трактату Т. Кампанеллы «Civitas solis», а к статье о Кампанелле, написанной другом семьи, известным социологом М. М. Ковалевским и опубликованной в журнале «Вопросы философии и психологии». Также оказывается, что устойчивое выражение «дети Солнца», используемое Белым и Бальмонтом в стихотворных манифестах 1900‐х, перешло к ним из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского и «Семейного вопроса» В. В. Розанова. В главе прослеживается использование мифа об аргонавтах у предшественников, современников и последователей Белого: И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, В. Я. Брюсова, С. А. Соколова, А. А. Блока, Эллиса, О. Э. Мандельштама и др.
В трех следующих главах Белый предстает эзотерическим учеником основателя антропософии Рудольфа Штейнера.
Во второй главе рассматриваются взгляды Штейнера на евангельскую историю и их влияние на творчество Белого, особенно ценившего его лекции о Христе и визионерском «Пятом Евангелии». С опорой на христологию Штейнера выявляется эзотерический смысл, который писатель вкладывал в очень им любимое и многократно им цитировавшееся изречение апостола Павла (из Второго послания к коринфянам): «Письмо, написанное в сердцах наших».
В главе «Жесты оккультных угроз…» обнаруживается одна из базовых фобий Белого – боязнь, что его сглазят… Этот страх преследовал писателя на протяжении всей жизни и особенно обострился в Дорнахе, когда он серьезно занимался оккультной практикой и переживал глубокий личностный кризис. Из писем, мемуарной прозы и дневников следует, что к сфере «сглаза» Белый относил и трудности в творческой работе, и осложнения в отношениях с друзьями и возлюбленными. Однако чисто биографический страх «сглаза» писатель инкорпорировал в сложную систему представлений о мире как об арене борьбы оккультных сил зла с силами добра (стихи 1900‐х, автобиографическая проза, роман «Москва»). С этой точки зрения он рассматривал судьбу отдельного человека (прежде всего свою), судьбы России, Европы, человечества.
Четвертая глава («Вырастить в себе цветок нового Слова…») посвящена анализу выдвинутой Белым в 1917–1919 годах программы созидания новой культуры. Как известно, после возвращения из Дорнаха в Россию он вступил в литературную группу «Скифы», сформировавшуюся вокруг Иванова-Разумника, и опубликовал ряд произведений, претендующих на роль «скифских» манифестов. Сопоставление его прозы и публицистики того времени с интимными записями периода антропософского ученичества у Штейнера доказывает, что в основе провозглашенной им новой «теории слова» (напоминающей теорию формалистов) лежит личный оккультный опыт. Так, например, источником основного предложения Белого-теоретика о том, что в настоящий момент «нужен подвиг молчания», оказываются конкретные упражнения, практиковавшиеся антропософами-эзотериками, к числу которых принадлежал и Белый.
Попытки сделать рупором антропософских идей издательство «Алконост», выпустившее в послереволюционные годы большинство книг Блока и Белого, будут анализироваться в следующей, пятой главе. Однако проблематика ее значительно шире.
В связи с названием издательства рассматривается «бытование» райских птиц (Сирин, Алконост, Гамаюн) в народной культуре и в культуре русского модернизма (поэзия и изобразительное искусство). Особое значение придается мифотворчеству В. М. Васнецова, автора знаменитых полотен «Сирин и Алконост», «Гамаюн – птица вещая», прослеживается их влияние на иконографические и характерологические особенности «птицедев» в последующей традиции. В центре внимания – семантика заглавия издательства (почему именно «Алконост»?), символика издательской марки, разработанной Юрием Анненковым, и ее эволюция, история создания журнала «Записки мечтателей». В последнем разделе главы анализируются экзотические эскизы, предложенные Белым для обложки «Записок мечтателей», устанавливается их антропософский и визионерский характер. На первый, поверхностный взгляд, между всем известной обложкой «Записок мечтателей», нарисованной знаменитым художником А. Я. Головиным в стилистике модернизма, и эскизами Андрея Белого мало общего. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что все основные идеи Белого были использованы Головиным при создании своего художественного шедевра. В этой главе пересматривается давно сложившаяся концепция, согласно которой основную роль в «Алконосте» играл Блок. Получается, что не Блок, а Белый выступал в роли основного идеолога как самого издательства, так и выпускавшегося при издательстве журнала.
В шестой главе («Я был своим собственным кризисом…») рассматривается самый тяжелый период жизни писателя – берлинский (1921–1923). Именно тогда от Белого ушла жена Ася Тургенева, и эта личная трагедия определила и его мировосприятие, и эпатажное поведение, в деталях описанное многочисленными мемуаристами. Прежде всего им запомнился подвыпивший Белый, отчаянно выплясывающий фокстрот и другие модные танцы в берлинских кафе. Танец и эвритмия рассматриваются в книге как проявления, соответственно, плотского и духовного начал. Миф о «танцующем Белом», сложившийся в воспоминаниях потрясенных этим зрелищем очевидцев, сопоставляется с реалиями его берлинского танца.
В этой же главе рассказывается про отношения Белого с Михаилом Бауэром, немецким мистиком, главным эзотерическим учеником Штейнера. Он, как считал Белый, тайно покровительствовал ему и духовно поддерживал и в Дорнахе в 1915–1916 годы, и в Берлине, помогая справиться с кризисом в личной жизни и в отношении к западной антропософии. Публикуется пространное исповедальное письмо Белого Михаилу Бауэру (1922), в котором он с предельной откровенностью рассказывает про трагедию разрыва с женой и выстраивает концепцию «русского пути», осмысленного сквозь призму песенного цикла Ф. Шуберта «Зимнее странствие».
Завершает главу раздел, посвященный очерку Марины Цветаевой «Пленный дух». Именно на период берлинской эмиграции пришлось ее наиболее интенсивное общение с Белым. В центре внимания – сравнение Белого в очерке с персонажем повести Герберта Уэллса «Чудесное посещение». На это произведение английского писателя как на один из основных источников для конструирования образа Белого Цветаева прямо указывала: «Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто непристоен!». Однако это указание ранее исследователями игнорировалось.
В главе «Андрей Белый в Советской России» рассматриваются попытки писателя одновременно подстроиться под требования новой идеологии и сохранить верность прежним идеалам. По архивным материалам реконструируются выпавшие из поля зрения исследователей важные сюжеты из жизни Белого – истории его «поздних» взаимоотношений с близкими друзьями: с Э. К. Метнером (неудавшаяся попытка примирения) и с Ивановым-Разумником (окончательный разрыв отношений). Отношения Белого с издателем, критиком и искусствоведом П. П. Перцовым, также рассматривающиеся в этой главе, вообще ускользнули от внимания исследователей. До последнего времени считалось, что их общение закончилось в 1900‐е, однако, как выяснилось, оно возобновилось в середине 1920‐х, когда Белый поселился в подмосковном Кучине, а Перцов стал его частым гостем и собеседником. Тогда Белый работал над фундаментальным историософским трактатом «История становления самосознающей души», а Перцов – над «Пневматологией» («Диадологией»), не менее фундаментальным трудом, призванным объяснить основные принципы мироздания. Философский диалог двух символистов, вынужденных в условиях Советской России писать в стол свои итоговые сочинения, позволяет говорить как о творческом взаимовлиянии, так и о новой странице в истории русского символизма. В качестве приложения публикуется фрагмент из пространного послания Белого Перцову, в котором он «на пальцах», для непосвященных разъясняет ту антропософскую терминологию, без которой вообще невозможно понять его позднее творчество (например, физическое, эфирное, астральное тела, душа ощущающая, рассуждающая и самосознающая).
В этой главе также приоткрывается дверь в творческую лабораторию писателя: рассматривается миф об Андрее Белом – фанатичном собирателе коктебельских «камушков», сложившийся в 1924 году и распространяемый многочисленными свидетелями его «несерьезного» увлечения; показывается, как собирание «камушков» Белый превратил из сезонного хобби в творческий метод поздней прозы (роман «Москва»).
В следующей главе прослеживается история и незавидная судьба дневников Андрея Белого. Действительно, подлинных дневников сохранилось мало, большая их часть считается утраченной. При этом у Белого множество упоминаний о том, почему он в разное время обращался к ведению дневников разных типов (дневников интимных и творческих, дневников «внешней жизни» и жизни внутренней). Собранные воедино, эти сведения показывают, что Белый вел дневники большую часть жизни. Все они лежат в основе его произведений, причем как стилизованных под дневники, так и, на первый взгляд, не имеющих к дневникам прямого отношения.
Последняя глава – «Посмертная мифология и реальность в цикле О. Э. Мандельштама „Памяти Андрея Белого“». В ней предлагается новый взгляд на текстологию стихов Мандельштама (с привлечением неучтенных списков) и доказывается, что состав цикла должен быть расширен за счет тех стихотворений, которые Мандельштам планировал читать на вечерах памяти Белого (сейчас они входят в состав «Восьмистиший», а тогда, в 1934 году, назывались «Воспоминаниями», что следует понимать как навеянные воспоминаниями о Белом). Здесь же дается подробный реальный комментарий, проясняющий – с опорой на «фабулу похорон» и свидетельства мемуаристов – «темные» образы в стихах Мандельштама. Также выявляется актуальный идеологический подтекст цикла: полемика с негативными оценками личности и творчества Белого в статьях-предисловиях Л. Б. Каменева, оскорбивших писателя и возмутивших его друзей.
Завершается книга возвращением к аргонавтическому мифу Андрея Белого, использованному и переосмысленному Мандельштамом в стихах, написанных на его смерть.
Эта монография не появилась бы на свет без помощи моих друзей и коллег, которым я выражаю глубочайшую благодарность за советы, подсказки, ответы на мучившие меня вопросы и вообще за глобальную поддержку моего начинания: В. М. Введенская, А. В. Геворкян, Е. В. Глухова, О. И. Киянская, А. В. Лавров, С. М. Мисочник, Е. В. Наседкина, М. П. Одесский, А. Л. Соболев, Х. Хаслер и многие-многие другие. Я особенно благодарю моих соавторов, разрешивших поместить в этой книге плоды наших общих трудов – Елену Наседкину (раздел об Э. К. Метнере), Михаила Одесского (разделы о Дж. Уистлере и П. П. Перцове), Хенрику Шталь (перевод письма Белого Михаилу Бауэру). Отдельно хотелось бы поблагодарить Рене Герра, позволившего воспроизвести уникальный раскрашенный вариант марки издательства «Алконост» из своей коллекции, и те организации, которые любезно предоставили для публикации иллюстративный материал из своих собраний: Государственный музей А. С. Пушкина (ГМП), Государственный музей истории русской литературы имени В. И. Даля (ГЛМ), Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, Российский архив литературы и искусства (РГАЛИ), Российскую государственную библиотеку (РГБ), Российскую национальную библиотеку (РНБ), дорнахский архив «Наследие Р. Штейнера» (Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung).
Чувство глубочайшей признательности я испытываю к Владимиру Владимировичу Нехотину (1960–2022), моему душевному другу и коллеге, моему постоянному, любимому редактору и помощнику в издательских делах. Это чувство смешано с болью и скорбью. Володя Нехотин, редактор и этого сочинения, умер, когда книга уже версталась, и мне безумно жаль, что он не увидит результат нашего общего труда и вдохновения.
Все сделанные полужирным шрифтом выделения, помимо особо оговоренных случаев, принадлежат автору книги.
Приятного и, надеюсь, полезного прочтения.
Моника Спивак
I. Миф об аргонавтах (1900‐е): источники и трансформации
1. «СКВОЗЬ НИЦШЕ ЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМ!!»
О СТРАННОСТЯХ АРГОНАВТИЧЕСКОГО МИФА
Андрей Белый вошел в историю символизма как певец «Золотого Руна», создатель аргонавтического мифа московского символизма и лидер кружка «аргонавтов», собиравшегося у него на квартире в 1900‐е годы1. Однако прежде чем говорить о вкладе Белого в литературную топику Серебряного века, стоит отметить, что всем известный древнегреческий миф о героях, отправившихся на корабле «Арго» в долгое плавание за шкурой волшебного барана, которую надо было по заданию царя Пелия привезти в Элладу, уже имел свои традиции бытования в русской литературе и публицистике XIX–XX веков. Белый их, несомненно, учитывал и от них отталкивался.
1.1. Аргонавтический фон: червонцы и прически
Образ золотого руна употреблялся в сниженном контексте – как метафорическое обозначение богатства и материальных благ. Так, например, в популярном романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1867) золотым руном называется легкая добыча карточных аферистов, уверенных в том, что они нашли состоятельного, но простодушного партнера по игре («Компания <…> была в восторге и оставалась в полном убеждении, что нашла для себя в симбирском помещике Язоново золотое руно»), или же лакомое наследство («Родственники со стороны покойной княгини <…> вступились за скудные остатки огромного некогда состояния <…>, и золотое руно баронессы фон Деринг перестало существовать для ее всепоглощающего кармана»2). Сквозь призму иронично поданного сюжета о поисках золотого руна описывает Крестовский и стиль жизни «известных камелий»:
Какая-нибудь Клеманс или Берта пользуется покровительством какого-нибудь златорогого барана. Шкура и шерсть этого барана служат для нее в некотором роде руном Язоновым, и потому Берта сорит себе деньгами напропалую, кидает их зря, туда и сюда, направо и налево, и справедливо думает, что колхидское дно неисчерпаемо и создано, дабы удовлетворять каждому минутному ее капризу и взбалмошной прихоти. Но вдруг какими-нибудь судьбами златоносный источник иссякает: либо Язон находит Медею, либо руно подверглось чересчур уж неумеренной стрижке – и вот бедный цветок без запаху остается без всякой поливки: Берта сидит на бобах.
Хорошо, если вместо златорогого барана подвернется на выручку златорогий бык либо златохвостый боров, – Берта спасена и снова сорит себе деньгами.
Но если не наклевывается ни одно из подходящих животных – положение Берты через несколько времени становится критическим до трагизма3.
В аналогичном значении золотое руно и его искатели-аргонавты появляются в судебной публицистике – например, в рассказе известного адвоката А. Ф. Кони о том, как ему пришлось участвовать в разбирательстве запутанного дела о наследстве:
<…> к этому имуществу тянулись жадные руки целой компании искателей Золотого Руна, своего рода аргонавтов <…>. Приговор петербургских присяжных вызвал в Петербурге ропот и шумные толки, искусно подогреваемые и питаемые материальным разочарованием аргонавтов4.
С золотым руном иногда сравнивалась прическа. Так, «пышных волос золотое руно» украшает в стихотворении Л. А. Мея «Фринэ» (1855) знаменитую афинскую гетеру, натурщицу Праксителя:
К самой окраине мыса она подошла; не внимая
Шепоту ближней толпы, развязала ремни у сандалий;
Пышных волос золотое руно до земли распустила;
Перевязь персей и пояс лилейной рукой разрешила;
Сбросила ризы с себя и, лицом повернувшись к народу,
Медленно, словно заря, погрузилась в лазурную воду5.
А в рассказе И. С. Тургенева «Пунин и Бабурин» (1874) сравнение с золотым руном возникает при юмористическом описании ранее богатой, но утраченной шевелюры:
Пунин был совершенно лыс; ни одного волосика не виднелось на заостренном его черепе, покрытом гладкой и белой кожей. <…>
– Что? – сказал он наконец. – Не правда ли, настоящее яйцо? <…> а какие были волосы! Золотое руно, подобное тому, за которым аргонавты переплывали морские пучины6.
И, конечно же, с аргонавтами, плывущими за золотым руном, ассоциировали себя путешественники, отправлявшиеся в дальние страны. Так, например, «новым аргонавтом», стремящимся «по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду», представлял себя в очерках «Фрегат „Паллада“» И. А. Гончаров, участвовавший в 1852–1855 годах (в качестве секретаря вице-адмирала Е. В. Путятина) в военно-морской экспедиции, побывавшей в Англии, Африке, Китае, Японии:
Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я – скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я – новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь – певец, хотя ex officio, похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца, изнеженность горожанина – загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нерв. А тут вдруг от прогулок в Петергоф и Парголово шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться… <…> Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью7.
Все названные выше и устоявшиеся в русском культурном сознании трактовки образов аргонавтического мифа встречаются и в творчестве Андрея Белого.
Так, например, в стихотворении «Золотое Руно» (1903) солнечные блики на поверхности сравниваются с блеском золотых монет высокой пробы:
И на море от солнца
золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
среди всплесков тоски8.
То же сравнение переходит в рассказ «Световая сказка» (1903), в котором «после дождя лужи сияли червонцами» и наивные дети-солнцепоклонники чувствовали себя золотодобытчиками. Правда, устойчивую связь золотого руна с богатством Белый переосмысляет, трансформируя материальные ценности в ценности духовного порядка:
Я предлагал собирать горстями золотую водицу и уносить домой. Но золото убегало, и когда приносили домой солнечность, она оказывалась мутной грязью, за которую нас бранили9.
Эстетизацию прически, уподобляемой золотому руну, Белый издевательски высмеивает. Так в романе «Москва под ударом» (1926) разоблачается злодей Мандро, спрятавшийся под личиной светского щеголя Луи Дюпердри:
А Луи Дюпердри в своей темно-зеленой визитке с растягом, оглаженный, зеленоногий, на дам загляденье, с румянчиком нежным искусственных кремовых щек, уж не волос – руно завитое, руно золотое крутил, вздернув кончик такой завитой эспаньолки; и губки слагал он, как будто целуя продушенный воздух «Свободной Эстетики» (Москва. С. 205).
Не преминул Белый обратиться и к буквалистской трактовке аргонавтической образности – при описании отдыха в Грузии в 1927 году. Сравнивая в книге «Ветер с Кавказа» (1928) свою поездку в Колхиду с путешествием аргонавтов, он придает поэтический ореол и сакральный смысл реальному путешествию, отсылая читателя к своим юношеским чаяниям как к предчувствиям будущего:
Детский стих, «Аргонавты» («искатели новых путей»), четверть века назад мной написанный, лозунгом был; был кружок «Аргонавтов», еще молодых символистов; мы верили, что аргонавты причалят в страну «Золотого Руна»; двадцать лет плыли мы по идейным течениям, вдоль островов, очень многих редакций, нигде не задерживаясь, потому что мы плыли вперед и не верили в тихие пристани; но не приплыли, рассеялись к пристаням; я же – приплыл; мы – приплыли, мой спутник и я, – в страну древнюю, в пламенную Колхиду; руна мы не ищем; «руно» – знак всего обновленного мира; но странно, в потопной стране, я нашел свой ландшафт.
Наш Арго, наш Арго,
Готовясь лететь,
Золотыми крылами забил.
<…> вместо руна золотого мы ищем хорошеньких камушков; они – дороже руна; их орнамент открыл перспективу серьезных исканий; «Вперед, поворачивай Арго». Колхида, – лишь веха10.
Однако эти случаи использования образа золотого руна в русле устоявшейся традиции можно назвать скорее ситуативными и факультативными, даже случайными. Напротив того, на фоне прежних трактовок аргонавтического мифа новаторство Белого, превратившего золотое руно в эмблему нового литературного течения, выглядит особенно наглядно.
Видимо, ближайшим предшественником московских «аргонавтов» может быть назван, да и то с оговорками, Николай Минский11, вложивший в уста героя поэмы «Холодные слова» (1895) следующую речь:
Я грезил, будто я моряк,
Владелец яхты быстроходной,
Нас несколько друзей. И вот
Из южных стран, из теплых вод
На север едем мы холодный,
Туда, где Полюс спит во льдах,
С руном серебряным в руках.
Туда, гонимы жаждой правды,
Летим, дней новых Аргонавты.
Пустынен путь наш и тяжел.
На месте солнца – отблеск снега,
Да незакатно блещет Вега
И не скрывается Орел12.
Это, безусловно, следует учитывать, однако, как отмечено С. В. Сапожковым в примечаниях к поэме, «неизвестно, повлиял ли непосредственно на Белого <…> образ „дней новых Аргонавтов“ из поэмы Минского»13. К тому же пафос Минского с его апологией «„серебряного“ мертвенного цвета» и «смерти в качестве очистительной и освобождающей дух силы» был Белому чужд. С другой стороны, свойственный юному Белому культ Фридриха Ницше, во многом вдохновившего его на аргонавтическое мифотворчество, был бесконечно чужд Минскому14.
Мифотворчество московских символистов подробно рассмотрено в работах А. В. Лаврова15. Однако нам представляется возможным вернуться к вопросу об особенностях трактовки и трансформации древнегреческого мифа Белым-«аргонавтом» и об источниках, из которых он черпал вдохновение, идеи и образы.