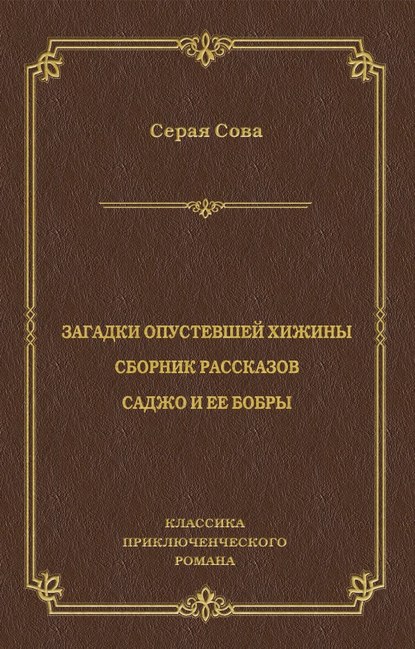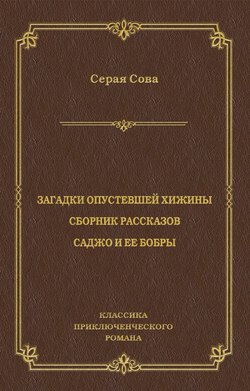
000
ОтложитьЧитал
Один день в Тайном городе
От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное прибрежье.
Лонгфелло
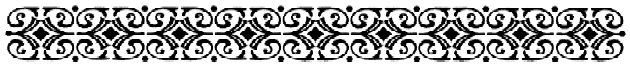
Влияние «цивилизации» отняло много романтики, красочности и экзотики у индейских поселений, расположенных либо в резервациях, либо в глухих уголках Дикой Природы. Попытки строить свою жизнь на жалком подражании белым – без средств, без умения и навыков – не дали положительных результатов, и индейцев стали упрекать в неряшливости. Только те из них, кто на протяжении долгого времени при благоприятных условиях привыкал к культуре белых, приспособились кое-как к непривычной жизни в деревянных домиках. Нищие хижины индейцев, расположенные вдоль железной дороги, красноречиво говорят о трагедии приспособления. Совсем иначе идет жизнь в вигваме. Несмотря на тесноту, индейцы ведут свое хозяйство очень аккуратно и разумно. Попробуйте предложить семье бледнолицых похозяйничать в типи[1] – они растеряются, и все пойдет кувырком. Многие из индейцев, поселившихся в деревянных домишках, отвыкли от кочевой жизни отцов, и туристу придется пройти далеко за пределы обычных маршрутов, чтобы найти поселение кочевников, живущих примитивной, но очень разумной жизнью, обычаи и устои которой создавались на протяжении многих веков. Эти индейцы организуют на зиму временные поселения, местонахождение которых выбирается в зависимости от условий охоты. Они выезжают небольшими коммунами из четырех-пяти семей, а иногда выезжает и одна семья. Все походное оборудование очень легкое и непосвященному может показаться едва ли подходящим для суровой зимы. Охотники выбирают защищенное место, вблизи хорошего леса, где водятся лоси и можно рассчитывать на рыбную ловлю. Здесь индейцы разбивают свой лагерь – четырехугольные палатки и восьмиугольные типи. И для палатки, и для типи воздвигают стены высотой в четыре бревна, а потом прилаживается верх из бересты или шкур. Щели между бревнами старательно законопачиваются мхом. Когда зима вступит в свои права, жилища индейцев утепляются тщательно присыпанным снегом. Небольшие жестяные печурки обогревают палатки, а в вигвамах индейцы греются у открытого очага. У индейцев Канадского Севера очаг складывается вблизи одной, почти перпендикулярной стены, а не в центре, как у племен Великой Равнины.
Каждый член семьи имеет свое спальное место, позади которого хранятся его личные вещи. Утром все байковые одеяла складываются в дальний угол вигвама или же скатываются и укладываются на полу у самой стены. Весь пол индейского жилища устлан душистыми ветками, на этом мягком ковре индейская семья садится за еду, здесь же они делают свою домашнюю работу. Подстилка не залеживается, а меняется часто. В этих условиях домашнее хозяйство чрезвычайно простое и ведется с минимальным количеством кухонной утвари и посуды, и таким образом хозяйки легко соблюдают порядок. Кости и другие отходы охотничьего хозяйства, отходы после очистки и покраски шкур выбрасываются на снег в кусты, где они лежат замороженными семь-восемь месяцев – до наступления весны, а к этому времени охотники уже покидают свой зимний лагерь. Эти кучи отбросов, которые остаются после индейцев, и создали кочевому народу репутацию нечистоплотной жизни.
Вблизи вигвамов между деревьями, расположенными треугольником, устраиваются полки, а повыше прикрепляются плетенки, где хранятся мясо, рыба и другие продукты; это делается с тем расчетом, чтобы уберечь припасы от вечно рыскающих голодных упряжных собак. После каждой метели через сугробы снега люди прокладывают лыжные тропы, соединяющие их жилище с целым рядом собачьих конур, сделанных из хвороста и утепленных снегом. Внутри вигвамов все удивительно чисто и уютно, огонь в открытом очаге без особых хлопот поддерживается всю ночь; труднее поддержать тепло в палатках, отапливаемых железными печурками.
Летом, когда пройдет период весенней торговли мехами, некоторые из этих индейских коммун отправляются в глухие уголки, расположенные вдали от больших дорог. Индейцы не любят бледнолицых туристов и других непрошеных гостей. Они тщательно маскируют свои тропы, и человек, который забрел в эти глухие места, лишь случайно может обнаружить поселение индейцев.
Эти спрятанные в глухих местах поселения индейцы называют «Оден-па-ка-инне-хекадж», что в буквальном переводе означает «Скрытый город», «Тайный город». Такие города в наши дни уже редко встречаются, но все-таки они еще существуют и бережно хранят старые индейские обычаи и традиции.
Мне посчастливилось получить гостеприимный прием в нескольких из этих независимо существующих тайных поселений. А один раз меня приняли даже с компанией бледнолицых туристов, чей искренний интерес и доброжелательное отношение к «краснокожим братьям» заставили меня приложить все усилия, чтобы получить разрешение переступить запретную границу. Вышло так, что мы разбили лагерь в нескольких милях от одного тайного поселения, о существовании которого мы уже догадывались. Один из туристов, возглавлявших эту компанию, настойчиво уговаривал меня сделать попытку договориться с индейцами. Я знал, что нога бледнолицего еще не ступала дальше причала каноэ, и на успех этих переговоров вряд ли можно было рассчитывать. Ни в одном обществе ваше неожиданное появление – без приглашения и без извещения – не вызовет такого определенного, безоговорочного, полного отказа в гостеприимстве, какой вам дадут обитатели обыкновенного индейского поселения, для которых вы нежеланный гость. Вождь родовой группы, о которой идет речь, – Большая Выдра – был человеком высокомерным, и, несмотря на то что я с ним был знаком, он никогда не приглашал меня к себе. Тем не менее как-то раз я нашел на волоке прекрасно сделанное весло работы Большой Выдры, на котором было вырезано мое имя. Это был отличный подарок в краю быстрых, стремительных рек и, казалось бы, было хорошим предзнаменованием. Однако я не возлагал больших надежд. На следующий день я попытался объяснить своим спутникам, как надо себя вести во время таких встреч с индейцами; потом мы сели в пирогу и поплыли к поселку Большой Выдры. Мы плыли почти час, преодолели по пути несколько водопадов и вдруг очутились на огромном круглом озере, спрятанном среди обрывистых холмов, поросших дикими соснами, еще не тронутыми топором человека. По озеру мы плыли еще час прямо навстречу солнцу и наконец попали в узкую бухточку, там за высоким выступом неожиданно обнаружили целую флотилию каноэ: одни стояли на причале, другие были перевернуты вверх дном. Вверх от берега вилась узкая тропа, она поднималась по невысокому склону к роще великанов сосен. Здесь среди громадных пней на ровном месте стояли врассыпную вигвамы и палатки. Голубой туман от дыма повис в воздухе просеки; какие-то люди, словно загадочные тени, появились около жилья и снова исчезли. Никто не вышел, чтобы встретить нас; была полная, угнетающая, давящая тишина.
Я кликнул своим обычным совиным кличем, и мгновенно невероятный, неописуемый шум разорвал тишину на клочки: свора огромных собак-волков с оглушительным лаем бросилась к берегу и разыграла там жуткую сцену, демонстрируя свою неутолимую жажду крови. Один из наших спутников в испуге спросил, умеют ли они плавать.
Высокая стройная фигура с развевающимися волосами сбежала вниз по склону холма и, очутившись среди своры разъяренных прыгающих собак, стала размахивать горящей головней, пока они не покорились и не выстроились в ряд на берегу. Человек, теперь уже нетрудно было в нем узнать самого вождя, подошел к песчаной кромке берега, к самой воде, и там остановился. Он не поднял руки и вообще никак не приветствовал нас. Вся обстановка этой сцены были картиной первобытной дикости. Представьте себе: огромные стволы вековечных деревьев, конусообразные типи, которые неясно вырисовывались в голубом от дыма тумане, быстрые, едва различимые жесты людей, передвигавшихся, словно тени, среди закопченных жилищ, высокая гордая фигура вождя, ставшего неподвижно на берегу, и позади него целая свора свирепых собак.
Что-то нужно было сказать, я начал переговоры: «Хау! Куэй, куэй, Гитче Негик! (Приветствую тебя, Большая Выдра!) Я нашел весло и должен поблагодарить тебя». И потом: «Мои друзья хотят сделать подарки вашим ребятишкам». Последние слова, которые не раз смягчали сердца самых суровых людей, на этот раз прозвучали впустую. Большая Выдра закричал: «Аноатч! Аноатч! (Так нехорошо поступать!) Кто эти люди? Не Большие ли Ножи?»
Положение было напряженное и требовало особого чувства такта, чтобы не сорвать переговоры. Я не могу похвастаться, что обладаю дипломатическими способностями, но сделал все от меня зависящее, чтобы выйти из трудного положения.
Я сказал ему, что эти люди приехали издалека, что у них самые дружественные намерения и им искренне хочется посетить своих краснокожих братьев. Я подробно остановился на тех трудностях, которые пришлось перенести этим путешественникам, преодолевая расстояние более девяноста миль от железной дороги, по нехоженым тропам и бурным водным путям, пока наконец они не достигли этих берегов. Это дипломатическое лавирование, тщательно сформулированные комплименты, осторожные утверждения и возражения, которыми мы обменивались, очень напоминали переговоры между послами двух стран на грани войны, но воспроизвести все это в точности я уже не в силах. Достаточно будет сказать, что Большая Выдра, задав мне очень ловко несколько испытующих вопросов и предупредив, к сожалению, что фотографирование у них запрещено, произнес с чувством удовлетворения: «Ундуш, кибаан (Ладно, сойдите на берег, и мы переговорим)». Я следил за сворой волков-собак позади нас. «С нами женщины, – сказал я по-английски, – может быть, вы привяжете собак». Вздохи облегчения вырвались не только у женщин. Большая Выдра повернулся и сказал мимоходом несколько слов; старая женщина и несколько ребятишек, не проявляя ни тени страха, появились среди свирепых собак и стали их отгонять и тащить в сторону. Собаки послушно исполняли их волю.
Когда мы сошли на берег, вождь торжественно пожал руку каждому из нас, и его суровое лицо осветилось непривычной улыбкой; с удивлением смотрели бледнолицые гости на него – два ряда ослепительно-белых зубов так резко контрастировали с его обветренным, смуглым лицом.
Он шел впереди, показывая нам дорогу к лагерю. Собак уже не было видно, но они все еще не могли успокоиться, и мы слышали их рычание. Одна или две темных головы высунулись из вигвама и смотрели в упор на нас. Несколько детишек отбежали на некоторое расстояние, а потом повернулись и разглядывали нас своими любопытными глазками. Вдали мы увидели двоих или троих мужчин. Положение было явно напряженное, и бледнолицые гости стали говорить шепотом. Казалось, что между ними и индейцами была стена непонимания, неосязаемая, но реальная, невидимая, но явно ощутимая.
Большая Выдра сказал несколько слов на своем плавном гортанном языке, и не успели замолкнуть звуки его голоса, как к нам подошел неслышной поступью индеец, обутый в мокасины, и поздоровался со всеми за руку. Он был молод, и его красивое лицо зарделось от смущения. Потом пришли другие индейцы – индейцы разных возрастов, со спокойными лицами, все в бесшумных мокасинах. Они пожали всем руки, торжественно, но бесстрастно и безмолвно. Теперь вышли женщины из своего укрытия и тоже продемонстрировали церемонию рукопожатия. Веселая пожилая женщина, задрапированная в клетчатый плед и с ярким платком на голове, держала в левой руке большой нож и отпускала остроумные, но совсем не враждебные замечания по адресу каждого из гостей. Переложив нож в другую руку, она снова принялась за работу и стала скоблить свежую лосевую шкуру. Глядя на нее, и другие женщины погрузились в свой самоотверженный труд, по-видимому прерванный нашим приходом. Появились дети, застенчивые, улыбающиеся личики, с блестящими черными глазами, полными любопытства. Мальчики подошли решительной, мужественной походкой и с чувством собственного достоинства поздоровались с нами за руку. Маленькие девочки – в широких клетчатых платьицах, с шалью на голове – уселись поодаль от нас и в изумлении перешептывались: «Шаганаш! Гитче Мокомен! (Белые люди! Американцы!)»
Когда туристы начали давать детям подарки, женщины, занятые работой, взглянули в нашу сторону с явным одобрением, и атмосфера недоверия и подозрительности сразу исчезла, словно снег под горячими лучами солнца. Казалось, все было хорошо. И в то же время нельзя было не заметить царившей здесь настороженности. Непроходимые заросли шириной сто футов, выросшие на месте вырубленного леса, защищали селение с трех сторон – ни одно живое существо не смогло бы пробраться сюда бесшумно. Через это естественное заграждение были прорублены узкие просеки-тропинки, которые расходились от селения во все стороны. На каждой из этих троп стояли привязанные к длинным ремням собаки. Стоило к ним немного приблизиться, как они бросали на нас взгляды, полные злобы и ненависти.
Это было в двадцатом столетии, но не прошло и нескольких минут, как мы об этом забыли. Время и влияние современной цивилизации были отброшены, как ненужные одежды. Кругом стояли высокие старые деревья, немые свидетели многовековой истории этого края. Типи из коры желтой березы, одни посеревшие от давности, с закопченными конусообразными верхушками, другие новенькие, ярко-желтые, расположились под темно-зелеными ветвями. Вблизи жилищ сооружены сушилки из жердей, на которых висела разрезанная вдоль рыба и длинные куски лосевого мяса; внизу, посредине, тлел синеватым пламенем костер. Хозяйки варили обед на костре, другие женщины прилежно обрабатывали шкуры. Недалеко от берега озера двое мужчин и женщина заканчивали работу над каноэ из березовой коры – кругом валялись щепки и куски коры. Яркие байковые одеяла – красные, зеленые, белые – проветривались, разбросанные на высоких жердях, и добавляли экзотические тона этой живописной картине. Едкий запах дыма и тихий прерывающийся гомон голосов на старинном-старинном языке. Индейское поселение прадедовского уклада, в подобном же селении, наверное, и Понтиак[2] лелеял свои мечты о победе. Мы спустились по шкале истории на несколько столетий назад за несколько минут. Туристы в спортсменской одежде выглядели нелепо, их речь звучала диссонансом. Они буквально стали анахронизмом в обстановке первобытной жизни индейцев. Несмотря на официальное приглашение в гости, которое мы получили, каждый из нас инстинктивно чувствовал, что есть граница, пределы которой мы не смеем нарушать, ни в коем случае мы не могли позволить себе фамильярности. Какая-то таинственность и сдержанность ощущалась во всем, вряд ли это можно было объяснить дикостью. В цивилизованном мире эти люди могли бы показаться странными, неловкими, неряшливыми, из ряда вон выходящими. Но здесь, на лоне Дикой Природы, в своих собственных владениях они были великолепны. Трудолюбивые, они рассчитывали только на свои силы и гордо защищали свое право граждан государства Дикой Природы.
Я стал перебирать в памяти свои встречи с этими людьми. С благодарностью вспоминал, как Большая Выдра делился со мной лосевым мясом. И разве можно забыть старого сказочника Пад-уэй-уэй-дука («Вот он идет с криком»), у него в уголках глаз были нарисованы красные и голубые треугольники, потому что он был ранен стрелой; всю ночь напролет он мог трещать сделанной из панциря черепахи трещоткой; прыгал поздней осенью в реку, когда уже намерзал лед. Я узнал старого Саа-Сабина – «Желтую скалу», он всегда бродил в одиночку, говорил очень редко и то только поговорками. Тут и Джимми Туенти – редко кто видел, чтобы он ходил, он всегда бежал, быстро семеня ногами. Матодженс («Маленький ребенок») – он колдун, только незлой, предсказывает погоду за две недели вперед. И хотя он обычно напевает под аккомпанемент своего барабана, натянутого волчьей шкурой, он очень приятный собеседник. У Пад-уэй-уэй-дука удивительно стройная дочь, с великолепными длинными волосами, распущенными по плечам; она не подошла к нам, осталась немного в стороне, но не сводила с нас своих испуганных, как у лани, глаз.
Теперь Большая Выдра пригласил нас жестом руки в большой вигвам и сказал: «Войдите и отдохните немного, женщины приготовили вам еду». Это приглашение было очень кстати. Нас угощали жареным лосевым мясом, жареной рыбой, индейским хлебом – баннок – и очень горячим чаем. Внутреннее помещение вигвама было безукоризненно чистым, на столбах висели пучки душистых трав и разные корни, распространявшие своеобразный аромат. Две молодые женщины исполняли роль хозяек. Гости уселись – по индейскому обычаю – на полу, застланном свежими зелеными ветками, и ели с аппетитом из жестяной посуды.
Некоторым из туристов уже приходилось знакомиться с жизнью индейцев, но был с нами спортсмен, который признался, что «обед на ковре из зеленых веток, в вигваме тайной индейской деревни был осуществлением давнишней мечты». Наши спутницы попросили, чтобы кто-нибудь из индианок рассказала бы о себе. После настойчивых уговоров одна из них согласилась. Оказалось, что она никогда не видела ни большого города, ни поезда, и ей было безразлично, увидит ли она их когда-нибудь или нет. Дальше началось полное непонимание друг друга, и мне, как посреднику и переводчику, пришлось лавировать, делать дипломатические увертки и в меру своих сил импровизировать, чтобы не порвать дружественных отношений.
Тепло и тишина вигвама подействовали успокаивающе на гостей, утомленных путешествием, и несколько человек задремало. Другие сидели, прислонившись спиной к стволу дерева, на подстилке из сосновых игл или же на бревне у очага и с удовольствием курили. В вигвам вбежал мальчик, в руках у него был лук, согнутый из кедровой ветки, за поясом три куропатки; он ловко очистил их от перьев и повесил над тлеющим очагом.
Вечерело, жара начала спадать. Две белки с бешеной быстротой промчались по лагерю и, взметнувшись на дерево, все кружились и кружились по стволу с дикими криками, как будто перебранивались друг с другом. Сойка беззвучно появлялась в воздухе то здесь, то там; она доверчиво летала, и никто ее не трогал.
Невозмутимая тишина водворилась в лагере. Вечерняя прохлада и сырость уже начали пронизывать воздух, из-за деревьев и со стороны опушки леса стали расползаться тени. День быстро угасал, и на обратном пути нам должна была светить луна. Мы разбудили уснувших и сели в лодку. Никто не попрощался с нами, но вождь проводил нас до причала. Я поднял руку в знак прощального приветствия, и, как бы в ответ, Большая Выдра сказал мне: «Ки сакитон на ки до мокомен? (Дорожишь ли ты своим ножом?)». У меня за поясом был обыкновенный охотничий нож, по тому времени хорошего качества. Я ответил, что очень дорожу своим ножом, он мне настолько дорог, что никому не хочу отдавать его. Но, добавил я, так как ты мой брат, я отдам его тебе. (Что я и сделал. Я отдал нож вместе с поясом и ножнами.)
Отчалив от берега, мы все замерли, зачарованные дикой красотой природы. Красное солнце наполовину спряталось за черную стену леса. Тесными рядами стояли легионы сосен, сливаясь с тенями уже потемневших холмов.
Пара гагар, сверкая своей белой грудью, плыла так тихо по воде, что казалось, будто они плыли в воздухе. Тоненькие струйки дыма поднимались из очагов вигвамов и стелились белым покровом над Тайным Городом. Скоро взошла луна, бледная и очень близкая к земле, и на ее широком светящемся фоне встала черным силуэтом сосна. Где-то вдали прокричала сова.
Мы плыли все дальше и дальше от сказочного Тайного Города, с его обычаями далекого прошлого, с тихими и нелюдимыми обитателями, загадочными и таинственными, как темный бор, в котором они родились. И когда мы переплыли озеро и очутились среди скалистых берегов узкой реки, к нам донесся протяжный, заунывный вой собак-волков, приветствовавших полнолуние, как это делали их дикие сородичи с незапамятных времен.
Глубокой ночью в тихом воздухе раздался едва различимый звук, настойчивый, все повторяющийся, монотонный, – ритмический бой индейского барабана.
Сосна
(Рассказ-легенда)
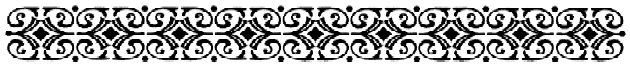
Под утро роса стекала каплями с игл сосны, и казалось, что падали слезы на человека и на умолкшее поле битвы.
Возраст дерева можно точно определить по ствольным кругам: сколько кругов, столько и лет дереву.
Шестьсот пятьдесят лет назад, а может быть, немного раньше или позже, белка подобрала сосновую шишку, которую она только что сбросила вместе с десятком других шишек с вершины дерева, растущего на ближнем холме. Белка понесла эту шишку в потайное место на перевале Скалистых гор, где уже начала складывать на зиму самые сочные и спелые шишки. Когда белка добралась до своей кладовой, то отвлеклась чем-то, выронила шишку, а потом забыла с ней.
Должно быть, уже двенадцать шишек натаскала белка, но кладовая еще не была полна и осталась неприкрытой. Дождь и ветер постепенно разбросали шишки на расстояние нескольких футов друг от друга. Они благополучно перезимовали, на следующий год семена пустили корни и дали побеги, став крошечными сосенками. И сразу каждый побег потянулся к солнцу, стараясь перегнать в росте своего соседа, потому что от солнца зависела его слабенькая жизнь. Деревца росли быстро, участвуя в состязании, довольно жестоком для таких нежных, маленьких существ. Некоторые из них росли медленнее других – они были затенены своими более сильными братьями, стали чахнуть от недостатка солнечного света и скоро погибли. Пять лет спустя всего семь или восемь сосенок выжило – они стояли врассыпную и выглядели весело и бодро.
В один из осенних дней того года пришел олень. Он полакомился нежной верхушкой одной из сосенок и общипал молодые побеги на ее ветках. Когда пришла зима, нагрянули кролики – их было много в тех краях, они ободрали кору на двух-трех деревцах очень тщательно по всему стволу, куда только могли дотянуться. И эти сосенки тоже погибли.
Прошло еще пять лет. Уже лето было на исходе, когда сюда повадился ходить лось. Он облюбовал себе молодую сосенку из знакомой нам семьи и постоянно приходил и почесывался о ее тонкий ствол головой, чтобы очистить молодые рога. В конце концов он повалил ее вместе с другими деревцами, которые росли поблизости.
Через двадцать лет молодые сосенки стали уже стройными деревьями и могли бы прожить еще много лет, до самой старости, если бы не забрел в эти места дикий кабан и не ранил их смертельно: он ободрал кору с каждого дерева, кроме одного. Кабан задержался здесь ненадолго, он побрел дальше в поисках более интересных и богатых лесных участков.
Оставшись одна-одинешенька, молодая сосна уже не служила больше приманкой для диких зверей и целую сотню лет росла спокойно и набирала силы, пока наконец не превратилась в замечательно красивое дерево. Но из-за того, что сосна росла на открытом месте, на высоком обрывистом перевале Скалистых гор, у подножия которых простиралась прерия, она была коренастая, с могучим стволом и широко распростертыми ветвями, хотя и не очень высокая; юго-восточные ветры дули из прерии, то и дело трепали и гнули ее вершину, а ветви ее, словно огромные темные руки, в стремительном жесте всегда были направлены на север.
Сосна устояла против ужасных ветров, временами свирепых, как смерч, постоянно дувших на нее. Засуха, ливни и снежные бураны – все разрушающие стихии – пытались погубить ее, вырвать с корнем, сломать. И, несмотря ни на что, она росла и росла и даже, казалось, чувствовала себя отлично в этих условиях. Постоянная борьба за существование выработала в ней необыкновенную выносливость, и она жила и жила. Она прожила около двух веков; ствол ее разросся до огромных размеров в обхвате, а гигантские ветви, будто маленькие деревья, сучковатые, искривленные, переплетались друг с другом и свешивались до земли, образуя просторный тенистый шатер, который манил к себе пробегавших мимо зверей: летом они прятались здесь от жары, а зимой – от снежной вьюги.
С незапамятных времен разные звери направлялись к этому перевалу, потому что здесь было удобно проходить. Перевал представлял собой довольно ровную площадку шириной до двухсот ярдов. И звери приходили сюда то в поисках добычи, то просто брели. Но теперь здесь выросло дерево – тенистая, развесистая сосна, и незаметно она начала влиять на направление их пути. Животные, как и люди, путешествуют по определенным тропам – от одного приметного места к другому. Часто следы зверей видны на необычайно высоких скалах или же в лощинах, покрытых богатой древесной растительностью, на большой бобровой плотине, а также в местах, где образовался особенно удобный брод. Хорошо заметные тропы прокладываются между такими местами.
Перевал был последним звеном в цепи излюбленных зверями мест в конце длинного утомительного путешествия по горам. И в то же время он был истоком пути, если путешествие начиналось из прерии. Могучая сосна со временем стала обетованным местом, в своем роде Меккой, куда устремлялись все звери, путешествующие взад и вперед и отдыхавшие в ее тени. Набравшись сил, они продолжали свой путь, быть может, с каким-то неясным чувством благодарности и дружбы к одинокому дереву. Это место привлекало еще чудесной горной поляной, которая, словно зеленый ковер, стелилась вокруг сосны. Там пестрели цветы, и созревали ягоды – было чем полакомиться, – и журчал горный ручей, где водилась форель.
По звериной тропе, которая постепенно сделалась гладко утоптанной и хорошо заметной, проходили порой удивительные звери. Огромный лось – вожак стада, степенно передвигающегося, словно длинная процессия, был завсегдатаем у подножия нижних холмов. И каждый год, когда первые заморозки покрывали золотом и бронзой листья осины, он приходил на поляну и располагался стойбищем со своим стадом. Отсюда раздавался на весь мир его тревожный трубный клич. Но пришло время, когда вожаком стал другой лось, – в ту осень он провел свое стадо через перевал, даже не остановившись у сосны.
Как-то раз забрела сюда свора степных волков – койотов, – эти хищники редко встречаются на такой высоте, Свирепые и осторожные, с разбегающимися косыми глазами, они вскарабкались по склону горы, потоптались с беспокойством на поляне, потом легкими, пружинящими прыжками убежали прочь и больше сюда не показывались.
А однажды пришел на поляну медведь-гризли, настоящий великан. С тех пор он повадился сюда ходить довольно часто. По своему характеру он был добродушным зверем, но стоило его рассердить, и он делался свирепым и опасным. Он был королем этих гор, грозой для всех обитателей окрестных мест. Когда он поднимался на задние лапы, на груди его отчетливо выделялась серебристая подкова, словно королевская эмблема. Огромный зверь – восемь футов от носа до хвоста, четыре фута высотой, если мерить до плеча, с громадными клыками – казался ужасно сильным. Но он не нападал и не ссорился напрасно и больше всего любил тишину, часто грелся на солнце, питался корнями и ягодами, да еще рыбой, которую ловил в горном ручье, протекавшем возле поляны. Пообедав хорошенько, он ложился под дерево, облизывал свои лапы и дремал, и, быть может, ему даже снились сны.
Он подолгу пристально смотрел вниз, где простиралась привольная прерия, уходящая в бесконечную даль. Время от времени по просторам прерии темным потоком передвигались черные ревущие массы, они застилали холмы и долины словно движущимся ковром. Иногда вдоль края этих передвигавшихся потоков живых существ поднимались облака пыли, и до перевала доносился едва различимый, далекий вой волков, потом более пронзительный, более дикий звук, и бой барабанов, и ритмический гул. Медведь проявлял тогда явное беспокойство.
Что же там происходило? Это передвигались сплошным черным потоком бесчисленные стада бизонов в сопровождении свор койотов. Высокие меднокожие люди спешили сюда легкой походкой; они собирались здесь целыми племенами и загоняли бизонов в наскоро сколоченные корали и там убивали их, стреляя из лука. Это происходило еще в те далекие времена, когда у индейцев не было лошадей.
Медведь все видел и слышал. Но никому не известно, что за мысли роились в его голове, какие чувства волновали могучего зверя, когда он долго всматривался своими маленькими проницательными глазами в ту далекую, неизвестную ему страну с ее необъятными просторами и незнакомыми обитателями. То не были родные места гризли, и он никогда туда не ходил. А могучая сосна, великан среди деревьев и тоже старая, как и он сам, стала для него как бы тихой пристанью – ему не было теперь так одиноко. Ему казалось, что сосна живая и что она его друг, хотя и была такая тихая и никогда не двигалась с места. В знак дружбы он сделал заметку зубами на стволе сосны.
И сосна, которую никто не трогал с того самого дня, когда четыреста лет назад кролики ранили ее своими крошечными зубами, вдруг почувствовала неведомую радость: теперь она знала, что в ней теплится жизнь. Когда медведя не было, земля у ее корней казалась такой голой и пустой; но как только старый гризли возвращался и занимал свое привычное место, сосна трепетала ветвями от радости. А медведь лежал довольный, успокоенный в тени любимого дерева и глядел на бескрайнюю прерию, которая уходила в неведомую даль.
Эта удивительная дружба длилась почти полвека. Теперь гризли стал старым, очень старым… Наконец пришла весна, когда он все дольше и дольше лежал, прислонившись к стволу сосны, а к концу лета почти не вставал со своего места, если не считать коротких прогулок за ягодами или же к ручью, чтобы напиться; сил охотиться за форелью у него уже не хватало.
Листья быстро желтели, краснели, и лес заиграл волшебными красками осени – была пора индейского лета[3]. В дымке тумана суровые очертания гор вырисовывались мягче. Как-то раз перед самым листопадом, когда медведь лежал, прислонившись к стволу дерева, и прислушивался к тихим напевам ветра, игравшего среди ветвей, загадочная привольная прерия, которой он так часто любовался, показалась ему как бы застланной туманом и более далекой, чем всегда. Он очень устал в тот день… Но вот он почувствовал чудесный покой во всем теле, и его стало клонить ко сну… Широкая равнина поблекла и исчезла. И шепот сосны звучал все тише и тише, как будто доносился откуда-то издалека, пока, наконец, не замолк.
Медведь умер.
Горькая судьба была у старой сосны: все, кто ее любил, умирали, а она продолжала жить в печальном ожидании, что последний из друзей умрет… И вот она стояла одна на горном перевале, суровая, как бессменный часовой.
- Талисман мумии
- Коронка в пиках до валета
- Лесной бродяга. Т. 2
- Черноногие
- Железная маска
- Красный Петушок
- Альрауне
- Два героя
- Пленник Зенды. Месть Руперта (сборник)
- Прыжок за борт
- Остров Пасхи
- Приключения капитана Коркорана
- Мир льдов. Коралловый остров
- Птица пустыни. Дитя лесов
- Царь степей. Aspergillum Lуdiаnum (сборник)
- Двойник. Путешествие Юлиуса Пингвина. Повесть о Диком Человеке (сборник)
- Алмазы перуанца
- Знойная пустыня. Дорогой приключений. Африканское сафари (сборник)
- Лев Святого Марка. Варфоломеевская ночь (сборник)
- Луговые разбойники
- Авиатор Тихого океана
- Ночные всадники. Нарушители закона (сборник)
- Искатель приключений Эмиас Лэй
- Приключения в Африке. Приключения юного раджи (сборник)
- Тайны Нью-Йорка
- Пират поднебесья. Экспедиция за нигилитом (сборник)
- Вокруг света с десятью су в кармане
- Морской разбойник. Плик и Плок (сборник)
- Тайна замка Роборэй. Виктóр из спецбригады
- Юнга на корабле корсара. В стране чудес
- Амулет. Святой. Паж Густава Адольфа
- Месть принцессы Джеллы
- Ник Картер против доктора Кварца (сборник)
- Жемчужная река. Герцогиня Клавдия
- Новый зверь. Каникулы господина Дюпона. Неподвижное путешествие
- Разбойник Кадрус
- Новый Робинзон
- В снегах Аляски. Мятежные души
- В дебрях Африки
- Загадки опустевшей хижины. Саджо и ее бобры
- Полярные аргонавты
- Преступление капитана Артура
- Похождения Червонного валета. Сокровища гугенотов
- Страшное дело. Тайна угрюмого дома
- Заклинатель змей. Рассказы