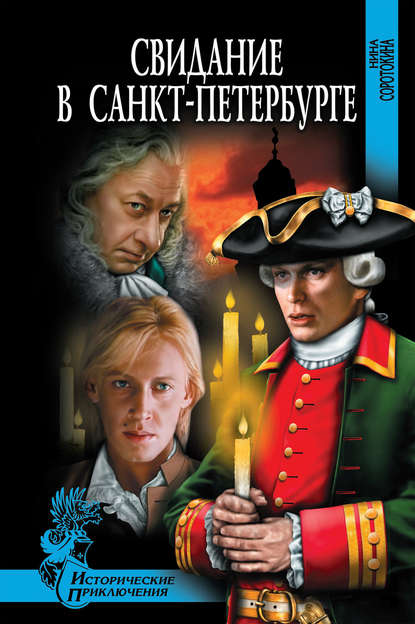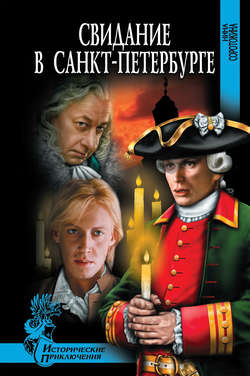
002
ОтложитьЧитал
Сакромозо
Мальтийский рыцарь Сакромозо появился только к вечеру, как раз к ужину, и Лесток пригласил его к столу. Тот охотно согласился – о поваре Лестока ходили по Петербургу легенды.
Рыцарь был молод, хорош собой, во всем, что касалось жизненных благ, обладал отменным вкусом. Благородная бледность лица и надменность его выражения придавали рыцарю загадочность, из-за которой Лесток при каждой встрече одергивал себя: «Друг мой Герман, осторожнее… Этот человек – темная лошадка!»
Сакромозо был прямо нашпигован тайнами. При первом их свидании, фактически – знакомстве, рыцарь отвел Лестока за штору и вручил в несколько раз сложенную плотненькую записку, которая оказалась письмом от высланного из России Брюммера, бывшего воспитанника великого князя Петра Федоровича. Брюммер был выслан со скандалом, на имя его был наложен запрет, а теперь в письме он сообщал ничего не значащие банальности. Главным было то, что он рекомендовал господина Сакромозо как человека надежного и порядочного. Но помилуйте, зачем рыцарю Мальтийского ордена рекомендательное письмо, да еще вынутое из потайного кармашка? Двести лет назад родосские рыцари получили у Карла V в ленное владение остров Мальту, дабы защищать в Средиземном море христианский мир от турок и африканских корсаров. Рыцари с честью выполнили возложенную на них задачу, слава Мальтийского ордена столь безупречна, что они не нуждаются в чьей-либо рекомендации, тем более в протекции бывшего обер-гофмаршала голштинского двора. Лестоку пришла в голову мысль, что в недрах модного костюма Сакромозо кармашков не меньше, чем потайных ящиков в бюро, и что если славного рыцаря взять за ноги и потрясти, то на пол посыплются не только записки из Германии или, скажем, Франции, но также от турок и африканских корсаров.
То, что Сакромозо рыцарь, – это ясно, вот только с Мальты ли? Понять бы, чего он добивается, чего хочет? И какая ему может быть выгода от бывшего лейб-медика? Лесток сейчас не та фигура, на которую ставят в большой политической игре. Но очень скоро Лесток понял, что Сакромозо послан ему самим Небом. Рыцарь был как раз тем человеком, через которого можно будет возобновить обрубленные связи с европейскими домами. Только надобно закрутить хорошую интригу и доказать Елизавете, что без его, Лестоковых, услуг ей не обойтись. А если будет чуть-чуть шпионства, так это только во благо России.
Пытаясь запродать себя подороже, Лесток так оформил их отношения, что рыцарь сам искал встреч с лейб-медиком, последнему оставалось только назначить час и место свидания.
Между делом Лесток помог сближению рыцаря с молодым императорским двором. Петр Федорович отнесся к далекой Мальте без должного интереса, зато юная Екатерина была в восторге от экзотического знакомства. Их живые беседы были посвящены тайнам мальтийского рыцарства: «А правда ли, что орден сказочно богат? А какие они – воины-иоанниты? Расскажите! О, расскажите о Великом магистре Ла Валете!» И Сакромозо рассказывал…
В иные минуты Лесток готов был поклясться, что рыцарь видел Мальту только во сне, а сведения о ней почерпнул из книг. Но с другой стороны… «Ах, Герман, – говорил он себе, – не доверяй интуиции, верь факту! Что ты знаешь о ближайших задачах ордена? Понять бы, кому Сакромозо служит!»
Первый их разговор был посвящен Франции. В искусстве тонкой беседы, когда по гостиной порхают сама простота и доброжелательность, когда каждое слово собеседника воспринимают с восторгом и тут же дают понять, как он умен и остроумен, а тот, простак, и распахнет душу – в такой беседе Сакромозо был бесподобен. Но Лесток, старая лиса, сам играл с ним в поддавки. Еще только что говорили о том, как велики сосульки на здании Сената, какой дивный экипаж у графа Разумовского и как искусно разрисован плафон в прихожей у Анны Алексеевны Хитрово, и вот уже Лесток должен ответить на невинный вопрос:
– Правда ли, что Шетарди в бытность свою в Москве пробил бутылкой голову послу д’Алиону? Говорят, посол прячет под париком огромный шрам.
– Пустое, – рассмеялся Лесток. – У них действительно была ссора. Д’Алион устроил из посольства мелочную лавку, накопил в ней товаров и принялся торговать. Шетарди возмутился этим, вспыхнула ссора, но в ход пошли не бутылки, а шпаги. Дуэли не получилось. Шетарди отвел шпагу рукой и поранил пальцы. Только и всего. Этой истории четыре года, она с бородой.
– Но ведь Шетарди был выслан из России не за дуэль, не правда ли? Он был нескромен. Забыл, бедняга, что почта в России принадлежит Бестужеву, а потому письма его были вскрыты.
– У нас, как и во всяком государстве, есть цензура, – холодно сказал Лесток.
– Конечно, но отношения России и Франции оставляют желать лучшего, – вкрадчиво заметил Сакромозо.
Лесток вздохнул.
– В чем причина? – продолжал Сакромозо. – Неужели государыня Елизавета не могла простить Франции выходки Шетарди? Насколько я знаю, маркиз был примерно наказан дома. И потом, вы сами говорите, эта история с бородой…
«Он служит Франции», – отметил про себя Лесток, вежливо улыбаясь и медля с ответом.
– О! Если вам неприятен вопрос, я не буду неволить вас ответом. В конце концов, не пристало в частной беседе обсуждать политические тайны.
– Никакой тайны здесь нет, – ответил наконец Лесток. – Государыня благоволит к д’Алиону. Но Париж отказывает государыне нашей в императорском титуле. А как же обмениваться дипломатическими нотами при таком неестественном положении? Людовик почему-то уперся, простите, как бык… У него, видимо, нет хороших советчиков.
Лесток не грешил против истины, впоследствии именно эта причина выставлялась как главная при разрыве дипломатических отношений с Францией, но лейб-медик знал, что подобная информация малого стоит. Русские министры не делали тайны из неуважительного отношения Людовика XV к русской императрице.
Второй разговор с Сакромозо произошел в доме прусского посла Финкенштейна, куда Лесток был приглашен на ужин. Встреча с рыцарем была полной неожиданностью, и как-то само собой получилось, что они уединились, пошли вдвоем смотреть персидские миниатюры. Оба, как выяснилось, были большие охотники до этого вида искусства – не корми, не пои, на месяц отлучи от карт, только дай всласть полюбоваться персидскими миниатюрами. Однако в отдаленной гостиной старые фолианты с персами были забыты, разговор прыгнул на лаковую живопись, вспомнили Монплезир, любимый дворец Петра.
– А правда ли, что Петр Великий выменял у прусского короля Вильгельма, батюшки ныне правящего Фридриха, отряд гренадер на кенигсбергский янтарь?
– Святая правда, – согласился Лесток. – Янтарь понадобился государю для отделки кабинета. Вы его видели? Янтарная комната – теперь гордость Петровского дворца.
«Он служит Пруссии, – с уверенностью подумал Лесток. – Как ловко он подобрался к сути вопроса!»
Старая тяжба Елизаветы с Фридрихом о возвращении солдат-великанов на родину вошла сейчас в новую стадию. Кроме гренадер, отданных на чужбину Петром, государыня пеклась о солдатах, попавших в Пруссию при содействии Анны Иоанновны. Елизавета говорила при этом высокие слова, но Лесток понимал, главное в этой тяжбе – насолить Надиршаху, как прозвала Елизавета Фридриха, доказать этому прусскому вандалу, что не все ему позволено.
– Государыня желает сейчас вернуть на родину своих солдат, – значительно сказал Лесток, понимая, что именно этой фразы ждет от него рыцарь.
– Но зачем?
– Как зачем? Из человеколюбия. Старые воины не могут отправлять в лютеранской Германии свои православные обряды.
– Но ведь совершали же. – Глаза Сакромозо смеялись. – Отчего же теперь не могут?
Лесток оставил последнее замечание рыцаря без ответа и мельком глянул на его руки. Лицо его было бесстрастно, поза непринужденна, но руки выдали его глубокий интерес. Очень подвижные, холеные, с длинными пальцами и розовыми ногтями, они жили своей жизнью – любопытствовали, недоумевали, удивлялись, а иногда и верили.
Интересно, о чем его сегодня будет выспрашивать рыцарь? Сладкое мясо ягненка, куропатки с трюфелями и гусиная, вымоченная в меду и молоке печенка – прелесть какой паштет готовил из нее повар – помогут хорошо спланировать беседу.
Пока шли от кабинета в столовую, разговор коснулся предстоящего маскарада.
– Я не поеду туда, – несколько капризно заметил Лесток. – Государыня знает, что я нездоров.
– Вы тоже больны, сударь? – участливо вскричал Сакромозо. – Только поднялась от болезни великая княгиня, как лихорадка свалила вас! Уж не заразились ли вы гнилой лихорадкой? Вам надо лежать, а я мучу вас своим визитом!
– Нет, нет… Я вполне пригоден для общения. И будьте спокойны, моя болезнь не заразна. Просто… разыгралась желчегонная болезнь.
Лесток не хотел ехать на бал, дабы не сидеть за карточным столом рядом с Бестужевым. Последнее время один вид канцлера – подозрительный и мрачный – вызывал в Лестоке такую ненависть, что у него и впрямь начиналась изжога.
Пока лакей наполнял куверты вином и обносил салатом, рыцарь продолжал сокрушаться по поводу гнилой лихорадки, которая косит всю Европу, но как только они остались вдвоем, без обиняков спросил:
– И как продвигается дело с возвращением русских солдат?
– Никак не продвигается, – несколько удивленно ответил Лесток, считая эту тему закрытой. – Такие вещи не решаются в один день.
– Не отдает Фридрих солдат? – понимающе рассмеялся рыцарь, и Лесток понял, что Сакромозо известна эта история во всех подробностях.
– Король прусский утверждает, что гренадеры сами не хотят возвращаться на родину, мол, они там в, Германии, семьями обзавелись. У некоторых даже внуки.
– Их можно понять, – утирая рот салфеткой, проговорил рыцарь. – Зачем им возвращаться в эту варварскую страну? Чтобы воевать со своими детьми и внуками?
– Почему воевать? В России, слава богу, пока мир.
– Мир? – искренне удивился Сакромозо. – А за какой надобностью тогда двинулась за пределы России армия князя Репнина? Какие другие планы могут быть у армии, кроме войны?
– Ну… тридцать тысяч – это еще не армия, – бросил Лесток и понял, что попал в цель.
Сакромозо сразу принял безразличный вид и даже спрятал руки под стол, но и без этой азбуки Лесток увидел – численность войска его весьма интересует.
«На этом и будем строить игру, – подумал Лесток. – Ему нужна армия, а кому он запродаст эти сведения – время покажет».
Сакромозо стал вдруг очень серьезен, почти торжествен.
– Перед отъездом в Россию я был на приеме их величества короля Пруссии. Беседа была частной, но весьма плодотворной. Мальтийский орден принимает близко к сердцу дела Европы, и в частности – сложные отношения, возникшие между прусским и русским дворами.
Лесток понимающе кивнул, пригубил вино.
– В разговоре было упомянуто и ваше имя.
– Фридрих передал мне привет? – весело спросил Лесток, но Сакромозо не отреагировал на шутку.
– Их величество король Фридрих помянул о ваших заслугах в делах мира и понимания в отношениях прусско-русских и уполномочил меня передать вам старый долг – пенсию размером в десять тысяч ефимков.
«Ну и скор молодец!» – ахнул про себя Лесток. Ему очень хотелось спросить: «Деньги при вас?» – но вместо этого он сказал подчеркнуто вежливо:
– В какой форме мне передать благодарность королю Фридриху – письменно или на словах?
– На словах, – без тени улыбки ответил Сакромозо.
Они отлично понимали друг друга.
На сладкое был дивный ореховый торт, украшенный цукатами и инжиром. В отсутствие рыцаря Лесток отпробовал бы добрую половину этого кулинарного чуда, но здесь он решил быть сдержанным.
Рыцарь с отвлеченным видом выковыривал из ломтика торта грецкие орехи.
– Вчера у меня случился разговор с голландским посланником Шварцем, – сказал он наконец, делая какой-то неопределенный жест рукой, словно закручивая ее спиралью. – Посланник негодует, что армия Репнина застряла в Гродно. Репнин что – болен?
– Генерал-фельдцейхмейстер не столько болен, сколько стар, – с готовностью ответил Лесток. – Армия действительно три недели проторчала в Гродно, но теперь она заметно продвинулась. К местечку Гура… это в десяти верстах от Гродно. А по договору с союзниками армия должна была на исходе апреля быть уже в австрийских владениях. А что барон Претлак? Вы с ним не разговаривали? Тоже, должно быть, негодует. А лорд Гринфред?
Претлак был австрийским посланником, Гринфред – английским. Привлекая к разговору Австрию и Англию, Лесток расставлял все знаки препинания, называя союзников.
– В Лондоне каждый день высчитывают, сколько миль в сутки проходит русская армия, – продолжал он насмешливо, словно и не разглашал государственной тайны, а мило острил по поводу человеческой глупости. – По моим сведениям, если пройденные мили разделить на дни, то получится, что наша армия уже повернула назад.
– А это возможно? – быстро спросил Сакромозо.
– Ни в коем случае! Она идет к Рейну. Зачем? Ах, сударь, я думаю, об этом не знает даже Господь Бог, настолько все запутал канцлер Бестужев. В Иностранной коллегии запротоколированы все его противоречивые указания.
– В Иностранной коллегии?
– А где же еще? Этим занимаются тайный советник Веселовский, а также генерал-фельдмаршал Леси, вице-канцлер Воронцов и кригс-комиссар Апраксин. Армия идет через Литву на Краков, затем в Силезию. Идет одной дорогой, разделившись на три колонны. Платят, а также обеспечивают продуктами и фуражом англичане. Считается, что армия идет для восстановления мира в Европе. Однако, – Лесток поднял палец, – если для восстановления мира понадобится еще одна война, Россия пойдет на это, естественно, вместе с союзниками.
– С кем именно?
– По обстоятельствам, мой друг, – вздохнул Лесток и подивился внутренне, как естественно он называл Сакромозо своим другом. – Одного боюсь, что Бестужев задержит продвижение нашей армии и этим спасет ее от неминуемого поражения.
Рыцарь долго смеялся над удачной остротой, которая через день полностью вошла в депешу прусского посла своему государю в Потсдам. На все вопросы в этот вечер рыцарь получил ответ, время следующей встречи оговорил и заручился обещаниями кое-что узнать, вернее, уточнить даты. Ах, лейб-медик, налицо шпионская деятельность, но более всего Лесток пострадал именно за остроту в депеше Финкенштейна, которая была расшифрована в кабинете Бестужева, переписана и тяжелым грузом осела в досье на Лестока, которое собиралось канцлером уже много лет.
Софья
На правом берегу Невы, выше впадения в нее Фонтанной речки, размещался район города, называемый ранее Московской стороной и переименованный впоследствии в Литейный по имени заводика, занимавшегося литьем пушек. Первоначально этот район города был задуман как аристократический, и Первой Береговой улице, по замыслу Петра, надлежало стать главной магистралью Северной столицы. Архитектор Трезини строго распланировал улицы, вдоль набережной один за другим выросли дворцы для родственников Петра и самых именитых сановников. Здесь поселились Наталья Алексеевна – любимая сестра царя, и сын его, Алексей Петрович, тогда еще наследник, и Марфа Матвеевна – вдовствующая государыня, супруга покойного Федора Алексеевича, и любимец царя Юрюс – генерал-фельдцейхмейстер и директор литейного завода. Дальше к Смоленскому двору находился дом обер-гофмаршала Левенвольде и роскошные палаты Кикина.
Жизнь кипела в Московской стороне, но время забирает всех. Разной смертью ушли в мир иной обитатели аристократического квартала. Центр Петербурга переместился, и Литейная сторона зажила новой, трудовой и озабоченной жизнью.
Дворец Натальи Алексеевны со всеми подворьями был занят Канцелярией от строений и мастерскими департамента. Дом Алексея Петровича перешел в ведение Дворцовой канцелярии, в нем стали варить различные пития для царского дома. В палатах покойной Марфы Матвеевны поселились архитекторы, в бывших амбарах оборудовали печи, и скульптор Растрелли принялся за отливку конной статуи императора. Палаты Кикина были отданы под Морскую академию, в которой проходили курс кадеты и гардемарины.
Словом, сейчас, двадцать три года спустя после смерти Петра Великого, Литейная сторона совершенно изменилась против первоначального плана. Указ «строить дома вплоть нити, натянутой между вехами», здесь уже не соблюдался. В былые времена нарушителей, чей особняк выпирал из ряда, или, наоборот, пятился в глубь улицы, или, еще того хуже, – прятался за забором, мало того что штрафовали, так еще лишали построенного жилья.
Теперь же всюду царствовала живопись почти московская. Искрошив границы площадей, выстроились какие-то склады, палатки, пакгаузы, боком примкнули к улице какие-то новые рубленые хоромы, разрослась молодая роща, поглотив останки разрушенного, кое-где еще блестящего позолотой мазанкового дворца, сами собой бестолково и не к месту выросли заборы, вдоль них поднялся пышный пырей и прочий бурьян. Улицы стали изгибисты и вихлявы, пробираться по ним в карете стало сущим мучением, не забывайте еще про топкую, пропитанную влагой почву. Ближе к Фонтанке разместилась убогая слобода мастерового люда с хижинами, крытыми соломой и дранкой, рынок, прозванный Пустым, и, наконец, Литейный завод с башнями и шпилями на них, которые наперекор окружающему пейзажу имели экзотический восточный вид.
По соседству с Канцелярией от строений за типовым забором (впрочем, слово «типовой» тогда не применялось, говорили «повторный») разместился каменный двухэтажный дом с высокой, с изломом кровлей и крыльцом по центру. Дом этот с садом и подворьями был откуплен у Канцелярии неким весьма богатым иностранцем – ювелиром Луиджи, работавшим украшения для дворца ее величества. Венецианец Луиджи займет особое место в нашем повествовании, а пока лишь скажем, что он же является хозяином небольшого флигелька с мезонином, стоящего в глубине сада.
Флигелек два года назад был снят мичманом Корсаком с семейством. Дом этот, может быть, и не отвечал всем запросам молодого мичмана: он был мал и отнюдь не дешев, по весне подвалы его заливала талая вода, плодя целые сонмы лютых комаров, но сад и некая изоляция от большого города пленили жену его Софью и маменьку Веру Константиновну. Сам мичман находил удобство в том, что буквально в двух шагах находилась пристань, к которой могли подходить катера, верейки и рябики. Кроме того, Морская академия была рядом.
В академии Алексей Корсак учился два последних курса, имел добрые отношения с преподавателями, посему, хоть и служил теперь на флоте, был в палатах Кикина частым гостем.
Спроси у Софьи любой – счастлива ли она в браке? – о, конечно, другого ответа нет и быть не может! У нее лучшие в мире дети, Николеньке уже четыре года, Лизонька – прелестный младенец. Вера Константиновна – почти примерная свекровь. Время не охладило Алешиных чувств, не убавило нежности, и Софья ни в коем случае не завидует женам сухопутных мужей, которые видят своих супругов каждый день или хотя бы каждую неделю. Она жена моряка, и этим все сказано.
Но одно дело, когда моряк в плавании, торговом или географическом, или, скажем, держава воюет. Но если флот русский пребывает в состоянии постоянного ремонта, если чинят его и зимой и летом, то можно, кажется, выкроить время для семьи. Три года Алеша с хмурым и решительным видом твердил, что эскадра давно бы вышла в море, если б не равнодушие Адмиралтейства, не происки чиновников в Военной коллегии; он месяцами пропадал в Кронштадте, словно купец, занимался покупкой такелажа и леса для мачт, а потом и вовсе отбыл в безвременную командировку в порт Регервик бить сваи. Теперь пишет письма и в каждом заверяет, что если к следующему месяцу не вернется, то непременно заберет Софью с детьми к себе. А зачем ей в Регервик, если и в Петербурге хорошо?
Вера Константиновна, в отличие от Софьи, ко всему относилась спокойно. Удел мужчин – служить, удел женщин – ждать, она давно привыкла к отсутствию сына. На старости лет Господь подарил ей семью и сподобил жить в столице! Петербург поражал ее воображение. Проживя всю жизнь в псковской глуши, она не переставала восхищаться славным городом и удобством его быта, а что касаемо погоды и угрозы наводнения, то все в воле Господней, а дождь – тоже Божья роса.
Внуки ее забавляли, но она не вмешивалась в их воспитание, не ссорилась с няньками, не выговаривала Софье, что гуляют много и лекарь у детей плох. Вера Константиновна вела хозяйство, и, хоть в доме милостью благодетеля Софьи князя Черкасского был полный достаток, можно даже сказать – богатство, она экономила на каждой мелочи, находя невинную радость в том, чтобы набивать чулок монетами разного достоинства – «на черный день». Она сама ходила со служанкой на Пустой рынок, отчаянно торговалась в мясных рядах, и в овощных, и в рыбных, но совершенно теряла бдительность в посудной лавке, которая торговала раз в неделю.
При виде пузатого молочника с цветком-колокольчиком, или лопатки для пирога с длинным стеблем и львиной рожей на конце, или старинной чары в виде лебедя она забывала, что «черный день» вполне может обойтись без подобных излишеств. Принеся посуду домой, она прятала ее в шкапчик под ключ, а потом, краснея как девица и кляня себя за расточительность, показывала покупки Софье. Та пожимала плечами: «Нравится, маменька, так и покупайте». Не таких слов ждала она от невестки. Софья должна была восхититься, потом узнать цену, потом порадоваться удаче, потом намекнуть: а не безумство ли это – тратить деньги на безделицы, и, наконец, простить свекровь из любви к искусству. Равнодушие Софьи обижало, и Вера Константиновна зарекалась – полушки медной не тратить больше на красоту! Но через неделю она попадала в посудную лавку, и все начиналось сначала.
Словом, жизнь в семействе Корсаков была тихая, размеренная, и, направляясь во флигель под кленами, Никита Оленев вполне предвидел, как трудно будет уговорить Софью поехать с ним на маскарад. Алеша аккуратно писал другу и в каждом письме непременно просил позаботиться о жене. Свою заботу Никита видел не только в том, чтобы справиться о хозяйственных нуждах и предложить свою помощь, но и в необходимости развлечь Софью, если представится случай.
Бал-маскарад в Зимнем дворце, что может быть восхитительнее! Там будут петь итальянцы и представлять живые сцены, сама государыня, наследник и великая княгиня предстанут перед публикой в маскарадных костюмах, весь Петербург будет там.
Время от времени Никита опускал руку в карман и ощупывал пригласительный билет, отпечатанный в Дрездене на атласной бумаге, украшенной причудливым рисунком. Билет с великим трудом достала во дворце Анастасия – Саша не забыл просьбы друга.
Сзади раздался гортанный крик, Никита поспешно отступил в сторону. На мост выскочила карета, и он увидел в окошке лицо мужчины, показавшееся ему знакомым. Встретившись с Никитой глазами, мужчина поспешно задернул шторку, словно намереваясь скрыть от постороннего взгляда соседа в треуголке.
Карета благополучно миновала мост, выскочила на мощенную деревянными плашками мостовую и вдруг – трах! Колесо попало в выбоину, и тут же, как на грех, подвернулся камень. Если бы не мастерство кучера, карета непременно завалилась бы набок. А здесь она каким-то чудом остановилась, и только колесо, соскочив с оси, продолжало самостоятельно катиться, поспешая к месту назначения.
«Ах, ох, тудыть тебя» и прочий набор междометий! Кучер поймал колесо и застыл около кареты, почесывая затылок, – одному, пожалуй, не управиться.
Из кареты вышли двое, обругали кучера, но сдержанно, не по-русски, и быстро пошли прочь от кареты. На ходу тот, что задергивал шторку, оглянулся, и Никита его наконец узнал.
Дворянин, приехавший в Россию по делам купеческим, – Ханс Леонард Гольденберг. Это был первый иностранец, кому Никита оформлял паспорт, и, конечно, он не запомнил бы Ханса, если бы обер-секретарь не торопил, прямо бумагу из рук рвал – скорей, дело важное. У Гольденберга была запоминающаяся примета – правая бровь рассечена шрамом и вздернута, словно в усмешке.
Кучер, смачно ругаясь, ставил колесо, вокруг собрались зеваки. Спутника Гольденберга, высокого красавца в подбитом мехом плаще и треуголке с позументом, Никита раньше не видел. А почему, собственно, красавца? Может, у него нос длинный, как морковь, и косоглазие – что скажешь о человеке, видя его только со спины. Но рост, посадка головы, походка – все выдавало в незнакомце породу.
Никита выпрямился, подобрав живот, изящным движением поправил шляпу и, копируя походку незнакомца, легко зашагал за ними вслед. Вот как нужно ходить! Тогда хоть со спины, но каждый скажет – вот красавец пошел…
Видимо, двум мужчинам показалось, что их преследуют. Они прибавили шаг, а потом резко свернули за угол.
Никита рассмеялся, позволил себе расслабиться и своей обычной походкой вошел в калитку сада господина Луиджи.
Софья очень обрадовалась его приходу, потащила в детскую, наказала кухарке увеличить вдвое количество блюд к обеду – у нас гость дорогой! Но когда она услышала про маскарад – категорически сказала «нет». Никита вздохнул и принялся уговаривать.
Софья слушала его насупившись. Куда ехать, если у Николеньки горло красное, а Лизонька с утра капризничает! И потом, с чего он взял, что она жертвует собой ради дома? Жертва – это когда на костер идешь, когда во имя чего-то высокого жизни не жалеешь, а отказ от всей этой мишуры – бала, танцев, помилуйте, это просто исполнение материнского долга.
Тогда Никита повернул разговор на боковую тропочку, как бы к Софье отношения не имеющую…
– Голубчик мой Софья, пойми… Ты обяжешь меня на всю жизнь! Билет на две персоны. Я не могу поехать во дворец без дамы!
С таинственным видом он начал намекать на некую интригу, в которой Софья могла бы ему помочь, говорил, что она должна заменить на балу Алешку, который уж точно никогда не отказал бы другу.
– Но я замужняя дама, я не могу ехать во дворец с посторонним мужчиной!
– Это я-то посторонний?
– Я никогда не была в императорском дворце. Я не представлена ко двору!
– Я тоже не был. Я тоже не представлен. Что из того? Маскарад не признает условностей!
Дело решила Вера Константиновна. Она явилась в комнату, постояла в дверях, слушая их перепалку, и сказала решительно:
– Непременно надо ехать. Это такая удача – билет во дворец. Если Софья не поедет, бери, Никита-друг, меня. Уж я-то найду, чем заняться на маскараде. – Она вскинула голову и ушла на кухню следить за кухаркой, чтоб та не извела лишних продуктов.
– А костюм?
Никита понял, что барьеры пали.
– Через полчаса сюда приедут Сашка с Анастасией и привезут роскошный костюм!
При упоминании о Белове Софья слегка нахмурилась. Нельзя сказать, чтобы она недолюбливала Сашу, скорее просто стеснялась – уж очень он был в себе уверен и еще скрытен, еще напыщен, а потом эта дурацкая манера острить и все осмеивать! Право, его насмешливость касалась до всего, он мог ерничать даже по поводу детских болезней. А его отношения с Алешей… «Твоя приверженность русскому флоту просто смешна, – так он говорил. – Это безрассудство – любить то, чего нет!» Алеша относился к подобным замечаниям со смехом, он вообще прощал Саше любые слова и выходки, но Софья их прощать не хотела.
Другое дело – его жена. Ее нельзя было назвать подругой, слишком они были разные, да и виделись крайне редко, но Анастасия любила их флигелек, часами могла слушать о детях, и Софья забывала, что она гордячка, что приближена к государыне и ведет жизнь, совершенно отличную от ее собственной.
Саша приехал один, был сух, официален, сказал, что Анастасии не удалось вырваться из дворца и что она их там встретит. Нахмуренное лицо его как нельзя лучше шло к чопорному испанскому костюму, состоящему из атласной, подбитой ватой куртки с неимоверно узкой – не вздохнуть – талией и коротких штанов.
Костюм Никиты не имел названия, что-то средневековое, скажем, из жизни алхимиков: бархатный плащ, берет с длинными, поднятыми вверх краями и черная маска-лорнет.
– А повеселее ничего не было? – спросил Никита, примеряя берет.
– А чего тебе веселиться? – недовольно пробурчал Саша. – Ты мизантроп. И попробуй подобрать костюм на твой рост? А в этом берете ты похож на Эразма Роттердамского.
– Такой же умный… – Никита скорчил рожу в зеркале.
Но Софья… Приняв трепетными руками коробку с костюмом, она надолго исчезла из комнаты, а потом появилась в чем-то красном, сверкающем, флорентийском или венецианском, словом, что-то из эпохи Ренессанса. Голову ее украшал замысловато повязанный прозрачный шарф с ниспадающими на плечи концами, на висках туго, как пружинки, вились локоны. Эта прическа делала ее похожей на одну из итальянских мадонн, а слабая озабоченность больным горлом Николеньки и капризами Лизоньки и, конечно, раскаяние, что она идет куда-то без мужа, выражались чуть заметной складочкой меж бровей, делая ее строгой и по-царски неприступной.
– Богиня! – развел руками Никита.
– Вам очень идет этот костюм, – согласился Саша, и в голосе его не было и тени насмешки, а только улыбка и восхищение.
Пестрая троица вышла в сад, смеясь и разговаривая. Когда они подошли к дому Луиджи, створка окна на втором этаже внезапно растворилась и Саша встретился глазами с обладательницей черных глаз и темных локонов, перевязанных желтой лентой.
– Какая пригожая девица!
– Где пригожая девица? – встрепенулся Никита. – Обожаю смотреть на пригожих девиц.
Однако в окне уже никого не было.
– Наверное, это Мария, дочь Луиджи, – сказала Софья. – Она недавно приехала из Италии, из какого-то монастыря. Такая скромница… – добавила она насмешливо. – Воображаю, как удивил ее наш вид.
Они обогнули дом. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Мария накинула мантилью, бросила взгляд в зеркало, сбежала вниз по лестнице, выскочила в сад, а затем, едва сдерживая дыхание, чинно, как бы гуляя, проследовала навстречу Софье и ее гостям.
– А вот и она, – негромко рассмеялась Софья. – Мария, добрый вечер! Позвольте представить вам моих друзей…
Испанец Белов щелкнул каблуками неудобных туфель. Эразм Роттердамский, он же Никита Оленев, склонился в поклоне, помахивая беретом, словно пыль с дорожки сдувал перед очаровательной девицей. Мария присела, лукаво тараща на него округленные глаза.
– Мне кажется, я вас где-то видел… – нерешительно промямлил Никита.
– Я тогда была как мокрая курица, которую сунули в прорубь, – с удовольствием согласилась Мария. – Я вас сразу узнала. У меня остался ваш плащ. Я принесу… – Она сделала стремительное движение, но Софья удержала ее.
– В другой раз, – сказала она непреклонно. – Никита – частый гость в моем доме.
- Трое из навигацкой школы
- Свидание в Санкт-Петербурге
- Канцлер
- Закон парности
- Слоны Ганнибала
- Трое из навигацкой школы
- Канцлер
- Закон парности
- Свидание в Санкт-Петербурге
- Белая рабыня
- Паруса смерти
- Сказание о граде Ново-Китеже
- Последний часовой
- Таинственный двойник
- Воевода Дикого поля
- Камеи для императрицы
- Русский легион Царьграда
- Гибель Царьграда
- Дуэль на троих
- На край света
- Чекан для воеводы (сборник)
- Меч Вайу
- Карфаген должен быть разрушен
- Окаянная сила
- Слепой секундант
- Аляска, сэр!
- Вайделот
- Звенья разорванной цепи
- Заклятие Лусии де Реаль (сборник)
- За столбами Мелькарта
- Батареи Магнусхольма
- Шпионские игры царя Бориса
- Царское дело
- Чернокнижник
- Холод южных морей
- Тайна могильного креста
- Карнавал обреченных
- Курьер из Гамбурга
- Кладоискатели
- Наследник поручика гвардии
- Курляндский бес
- Наследник Тавриды
- Однажды в Париже
- Ниндзя в тени креста
- Повелители волков
- Посох волхва
- Приключения поручика гвардии
- Последний поход «Новика»
- Офицерская честь
- Принцесса крови
- Приключение ваганта
- Полет орлицы
- Операция «Аврора»
- Проклятие красной стены
- Агент из Версаля
- Блудное чадо
- Забытый князь
- Завещание лейтенанта
- Изгои Рюрикова рода
- Карта царя Алексея
- Корсары Мейна
- Грозное дело
- Месть Аскольда
- Имперский раб
- Двести тысяч золотом
- Наблюдательный отряд
- Олимпионик из Ольвии. «Привидения» острова Кермек (сборник)
- Через Западный океан
- Игра с Годуновым
- Пятый крестовый поход
- Жонглёр
- Русский с «Титаника»
- Дьявол против кардинала
- Четвертый бастион
- Тайна розенкрейцеров
- Персидское дело