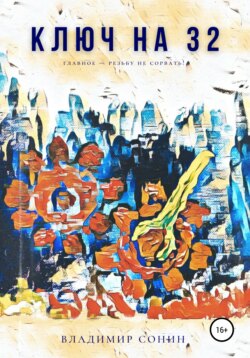Предисловие
Прочитав следующий абзац, не спешите эту книгу закрыть и бросить в камин (если, конечно, он у вас есть).
«В сущности, эта повесть – о тех временах, когда наше общество, как никогда неоднородное и ко многому из того, что его неизбежно ждало, не готовое в силу ряда причин (часть из которых очевидна всем, а часть может быть понятна только людям, выросшим и воспитавшимся в тот период), – возможно, уже и не может быть до конца понята сейчас, когда мир настолько переменился. И если так, то хорошо, потому что это еще одно подтверждение того, что все изменилось. Рано или поздно все должно было измениться, потому что, во-первых, надо полагать, такое положение дел сколь угодно долго существовать просто не могло, а во-вторых, это был единственный возможный путь, единственное решение самой сложной задачи».
Такое идиотское предисловие я сочинил, когда писал эту книгу в первый раз. А потом был второй. У некоторых представительниц прекрасного пола так бывает: сперва приходит один, потом – второй, третий, семнадцатый, в конце концов. А потом лежит она вечерком на своей кровати и думает: угораздило же тогда, в самом начале, связаться с таким идиотом, и вообще все из-за него, и всю жизнь он мне испортил. А встретила бы я тогда нормального, так и жили бы долго и счастливо, с любимым и единственным.
Короче, открыл я через десяток лет написанное и, прямо сказать, удивился. Ну и бред, подумал. Сентиментальное дерьмо, да еще изложенное таким языком, что едва можно прочитать (ну, по второму абзацу вы это уже поняли). Слава богу, никто его не читал, потому что у меня хватило ума никому это не показывать.
Даже самому себе показывать не стоило бы, и следовало бы сжечь все это сразу же. Но случилось так, что спустя годы я все же открыл написанное. Открыл, ужаснулся и подумал, что надо переделать. Но вот только не сразу я сообразил, что, когда у тебя уже есть пара сотен страниц отборной дряни, попробуй потом переделай. Проще новое написать. Короче, помучиться мне пришлось изрядно. Это, опять же, к вопросу о том, что с самого начала надо все делать по уму: и мужиков искать (это рекомендация для женщин), и баб (это для мужчин, если что), и книги писать (это для тех, кто об этом подумывает). Но раз уж взялся, то надо доделать. Вот и решил. А почему именно так вышло, тоже поясню, только не сейчас – в процессе поймете. Иначе (то есть другого варианта, кроме того, что я эту книжку все же допишу) просто быть не могло. Поймете, когда прочитаете.
Теперь к названию. Сперва назвал я свою повесть «Самая сложная задача». Согласитесь, по-идиотски. Что тут еще скажешь? Мог бы я рассказать почему, да думаю, что и так все понятно: вроде как я задачу одну философскую сформулировал и попытался решить. Ну и решил. А что вы думаете? И задачу эту, и решение я тут оставил – на них (в основном) все повествование и держится, как Земля на трех китах. И вообще это даже не задача, а целая гипотеза, почти теория (осталось доказательство самую малость доработать). В общем, поэтому название изначально такое было. Да только все равно оно идиотское, хоть и как будто подходит. Новое, согласитесь, куда лучше.
А гипотеза в целом ничего получилась, красивая. Вот выйдет в свет эта книга – и включат мою задачу в список тех самых сложных задач, от которых математики всего мира сходят с ума, ломая себе головы. И будет она восьмой в этом их списке – что-то вроде восьмого чуда света. И действительно чудо, мать его.
Чудо в том, что это все вообще как-то существует.
Романтическое начало
За те дни множество раз находил я ее лицо в лицах других людей, но лишь на какое-то мгновение – до тех пор, пока не осознавал, что это невозможно. «Нет, не может быть», – говорил я себе. Каждый раз этого мгновения было достаточно для них, чтобы в ответном взгляде обозначить вопрос, какую-то смесь удивления, недоумения и любопытства, в которой любопытство перевешивало всё. Люди вообще часто недооценивают взгляды, жесты, мимику, какие-то мельчайшие движения губ, глаз, бровей, на самом деле все решающие. Едва заметный поворот или наклон головы, говорящий, по сути, то же самое, что мог бы сказать язык, делает это лучше для двоих понимающих, потому что это, говоримое и понятное обоим, не озвучено и потому не понятно никому, кроме них. Этого мгновения, когда мой взгляд встречался с их взглядами, было достаточно, чтобы в их головах созревало несколько десятков предположений, пусть и не оформленных еще в законченные предложения, вроде: «Почему он на меня так смотрит?», «Я ему интересна?», «Мы знакомы?», «Откуда мы можем знать друг друга?» – и так далее. Некоторые из них утвердительные, некоторые вопросительные – с одной и той же, впрочем, формулировкой, отличные только этим кривым знаком, который ставят в конце, когда все не так однозначно: «Я его где-то видела…» и «Я его где-то видела?».
Каждый раз я, неспособный ничего с этим поделать, чувствовал себя нелепо, уподобляясь голодному щенку, который бродит по городу и заглядывает в лица прохожих своими большими добрыми глазами с такой надеждой в их глубине, что отказывая ему лишь потому, что поделиться просто нечем, невольно чувствуешь себя злодеем. Порой она, то есть идущая впереди другая, похожая на нее потоком черных волос, ложащихся на плечи, вызывала приступ лютой ревности, потому что ее рука была вложена в руку того, другого, не мою. «Это не она», – говорил я себе, но, толком не осознавая, зачем я это делаю, обгонял их – ее и ненавистного его – и оборачивался: просто так, на всякий случай, убедиться, что это все же не она. Но после – и это было самым нелепым – я, уже не в состоянии остановиться в этом порыве, направлял свой взгляд на него, прямо в глаза, и он, недоумевая, читал в нем, исполненном отчаяния и ненависти, такой вызов, что невольно на долю секунды, спустя которую наши взгляды уже расходились, замедлял шаги.
Как безумный я ходил по этому поросшему бурьяном городу (что уже не так часто встретишь в городах покрупнее), среди старых, начала прошлого века домов, иногда спускаясь на набережную той холодной реки, которая, говорят, единственная вытекает из огромного озера, тогда как десятки или даже сотни других в него, это озеро, впадают. Мой взгляд сквозь решетку ограды, которая (что символично) нас разделяла, вернее не позволяла мне приблизиться, скользил по глади воды, темной и отчасти поэтому сравнимой с гладью ее черных волос, и разум мой безнадежно повторял, не находя ему замены, именно это слово: единственная.
Видя там, вдалеке, окончание, неотвратимо приближающееся и потому заставляющее и без того уставшее сердце стучать еще более отрывисто, дошедший почти до крайности разум порождал сам для себя выбор, безумный, но ожидаемый: налево – по лестнице вверх, снова в город, к старым и знакомым уже домам, от которых словно веет духом старины, скучной, но теплой; или направо, к ограде, а затем, через нее, – вниз, камнем, к ней, в нее, на мгновение и навсегда.
На обратном пути я заходил в ресторан, в котором услужливый и всегда готовый предложить, по его мнению, лучшее пиво официант, только завидев меня в дверях, радостно бежал, чтобы встретить и усадить за столик, делая это так естественно, что любой на моем месте поймал бы себя на мысли, будто невольно начал верить в то, что действия этого подлизы самые искренние.
Я заказывал пиво, то же самое, что и в прошлый раз, впрочем, уже даже не называя его, потому что оба мы играли в эту игру, в которой он услужливо предлагает (разумеется, самое лучшее), а я уступчиво следую его рекомендациям. Я делал так, потому что в действительности мне было все равно. В действительности нам обоим было все равно, но мы продолжали изо дня в день играть в эту дурацкую игру, каждый раз одинаково начиная ее и одинаково заканчивая, не имея друг к другу ничего, кроме уже ставшего привычным набора движений.
Я заказывал пиво, а когда кружка оказывалась пуста, закрывал глаза, и слегка захмелевшее воображение несло меня вдоль ограды, сквозь которую я смотрел на нее – единственную, близкую и недостижимую, и приближало к тем, держащимся за руки двоим, усиливая ощущение ревности от становящегося все ближе звука его отвратительных шагов рядом с ней. И тогда, лишенный сил это выносить, я открывал глаза и, очнувшись, снова ощущал запах старого теплого помещения и уже наяву слышал приближающиеся шаги спешащего предложить добавку официанта.
Сейчас, когда прошло достаточно времени, чтобы те ощущения переросли в другие, которые можно назвать одним общим словом вроде «грусть» или каким-то подобным, интересно, или, по крайней мере, забавно (употребляю это слово здесь с некоторым оттенком иронии) стоять на той же самой набережной, наблюдать чаек, которые, налетавшись над черной водой, садятся на ограду в надежде, что их покормят, заходить в то же кафе, где уже нет того официанта, возвращаться в гостиницу и все еще вспоминать то, что тогда произошло…
А тогда произошло то, что я полночи развлекался с ней в ее постели, и сожалею сейчас только о том, что не всю ночь. Вот так. Романтика с годами исчезает. А остается осадок истинных чувств, не хуже чем «да» и «нет», вроде как «было», «не было». А все сопутствующее – к черту стирается. Ума не приложу, как можно всю жизнь любить одного человека, когда спишь с другим. Бред собачий. Не человека ты любишь, а собственные сопли столетней давности. Дочь достает козявки из носа и ест их. Многие дети так делают. Предлагаю свои – не хочет. И правильно, потому что нечего навязывать кому-то свои сопли. А вот как развлекался с кем-то в его постели в пятницу вечером – здесь мы рады послушать, милости просим.
Гипотеза. Часть первая
Так в чем суть гипотезы? Сейчас попробую объяснить. Нет, не сразу. Потому что это будет долгое объяснение. Сейчас я только начну. А продолжу потом.
Представьте, что впереди темнота. Да такая, что даже на пару метров вперед не видно. И только очередной шаг открывает то, что эта темнота собой скрывает. Это похоже на то, как идти в тумане. Хотя какая разница? Да никакой. И чего это я про туман заговорил? Потому что вроде бы в тумане не так страшно. Ладно, глупости все это. Главное – суть. А суть в том, что впереди не видно ровным счетом ни черта.
Под ногами тропинка. А впереди постоянно что-то мерещится. Глаза не видят, а мозг сам рисует себе картинки – что-то вроде снов по ночам, вроде фантазий: вот-вот наткнешься на голую бабу (или на мужика – кому что). И вот впереди как будто что-то есть. Как будто это что-то ценное, как золото, целая горка, такая, до пояса. Это заставляет глаза раскрываться еще шире, сердце биться чаще, а походку делает еще более неуверенной. Это все, конечно же, от ликования по поводу того, что самое сокровенное желание исполнено. Еще шаг, и золото твое! Руки загребают его и сваливают в сумку, а потом, когда сумка наполнится, – в карманы штанов, так что штаны сползают, но ты их держишь изо всех сил, хотя они и трещат по швам. Сейчас ты счастлив, абсолютно, как ребенок, до поросячьего визга, до полного восторга. (Если ваши желания не связаны с золотом, неважно: представьте вместо него что угодно, это совершенно не меняет сути.)
А может быть, все совсем не так. Может быть, золото только почудилось, а сделал шаг и разглядел, что никакое это не золото, а самое настоящее дерьмо. Стоишь и не желаешь верить в такую действительность. Но выбора-то у тебя нет – бери. Почему? Да потому что надо брать. Надо брать, что есть: хоть золото, хоть дерьмо. Таковы правила, тут ничего не попишешь: ввязался в игру – будь добр соблюдать условия. Каждый, кто ступил в темноту, кто идет по этой тропинке – то есть каждый вообще, – не знает, чего ему ждать в следующий момент, и риск того, что он наткнется не на золото, а на что-то другое, очень и очень велик. Однако несмотря на это люди мало того что продолжают сами идти, так еще и выпускают новых людей. Запахло философией? Не торопитесь с выводами. На самом деле это математика. Там дальше и формулы будут. Впрочем, нет. Из этой редакции рукописи я все формулы выкинул, чтоб не засорять ваши головы. А особо умные и без меня их выведут. Но до этого еще далеко. А пока продолжим с размышлениями.
Не могут люди не выпускать новых! Не могут они сойти! Не могут не взять то, что встречается на пути! Ничего они не могут! Вот в этом вся суть.
Куда бы ты ни шел, впереди всегда темнота, а под ногами всегда тропинка. И непонятно, то ли ты идешь по тропинке, то ли она появляется там, где ты идешь. И это важно. На это прошу обратить особое внимание. Эта мысль – одна из главных, это принцип предопределенности и безысходности. Иначе говоря, нет у вас (и у меня тоже) другого выхода, кроме как идти по этой тропинке в темноте.
Иллюзии, сны, мечты – называйте как угодно – никаким образом не влияют на дальнейшие шаги просто потому, что они, эти шаги, предопределены. Наши мечты не хуже, чем мечты трамвая, который может грезить о чем угодно, но это не будет иметь никакого отношения к тому, что он делает в действительности. А все, что он может делать, – это ползти по кривым железным рельсам, по своей тропинке. И захоти он полететь в космос, это ничего не изменит.
Теперь понятно, к чему я веду? Половину жизни мы проводим в иллюзиях, но это ничего не меняет. Может быть, отбросить все и ощущать вокруг только реальность? Нет, потому что если вы спросите, где эта самая реальность, то я отвечу: только вот здесь, в полуметре от вас. А иметь полуметровый кругозор – значит развить скудоумие. Уж лучше в иллюзиях, да широко. Я так думаю. Впрочем, здесь выбор каждого.
И вот что выходит.
Во-первых, жизнь неидеальна (помните про кучу дерьма, да?). Ага, можете кинуть в меня парочкой тухлых помидоров за такой гениальный постулат. Во-вторых, в ожидании лучшего мы продолжаем двигаться вперед, хотя то, что впереди, нам не известно ни в какой мере, но это движение мы не можем остановить. Этот вывод уже посерьезнее, правда? В-третьих, человек с самого рождения живет, находясь под непрерывным воздействием невероятного количества событий, которые влияют на каждый его дальнейший шаг. А вот это вообще сильно. И вдумайтесь: даже само рождение человека – это уже результат сплетения огромного количества событий, которое и определяет, когда и где человек родится.
Вот ты родился, допустим, в пятницу, семнадцатого апреля, потому что за несколько месяцев до этого (хорошо если за девять) твои родители занялись тем, что обычно приводит к появлению детей (вы же понимаете, о чем я?). И тогда, девять месяцев назад, жарким летом, на одной из пьяных вечеринок твоя мама была в коротком платьице, да еще и в период овуляции, а папа – настоящим ковбоем, который уже был в поисках той, на ком можно охладить свой пыл… Короче, вот там все и произошло. Случайность? Да хрена с два это случайность!
И вот ответьте мне теперь те, кто родился семнадцатого апреля, и другие тоже: насколько при таком положении дел справедливо рассуждать о том, будто человек волен решать, что ему предстоит сделать в каждый момент времени?
Ну, на сегодня хватит этой теории. Потом продолжим. Позже.
Кофеин, адреналин и аппарат для массажа сердца
Сейчас я твердо убежден в том, что миром правят ублюдки. Сначала я, может быть, и по-другому думал. Но может ли быть по-другому? Тогда бы какой-то рай наступил. Ага, рай под пальмами, где негры забесплатно предлагают кокаин, а загорелые, накрашенные и пахнущие фиалками шлюхи сами запрыгивают на всех желающих, жены которых не то что не возмущаются, а даже советуют вроде: «Давай вот это, он так больше любит». На деле же все иначе: попробуй только сказать жене про шлюху, так получишь сразу таких, что мало не покажется. А значит, что-то в этом мире неправильно. Далеко нам до рая, и тем, кто наверху, всеобщий рай совсем не нужен. Ублюдки. Говорю же, ублюдки.
Может быть, это неправильное мироощущение и пришел я к нему не иначе как рассуждая про рай под пальмами, но таким уж оно сложилось и день ото дня только продолжает укрепляться. И сложилось-то не сразу: до такого дойти надо, постепенно, как доходят до всего, в том числе до алкоголизма или до нюханья всякой дряни.
Сижу у парикмахера, стригу волосы. Рассказывает про свою жизнь:
– Да меня прав лишали три раза…
– В смысле – останавливали «под этой темой»?
– Типа того. Тормозят. Ну, по мне-то видно, что я не алкоголик. Но то, что наркоман, на роже написано.
Я пока что до такого не дошел. Так, пропускаю пару бутылочек пива по вечерам. Но это вроде как еще не алкоголизм. И не надо убеждать меня в обратном. Себя лучше убеждайте. И никакое это не отчаяние, или разочарование, или сожаление, но именно мироощущение. Таков этот мир. Имеем, что имеем. Живем, где живем. И как в старом анекдоте про то, как червячок просыпается в куче дерьма и спрашивает папу, мол, почему мы в дерьме, когда другие в яблочках, а папа ему отвечает: «Есть такое слово «родина», сынок». Нет, родину-то я люблю, и не о ней речь. Все же у нас лучше, чем у многих, и это надо ценить. Тут я безо всякой иронии говорю.
– Не ври, тебе не больно, – говорила тетка в белом халате, сверля мой зуб без анестезии, в то время как я орал, потому что больно было так, что глаза на лоб лезли и передергивало всего: прошибающая все туловище боль, такая, что навсегда запомнил. Лет пять мне было.
– Я только посмотрю, – говорила уже другая, но похожая на ту, первую, повадками, по которым дети безошибочно распознают всякую мерзоту. Конечно, я ей не поверил, но все же открыл рот, потому что выбора у меня не было, ясное дело, никакого. Тогда она схватила мой зуб щипцами и вырвала его. Хотите знать насчет анестезии? Не было никакой анестезии! Иначе черта с два я запомнил бы ее на всю жизнь! Впрочем, много еще таких было и есть, да и будет. А как иначе-то?
Прихожу на днях к стоматологу.
– Ну, как сегодня настроение? Есть желание вырубиться? – спрашивает женщина в белом халате.
– У меня-то нет, а какие там желания у моего мозга – ума не приложу, – отвечаю.
– Все-таки ты псих ненормальный.
– Знаю.
Это традиционно. Так обычно и происходит. Говорю: «Ребята, сейчас я буду в обморок падать. Готовьте свои причиндалы: нашатырный спирт, кофеин, адреналин, аппарат для массажа сердца и прочее, что у вас там есть в заначках».
Она поит меня сладким чаем, заставляет съесть две шоколадки, дает в руки детские игрушки-эспандеры, чтобы я их сжимал и разжимал, медсестре приказывает водить по лбу чем-то колючим, сама рассказывает смешную историю и делает анестезию. «Это, – говорит, – чтоб твой мозг отвлекался и не думал, о чем думать не надо». Назвать расценки этой стоматологии? Ладно хоть деньги на это есть.
Так и бывает, когда всех под одну гребенку: тысяче ничего, а одному на всю жизнь потом: сиди, сжимай резиновые игрушки (нет, не те, о которых вы подумали), заставляй поить себя чаем, откачивать при виде инструментов и прочего и при этом смейся сам над собой: дебил, тебе тридцать пять лет.
И потому не принимаю я совкового подхода. Сейчас пусть только попробует какой-то гад, хоть и в халате, выдрать вот так зуб или посверлить, чтоб было больно, – проблем не оберется. Да и на ум уже не придет никому такая дикость. А тогда новокаина было им жалко, что ли? Дефицит? Или принято было терпеть? Сиди себе и ори, пока не обосрешься. А обосрался – еще и за это получишь. Особенно если ребенок. Дети вообще не люди были. Вот что я понял. Вот такая система. И ни один врач ни за что не может пойти против системы, даже если он сам лично имеет другое мнение.
– …Товарищ главный врач, а это нормально, если ребенок обосрался и потерял сознание, когда я начал прочищать лунку от нагноения?
– Иногда это случается. Для надежности советую привязать ремнями руки и ноги. Они иногда ими дергают. Главное, никогда не колите обезболивающее.
– Вы меня успокоили. А то я уже засомневался в методике Срутского-Ублюдского.
– Коллега, эта методика, как и все советские методики, не имеет аналогов в мире. А сомневаться в ее эффективности мы просто не имеем права.
– Отлично. Пойду вырежу кисту без новокаина.
– О, я вижу, вы осваиваете новые горизонты. После обязательно напишите статью в нашем вестнике «Красный бинт»…
Никто не может пойти против системы, за исключением каких-то редких безумцев, которые потом неизбежно за эти попытки расплачиваются. Но таким безумцам надо отдать должное, потому что они, как правило, опережают время и предвосхищают общие тенденции в обществе.
А если их в расчет не брать, то для остальных самоцель – выжить и показать, что все хорошо. Это типа как надеть на угрюмое лицо маску с дебильной улыбочкой и расхаживать в ней по улицам, погрязшим в говне. Сидишь и смотришь на детские картинки на стенах: добренькие жирафики, львята, черепахи, крокодилы, – вдыхаешь запах лекарств, слышишь вопли других детей и ждешь своей очереди на казнь. Театр абсурда. Все мы нахавались этого в такой мере, что до сих пор тошно. А потом они удивляются, почему к совку так относятся. Вот почему. Для тех, кто не понял. И это не про любовь к родине, патриотизм и прочее. Это про другое. Про тех козлов, которые все это творили тогда и которых до сих пор предостаточно. Слава богу, сейчас они – вымирающий вид, хотя этого, конечно, не осознают и продолжают нести свою миссию бодро и уверенно, но от этого только забавнее.
Захожу в кабинет двух наших работничков, которых наняли совсем недавно. Одного их них, бывшего вояку, назначили начальником гаража. Другой, из чинуш местного разлива, – начальник хозяйственного отдела. Они меня не знали и не догадывались, что должность я занимаю не самую маленькую, несмотря на возраст. Я их тоже еще не знал. Не успели познакомиться.
Захожу, короче, в кабинет. Сидят, развалившись, два красавца той еще закалки и с чиновничьими манерами чай пьют.
– Здравствуйте, – говорю.
Один оценивающе оглядывает меня, едва приоткрывает рот и нехотя произносит:
– Здрасс…
Ну, думаю, ясно. Зашел по виду сопляк и отвлек двух уважаемых людей от важного дела. Грех на их месте не воспитать меня, демонстрируя собственную важность. От этой важности их обоих аж распирает.
Даю заявку на машину одному из них – начальнику гаража.
– Чё это такое? – спрашивает.
– Заявка, – говорю. – Машина нужна.
– Ну ты чё? Надо за три дня подавать. Не знаешь, что ли?
Отдает мне ее обратно и отворачивается чай пить. Развожу руками, говорю: «Ну ладно», ухожу к себе в кабинет и делаю звонок. Через пять минут этот дебил со следами только что пролитого чая у себя на рукаве прибегает и судорожно извиняется, изгибаясь и едва ли не ползая по полу. Гаденькие людишки. «Я же не знал, что вы… Я же не знал, что вам срочно надо…» Дрянь. Потом он меня с каждым праздником поздравлял. А вскоре, года через три, умер.
Вот так все это и устроено. Борьба нового со старым. И так во всем. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», сказал кто-то. А у нас одни перемены. Всегда. И от этих перемен дуреешь. Разваливаешься изнутри. Поколение за поколением развалин.