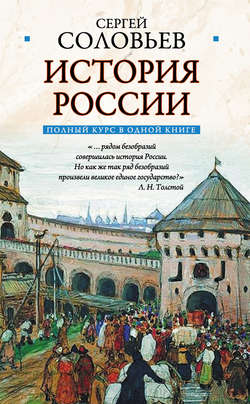Спросим человека, с кем он знаком, и мы узнаем человека; спросим народ об его истории, и мы узнаем народ.
С. М. Соловьев
Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразно в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неумение ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство? Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю.
Л. Н. Толстой
Предисловие. Труженик науки
В середине XIX столетия, когда в научном мире появился Сергей Михайлович Соловьев, русская историческая наука пребывала в состоянии практически зачаточном. Да, до Соловьева на этой ниве потрудились уже лучшие исторические умы – Татищев и Карамзин. Но первый собирал по крупицам факты родимой древности столетие назад, создав замечательное для своего времени сочинение «История Российская», в котором охватил события от начальных, то есть мифических времен, до конца XVI века. Татищев рассматривал историю с точки зрения монархической, то есть считал, что русское государство утвердилось и обрело силу благодаря монархическому правлению. Он был, как мы теперь говорим, едва ли не первым историком-государственником, то есть историком, видевшим движение прогресса в усилении и упрочении государства. Бесспорно, Татищев сделал очень много для зарождающейся русской исторической науки, но едва ли не самое важное, что для своей работы он использовал утраченные позже источники. Соловьев уважал Татищева, ведь именно тот впервые ввел в русскую историю такие понятия, как этнография и этногеография. Недаром он сказал о Татищеве такие слова: своими трудами Василий Никитич дал «путь и средство своим соотечественникам заниматься русской историей». В устах Соловьева это была наивысшая оценка. Другой историк, несомненно серьезный и крупный хотя бы в силу охваченного им материала, – писатель Николай Михайлович Карамзин, который начал с романов и закончил многотомным трудом «История Государства Российского». В отличие от спокойного и не склонного к аффектации Татищева, Карамзин был совершенно другим человеком. Из него так и выпирал писатель. Карамзин то возвышал свой голос до патетики, то опускал его до зловещего шепота. Недаром карамзинскую историю с удовольствием читали люди весьма далекие от науки и очень хвалили: Николай Михайлович любил писать душевно. В глазах Соловьева эта «душевность» только снижала качество карамзинского труда. Ученый, считал Соловьев, должен быть строгим и уметь оперировать фактами, сопоставлять их, а не просто переписывать летописные сказания. Карамзин, заставший на своем веку царствование нескольких монархов, назначенный главным историком страны при Александре Первом, конечно, не мог не славить своего «кормильца» и ту систему, на вершине которой стоял государь. Любое ограничение власти императора казалось ему кощунственным и недостойным истинно русского ума: силу государства он видел в сочетании самодержавия и православия. Православие в карамзинской системе власти в России выполняло функцию той божественной гири, которая при необходимости уравновешивала состояние общества, увеличивая вес, если народ вдруг выказывал недовольство или случалась какая-то внешняя беда, то есть вера, по Карамзину, внушала государям правильные действия для блага народа и она же сплачивала людей, заставляя их еще лучше служить своим правителям. Вполне очевидно, что в эту двуглавую модель Карамзин верил совершенно искренне, клеймя конституцию и прочие западные мерзопакости как непонятные и ненужные русскому человеку. Он страшно боялся возвышения аристократии, которая может свести все достижения самодержавия к нулю, ограничив власть государя. Вероятно, декабрьское восстание, которое он пережил едва на год, было для него неожиданным и весьма неприятным сюрпризом. «Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья», – считал он, так что посягнувшие на самое святое – самодержавную власть – ранили историка в самое сердце. Как можно посягать на палладиум, на лучшее, что есть и что создает страну? Все эти воззрения писателя-историка нашли отражение и в его научном труде. Соловьев, естественно, не мог не оценить подвиг Николая Михайловича, ушедшего в историю с 37 лет и до последнего вздоха, но он не мог воспринимать всерьез многое из сказанного Карамзиным, поскольку в голосе того преобладало более эмоций, чем трезвой оценки фактов. Правда, в юные годы карамзинская история была его любимым чтением. «Между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю Басалаева, – рассказывал он, – и эта книга стала моею любимицею: я с нею не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз; особенно прельстила меня римская история… Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Басалаева я достал довольно подробную историю аббата Милота, несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения… Единовременно, кажется, с Милотом, попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, то есть до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз, разумеется, без примечаний, но некоторые томы любил я читать особенно, самые любимые томы были: шестой – княжение Иоанна III и восьмой – первая половина царствования Грозного; здесь действовал во мне отроческий патриотизм: любил я особенно времена счастливые, славные для России… Двенадцатый том мне не очень нравился, именно потому, что в нем описываются одни бедствия России…»
Сам Соловьев стремился счастливо соединить следование фактическому материалу и красоту изложения. Однако факты интересовали его куда как больше. Читавший много и на разных языках, он стремился вводить в свои сочинения как изложение русских летописных источников, так и иностранные тексты, чтобы картина получилась полной и объемной, наиболее объективной, как ему казалось. Поэтому он склонялся к разбору фактического материала и сдерживал собственные порывы что-либо заметить по ходу повествования. Это у него получалось далеко не всегда. Иногда, разъяренный нарисованной только что неприятной картиной, он не сдерживался и давал оценку. Но в его трудах таких оценочных восклицаний совсем немного. Ученый вовремя успевал наступить на горло собственной песне, дабы вся лирика осталась за бортом, а не как у Карамзина – в тексте. Счастливцы, слушавшие курс лекций Соловьева по русской истории, вспоминали впоследствии, как воздействовало на них это строгое следование фактам. «Начали мы слушать Соловьева, – рассказывал его великий ученик Ключевский, – обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в словесную внизу высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица, без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать… Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение, но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете… Суть, основная идея курса как бы кристаллизировалась в излюбленных, часто повторяемых лектором словах – „естественно и необходимо“».
«Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории… Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом – историчностью».
Соловьев стал профессором в очень молодом возрасте – буквально со студенческой скамьи он перешел в преподаватели. И этой преподавательской деятельности он практически не оставил до смерти. Московский университет воистину стал его родимым домом. Читая курс истории своим студентам, Соловьев очень рано понял, что им нужна, прежде всего, хорошая и богатая фактами, требующими размышления, новая история. В «Записках», не предназначенных для чужого глаза, он о своем решении написать полную историю России говорил так:
«Давно, еще до получения кафедры, у меня возникла мысль написать историю России; после получения кафедры дело представлялось возможным и необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было, для составления хорошего курса, заниматься по источникам; но почему же этот самый курс, обработанный по источникам, не может быть передан публике, жаждущей иметь русскую историю полную и написанную, как писались истории государств в Западной Европе? Сначала мне казалось, что история России будет обработанный университетский курс; но когда я приступил к делу, то нашел, что хороший курс может быть только следствием подробной обработки, которой надобно посвятить всю жизнь».
Собственно говоря, на этот великий труд и ушла вся его жизнь. За 29 лет этой жизни он сумел издать 28 томов русской истории, последний, 29-й, вышел уже после его смерти. В год Соловьев писал по одному тому. Это была титаническая работа, поскольку приходилось не только переосмысливать факты, но и дополнять их, находить новые, устранять неточности, и, по сути, та история, которую он создал, для всех последующих историков стала лучшим сочинением такого рода.
По истории Соловьева учились и Ключевский, и Тихомиров, и Покровский. С Соловьевым можно было спорить, но даже на сегодняшний день – это наиболее полное фактическое изложение событий от древности до царствования Павла Первого. У Ключевского мы не найдем того обширного фактического материала, какие-то события он освещает мельком, какие-то и вовсе пропускает, но у Соловьева событие идет за событием, и каждое выписано детально, даже слишком детально. Именно эта детализация некогда происходящего обычно и «убивает» читателей, для которых история не профессия, а средство для любомудрия. Читатель при виде многотомной истории Соловьева делает глубокий вдох, ощущает мгновенное головокружение и ужас, что все эти тома придется прочесть. А когда начинает он чтение, то спотыкается о множество второстепенных фактов, скрупулезно выверенных и записанных Соловьевым. Поэтому читать его дилетанту сложно, за лесом он попросту не видит отдельно стоящих сосен. И дилетанту, конечно, не оценить, что сделал для русской истории Сергей Михайлович Соловьев. А сделал он немало, начиная с того, что сумел увести наиболее восприимчивого современного ему студента и читателя от карамзинской лирики к научному мировосприятию, причем ему удалось даже больше: он смог оттащить этого читателя от слюняво-патриотичного славянофильства, которое в его время набирало силы. И научная история пошла не вслед за Аксаковым, Погодиным, Хомяковым и Киреевским, а вслед за западником Соловьевым. И не было более среди историков ни единого славянофила, которому бы удалось оставить заметный след в науке. Соловьев очень просто и очень красиво показал, что история всех народов скроена по одинаковому образцу и движется по одинаковым законам, а если кому-то кажется, что для русской истории существуют особые законы и особый путь, – так это выдумка. И не столь важно, по какой причине ученый исповедует такой взгляд – от собственного недомыслия и заблуждения, или по заказу от вышестоящих инстанций, но все равно сути это не меняет – история как наука не понимает «особого пути» и «особых законов». Впрочем, несмотря на это отвращающее славянофилов отрицание особой русской дороги в будущее, Соловьев был человеком крайне лояльным к власти (пусть власть считала иначе, а – увы – она считала!) и верил, что в силу величины страны неограниченная власть является благом. Поэтому более радикальные современники искренне причисляли Соловьева тоже к славянофилам. И он находился всегда в странном положении: западник по образу мышления он часто бывал отвергнут западниками, а рассуждая – как он считал – объективно и с западнической точки зрения, вдруг оказывался для этих радикальных граждан в стане врагов – славянофилов. И ни те, ни другие не считали его своим. В этой парадоксальной позиции он и находился всю свою жизнь.
Подход Соловьева к науке истории станет более понятен, если вспомнить его основные ведущие идеи.
«Народы, – считал он, – живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные лица, как все живое, все органическое». Мало того, народы еще и следуют по четко обозначенному пути – все они стремятся к одной и той же цели, проходят одни и те же этапы развития, на них воздействуют в сущности одинаковые факторы, вынуждающие к одинаковым действиям. По сути конечная цель прогрессивного поступательного движения во времени – достижение христианского идеала всеобщего благоденствия и добра. Историк считал, будто бы история каждого народа имеет два этапа развития: в первый, младенческий этап, во главе народов стоят семьи и роды, то есть родовые отношения; в этот период преобладают чувства, как у ребенка, начинающего познавать мир, но не владеющего его законами, и события этого этапа складываются под влиянием эмоций, но не разума; во второй этап, зрелый, возникает государство с его законами, поскольку теперь преобладают уже не чувства, а мысли или идеи, поэтому отдельные личности перестают уже играть такую важную роль, они лишь более-менее удачно исполняют требования времени, приходя к власти, они вынуждены выполнять некие необходимые для развития страны действия, и на самом деле ни у кого из них нет абсолютной власти, поскольку они уже не могут действовать, исходя из одних только чувств, все их действия определены необходимостью.
«Произвол одного лица, – писал он, – как бы сильно это лицо ни было, не может переменить течение народной жизни, выбить народ из его колеи».
Забавно, но даже существование государства, которое громили Герцен (как негодное) и Бакунин (как всегда негодное), он рассматривал как великое благо для зрелого народа, потому что только законы государства могут оградить народ от своеволия правителей и аристократов, то есть государство скорее воспринималось им как народовластие (чего, конечно, в русской истории не было). Именно государство, по Соловьеву, держит в узде амбиции сановников и царей, заставляя их действовать в интересах народа и решать задачи, необходимые для жизни народа. В истории каждого народа на том или ином этапе развития выступает как необходимая одна какая-то идея, и пока она не будет исполнена, не начнется новый период. Однако народ в истории всегда выдвигает своих лидеров, проводников одной ведущей идеи, сам он при этом кажется незаметным, следов не оставляет, но можно понять, какова была задача и каким способом решалась, если рассмотреть этот «народный заказ» через призму того или иного вождя – царя, государственного деятеля или даже мятежника. Поэтому-то он и говорил, что «нет возможности иметь дело с народными массами, она (история. – Автор) имеет дело только с представителями народа…»
Это одна из причин, почему Соловьев много внимания уделял личности исторических персонажей, пытаясь разглядеть в них тот самый «народный заказ». Народ у него, как в трагедии Пушкина «Борис Годунов», находится где-то в темноте, за задником сцены, он безмолвствует. Но царь, князь или мятежник говорят вместо этого молчаливого персонажа в потемках сцены. К тому же действия народа определяются борьбой между двумя силами: одна стремится вести вперед, к цели, другая, косная, желает остановить прогресс.
Соловьев считал, что ведущая прогрессивная цель – это идеалы христианского мировоззрения (они по сути и вправду неплохи, недаром автор двенадцатитомной биографии Христа назвал того первым социалистом), но достичь этой цели не дает то, что батюшки именуют грехами, а историки – ограниченностью человеческого материала. Вот и получается, что вместо победоносного шествия к всеобщему благоденствию народы воюют за балтийский берег или штурмуют Казань. Но даже решение такой вроде бы не совсем связанной с христианскими идеалами задачи все же продвигает народ еще на крохотный шажок вперед. Шажок за шажком наиболее длительная и важная задача оказывается решенной, тогда завершается один период в истории и начинается другой. В связи с этим Соловьев объяснял, что разделить русскую историю на периоды можно лишь условно, а не как Карамзин на Древнюю, Среднюю и Новую. Напротив, нужно «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию…»
Условно он разделил историю России на четыре эпохи: от Рюрика до Андрея Боголюбского, то есть самую раннюю эпоху, когда главенствовали родовые отношения и народ переживал время «эмоций»; от Андрея Боголюбского до Романовых, когда создавалось государство (в том числе эту эпоху можно еще разделить на три: от Андрея до Ивана Калиты, период борьбы родовых отношений с государственными и победы последних; от Калиты до Ивана Третьего, или период централизации вокруг Москвы; от Ивана Третьего до Романовых, период полной и безоговорочной победы государственности); от Михаила Романова до середины XVIII века, когда Россия достаточно «повзрослела», чтобы вступить в союз с западными странами; от середины XVIII века до отмены крепостного права в 1861 году, когда страна избавилась от многовекового наследия прошлого, то есть период новой истории. Предшествовавшие Соловьеву историки делили прошлое страны на гораздо более мелкие этапы, в целом – по княжениям и царствиям. Соловьев «укрупнил» эти периоды, перешел от частных задач и событий к более широкому и масштабному полотну, показывающему начало вопроса, ход решения, итог. И история сразу же перестала быть просто чередой княжений и царствований, а наполнилась смыслом. Сегодня мы к этому давно привыкли. Во времена Соловьева такой подход к периодизации истории был революционным. Впрочем, это слово Соловьев не любил. Он считал, что революции никуда не продвигают народы, а только отвлекают внимание от насущных проблем. Движение по пути прогресса должно быть постепенным, поступательным, а революционные события происходят рывками, что для плавного и полноценного течения истории неприемлемо. Точно так же, как к революции в материальном мире, он относился и к резкой смене научных взглядов.
«Жизнь имеет полное право предлагать вопросы жизни, – писал он, – но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими достижениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».
Грубо говоря, для науки, если иметь в виду сбор фактического материала, это хорошо, поскольку не позволяет подгонять факты под новую теорию, а заставляет выводить новую теорию или новое правило согласно имеющимся фактам. В жизни, конечно же, революции происходили без всякого спроса у Соловьева. Россия, которая тоже находилась уже в преддверии революционной ситуации, поступательным путем Соловьева не пошла. И понятно, что сторонники радикального решения наболевших вопросов к трудам Соловьева относились прохладно. Но при всей холодности из-за расхождения во взглядах на возможность изменить жизнь одним махом труды эти они читали. Сами подумайте, кого они могли бы еще читать? Не Карамзина же, с умильным выражением лица созерцавшего своих высокорожденных героев? И не Татищева же, языка которого не понимали? А Ключевскому в год смерти Соловьева было еще 38 лет, и он только-только начинал работу над своей «Историей».
Начиная свою «Историю», Соловьев сразу же обращал взгляд к разноплеменному составу будущей страны и особенностям рельефа Восточно-Европейской равнины. Он сетовал, что западным странам гораздо больше повезло с рельефом, где существовали естественные границы между районами, потому легче и быстрее создавались нации, ограниченные природными рамками. В России же таких разделов практически не было, племена могли легко перемещаться, и централизовать их и выкристаллизовать из родового строя государственность и нацию оказалось гораздо сложнее. Нация произошла в результате племенного смешения. Соловьев был убежденным сторонником арийской доктрины (тут не имеется в виду нацистская теория Третьего Рейха!), арийцами он считал славян. И его государственное объединение ариев – это объединение всех славянских племен. В его время, когда русско-турецкие войны анонсировались как войны за освобождение славян от турецкого ига, это была тема актуальная. Историк искренне верил, что славянам-ариям будет лучше жить в одном славянском государстве, чем под властью турок. Видимо, он верил, что, в конце концов, славяне выполнят свою историческую задачу, то есть сольются в единую братскую семью. Наши уже советские политики в этом плане действовали точно таким же способом, что и царские генералы, – они тоже стремились объединить всех славян и даже сумели их объединить почти на полвека, пусть и не в единое государство, но в страны СЭВ, подконтрольные Москве. Знал бы Соловьев, что за святое объединение ждет его братьев-славян, может быть, не высказал бы своей заветной мечты о добровольном единении славянских ариев!
Как бы то ни было, но в единении разрозненных славянских племен на Восточно-Европейской равнине он видел только благо. Именно здесь были основаны первые княжества, начался переход от родовых отношений к более прогрессивным, государственным. Все время Киевской Руси Соловьев вовсе не считал государственным. Для него это было время торжества родовой собственности и родовых отношений. Вся днепровская земля оказалась во владении одного рода – Рюриковичей, которые, тем не менее, никакого государства не создали. Напротив, с потомков Ярослава начались страшные междоусобные войны, которые разрушали землю и не могли ничего дать. Современные историки находят в Киевской Руси все признаки государственности, Соловьев их в упор не видел. Он скрупулезно изучил генеалогию князей и летописные события и пришел к выводу, что, хотя там существовали города, государства как такового не имелось. Неспособность к созданию государства он выводил из особенностей южного характера (осевшие на юге варяги-Рюриковичи быстро утратили свой северный потенциал) – мягкая природа, хорошие земли, удачные для торговли места выработали характер ленивый, вспыльчивый, незаконопослушный, то есть совершенно не приспособленный к образованию государства. Вот это существование общей родовой собственности и нежелание упорно трудиться и помешали киевлянам начать сбор земель и создание государства. Потому Киевская Русь и погибла. Пришел Чингисхан – и погибла. А северо-восточная новая земля – напротив.
Стимулом к ее объединению как раз и стало иноплеменное нашествие из Сибири войск Чингисхана. Пока страна находилась под вражеским игом, в ней вызревала необходимость стать сильной, родилась и упрочивалась государственность, Москва стала стягивать вокруг себя славянские земли, началась колонизация не заселенных славянами территорий. На протяжении всего этого периода рождения русского государства происходила борьба между «лесными», то есть славянскими, и «степными», то есть тюркоязычными народами. И если Лев Николаевич Гумилев видел наших предков детьми Великой Степи, то Сергей Михайлович Соловьев их видел детьми Великого Леса. По Соловьеву, Великий Лес, в конце концов, победил Великую Степь.
Соловьев даже объяснял, почему жители глухого северо-восточного угла смогли объединить все земли и справиться с Великой Степью. Самой природой они были подготовлены к такому подвигу. Лес закалил их, научил выживать в самых трудных и гибельных условиях, он же помог им прятаться от врагов, наращивать капитал и силы, и в конце концов возмужавший северо-восток справился с поставленной задачей – то есть родил Московское царство.
«Народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию племена с характером противоположным», – сделал вывод Соловьев.
Иными словами, северо-востоку было назначено свыше родить государство и начать расширяться, колонизуя земли на юге, севере и востоке. Даже в самой особенности восточно-европейской равнины он видел ее предназначение: стать землей единого государства, поскольку на этой равнине нет разделяющих ее гор, и лежит она, ровная и обширная, от Балтийского и Белого морей на севере до Черного и Каспийского на юге. Только на востоке, за Волгой, начинается Уральский хребет. Но освоение и присоединение Сибири – это уже более поздняя эпоха. Совершенно искренне Соловьев считал, что жители этой восточно-европейской равнины спасли Западную Европу от монгольского вторжения. Россия, говорил он, никогда не вела захватнических войн, только освободительные: «отстаивалось не материальное благосостояние… но независимость страны, свобода жителей…» Так было во время половецких набегов, так было во время набегов дикой Литвы, так было во время рыцарских рейдов, так было и во время монголов. Правда, наряду с вышеназванными врагами Соловьев указывал еще одного, очень вредного и очень неприятного – казаков. Только разумная политика, заставившая Хмельницкого «передаться» под руку Москве, положила конец этим южным войнам.
Соловьев не оправдывал крепостное право, но пояснял, что иного способа упрочить государственность и накормить народ просто не было. Он говорил, что на столь обширной территории возможна одна лишь организация рационального хозяйства – поместная. Поместья давались служилому дворянскому сословию, но без насельников эти земли ничего не значили, поскольку их требовалось обрабатывать. Был только один способ удержать людей на дворянской земле – закрепостить. Прикрепленные к земле и хозяину люди не могли теперь уйти куда глаза глядят. Они вынуждены были смириться. Так на несколько веков установилось крепостное землевладение. В том веке, когда со свободными крестьянами произошла такая неприятность, заключает он, иначе и быть не могло: государство, дав земли, должно было дать и работников, поскольку иначе дворянин не мог служить, то есть не мог выполнять своей государственной работы. И для средневековья это было явление прогрессивное, оно помогло укрепить силы государства. Эта участь не миновала и посадских горожан, которые «под смертной казнью должны были сидеть, работать и платить ратным людям на жалованье, кормить воеводу». Странно, но он не видел разницы между положением посадских людей и крепостных крестьян! И вовсе не считал крепостное право злом, во всяком случае в XV–XVII в. В родном XIX веке он был вполне нормальным либерально настроенным человеком и искренне желал, чтобы крепостной кошмар завершился. Объяснение этому он тоже видел простое: крепостное право мешает прогрессивному поступательному движению общества, но уничтожить этот порок развития нельзя снизу (то есть революционным путем), а можно только сверху, реформами. И когда таковая отмена случилась в 1861 году, он ее горячо приветствовал.
Русское государство успешно развивалось от единодержавия к самодержавию, становясь из Великого княжества Царством, а затем Империей. Этому государству удалось сломить самовластие князей, отменить удельную систему, изъять власть из рук бояр. В этом он видел прогрессивное значение царствования Ивана Грозного. Опричнину, в отличие от других историков, он считал не позором XVI века, не кошмаром, а слишком радикальным, но благим для упрочения государственности решением царя. Подводя итог своим размышлениям по поводу опричнины, он сказал, что таким способом при Иване Грозном происходила борьба старого с новым.
Новое победило.
Ивану удалось полностью разрушить родовые отношения и создать государственные, и теперь на очередь выходила задача сближения со странами Западной Европы. Эту задачу выполнил другой царь – Петр Великий.
«Бедный народ, – писал Соловьев, – осознал свою бедность и причины ее чрез сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которым заморские народы были обязаны своим богатством». Народ выдвинул своего вождя – Петра Алексеевича, который провел необходимые реформы, выиграл Северную войну, закрепился на Балтийском море, возвел новую столицу – своего рода символ создания современного сильного государства. Реформы Петра он считал разумными, необходимыми и плодотворными. Благодаря этим реформам Россия заняла достойное место среди других стран и стала влиять на европейские события. В этом историк видел достоинства разумно построенного Петром государства. Время Петра, реформы, связь тогдашней русской жизни с западными событиями так его интересовали, что отрезок времени в полстолетия занял у Соловьева целых четыре тома! Он считал, что для благополучия государства необходимо было и далее следовать путем Петра, развивая и усовершенствуя его реформы, приближая русский быт к западному, но в то же время он обращал внимание, что при этом не стоило безоглядно приглашать на службу иностранных граждан, русские должны «дорасти» до уровня иностранцев, чтобы успешно с ними конкурировать. Однако после Петра произошел откат назад, и только через длительное время удалось вернуть страну в русло петровских реформ. В культурном отношении страна все равно отставала, поэтому главной задачей Екатерины Великой стало уничтожение культурного разрыва между Россией и западными странами. Именно поэтому императрица в основном делала упор не на усовершенствование материальной стороны жизни, а на развитие науки и искусства. Так примерно видел Соловьев поступательное движение русской истории с IX века до 1774 года, на котором его повествование оборвалось.