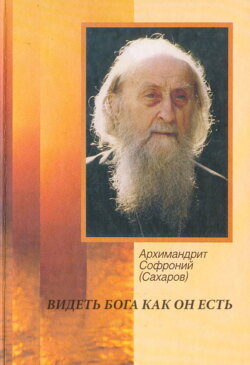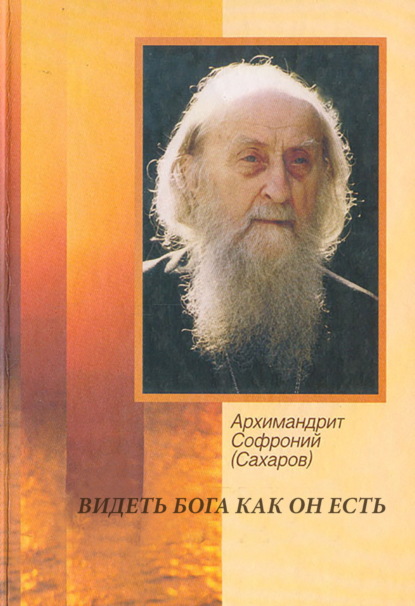По благословению Архиепископа Пермского и Соликамского АФАНАСИЯ

© Архимандрит Софроний (Сахаров), 1985
© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 1997
Предисловие
Господь заповедал нам не творить ни молитвы, ни милостыни, ни поста, ни иных добрых дел пред людьми, считая сие лицемерным исканием славы от них. Отец наш небесный, Который втайне… и видит тайное (Мф. 6:1-18), не благоволит о таких деяниях. И не только заповедь Божия повелевает скрывать нашу внутреннюю жизнь от посторонних глаз, но и нормальный духовный инстинкт, как некий «категорический императив», запрещает нарушать тайну души, стоящей пред Богом. Молитва покаяния пред Вышним есть самое интимное место нашего духа. Отсюда желание скрываться где-то под землею, чтобы никто тебя не видел, никто не слышал, чтобы все оставалось только между Богом и душою. Так я жил первые десятилетия моего раскаяния пред Господом. К тому же мой горький опыт не малое число раз показал, что необходимо убегать и от обращенности на самого себя, иначе мы становимся жертвою духа тщеславия или самодовольства. За эти движения нашего духа мы претерпеваем богооставленность.
Однако, с того времени, как я был поставлен духовником еще на Святой Горе Афон – более сорока лет тому назад, разъясняя приходившим ко мне отцам-подвижникам происходящие с ними духовные явления, я тем самым давал им возможность догадываться о ниснпосланных мне Свыше опытах. И чем дальше продолжалось мое духовническое служение, тем большим становилось мое обнажение пред братьями моими. Приближаясь к исходу моему в старческом возрасте, подавленный день и ночь телесными немощами, я становлюсь менее уязвимым людскими о мне суждениями. В силу этого я решился на еще большее обнаружение, теперь уже пред многими, того, что ревниво хранил от посторонних глаз доселе.
Мой путь, мои опыты по характеру своему, вероятно, не совсем обычны. Однако, своим существенным содержанием они раскрыли для меня трагизм положения миллионов людей, рассеянных по всему лицу Земли. Не исключена возможность, что моя исповедь, вернее – моя духовная автобиография, облегчит хотя бы некоторым из них найти благоприятное решение в постигающих их испытаниях.
Происходившее со мною не было следствием моей инициативы, совсем нет. Но Бог, по Ему единому ведомому Промыслу о нас, благоволил посетить меня и допустить меня прикоснуться к Его Вечности. Его святая рука беспощадно бросала меня ничтожного в неописуемые бездны. «Там» в изумлении до великого ужаса я становился зрителем реальностей, превосходивших мой разум. Об этом пытаюсь я говорить в предлежащих страницах.
Мои опыты не сразу усваивались моим рассудком. Прошли десятилетия прежде чем они приняли форму моего догматического сознания. До посещения меня Богом я, читая Евангелие или послания Апостолов, не понимал действительно, какая онтологическая реальность скрывается за каждым словом Святого Писания. Сама жизнь показала мне, что вне живого опыта Бога или встречи с властями и мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесными (ср. Еф. 6,12), одна интеллектуальная осведомленность не приводит к тому, что является смыслом веры нашей: знание Бога, сотворившего все сущее. «Знание» – как вхождение в самый Акт Его Вечности: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ио. 17,3).
В часы, когда ко мне прикасалась Любовь Божия, я «узнавал» в ней Бога: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем» (I Ио. 4, 16). После же посещений Свыше я читал Евангелие с иным, по сравнению с прошлым, сознанием. Я глубоко и благодарно радовался, встречая подтверждение моему опыту. Эти чудные совпадения самых существенных моментов моего осознания Бога с данными Откровениями Нового Завета бесконечно дороги моей душе. Они были даром Неба: Сам Бог молился во мне. Но все сие принимало форму «моего состояния Я был крещен в самые первые дни моего появления на свет. По чину нашей Церкви – при этом таинстве на все члены моего тела полагалась «печать дара Духа Святаго». Не эта ли Печать спасла меня от блужданий по чужим дорогам? Не она ли была причиною многих «чудных совпадений» моих переживаний с духом Евангельского Откровения?
В данной книге я останавливаюсь вниманием на описании части ниспосланных мне опытов. Однако, параллельно с этим, считаю важным упомянуть, что весь ход моей жизни в Боге привел меня к убеждению, что всякое отклонение нашего умного сознания от правильного разумения Откровения неизбежно отразится на проявлениях нашего духа в повседневности. Иными словами: истинно праведная жизнь обусловлена верными понятиями о Боге – Святой Троице.
Итак, я вручаю себя с доверием всякому читателю, надеясь, что он расположится помянуть меня в своих молитвах к Отцу нашему, Который на небесах.
Благодать смертной памяти
По истечении более чем пяти десятков лет невозможно мне восстановить в памяти хронологическую последовательность событий моего внутренего мира. Полет духа в умном пространстве – неуловим, как сказал и Сам Господь при беседе с Никодимом: «Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ио. 3,8). В данное время моя мысль останавливается на некоторых из тех тягостных и отчаянных положений, которые в дальнейшем оказались для меня драгоценным познанием и источником сил для совершения всем нам предлежащего подвига. Испытанное мною, как резцом на камне, начертано на теле моей жизни, и это дает мне возможность говорить о том, что творила со мною десница Божия.
С юных лет мысль о вечности усвоилась моей душе. С одной стороны это было естественным следствием детской молитвы Живому Богу, к Которому ушли мои деды и прадеды; с другой – дети, с которыми я тогда общался, с наивной серьезностью охотно останавливались раздумьем на сей тайне. Подрастая, я все чаще возвращался к размышлению о бесконечном, о том, что пребывает всегда; особенно в беседах с моим немного младшим меня братом Николаем (1898–1979). Он был мудрее меня, и я многому научился от него. Когда же началась Первая Мировая война (1914-18), проблема вечности стала доминирующей в моем сознании. Вести о тысячах, убиваемых на фронтах, неповинных людей поставили меня вплотную пред зрелищем трагической действительности, невозможно было примириться с тем, что множество молодых жизней насильственно прерывается, и притом с безумной жестокостью. И я сам мог оказаться в их рядах; и моей задачей было бы убивать неведомых мне людей, которые в свою очередь стремились бы возможно скорее покончить со мною. И если волею злых властителей создаются подобные положения вещей, то где смысл нашего явления в сей мир? Ия… зачем я родился? Ведь я только что начал входить в осознание себя человеком: внутри загорался огонь благих желаний, свойственного молодости искания совершенства, порывы к свету всеобъемлющего знания. И все сие отдать? И таким образом! Кому и для чего? Ради каких ценностей?
Я знал по детским моим молитвам, что предшествовавшие поколения ушли в надежде на Бога; но в те дни не было со мною детской веры. Вечен ли я, как и всякий другой человек, или все мы сойдем во мрак небытия? Этот вопрос из прежде спокойного созерцания ума становился подобным неоформленной массе раскаленного металла. В глубоком сердце поселилось странное чувство – бессмысленности всех стяжаний на земле. Что-то совсем новое, ни на что другое не похожее было в нем.
Внешне я все же был спокоен; часто весело смеялся; жил, как все вообще живут. Мирным образом что-то совершалось в сердце, и ум, всего совлекаясь, заключался вниманием внутрь. По необъятным просторам моей страны проходил гигантский плуг, вырывая корни прошлого. Все были подняты на ноги; повсюду напряжение, превышавшее силы людские. Больше того: во всем мире возникали события, полагавшие начало новой эре в истории человечества, но мой дух не останавливался на них. Многое рушилось вокруг меня, но мое внутреннее крушение было более интенсивным, чтобы не сказать – более важным, моментом для меня.
Почему так? Я не мог в те дни мыслить логически. Мысли мои рождались внутри, исходили из состояния духа. Если я умираю действительно, т. е. погружаюсь в «ничто», то и все другие, подобные мне люди, так же бесследно исчезают. Итак, все суета; подлинная жизнь нам не дана. Все мировые события не больше, чем злая насмешка над человеком.
Страдания моего духа были вызваны внешними катастрофами, и я, естественно, отожествлял их (катастрофы) с моей личной судьбой: мое умирание принимало характер исчезновения всего, что я познал, с чем я бытийно связан. И это уже независимо от войны. Моя неизбежная смерть не была лишь как нечто бесконечно малое: «одним меньше». Нет. Во мне, со мною умирает все то, что было охвачено моим сознанием: близкие люди, их страдания и любовь, весь исторический прогресс, вся Земля вообще, и солнце, и звезды, и беспредельное пространство; и даже сам Творец Мира, и Тот умирает во мне; все вообще Бытие поглощается тьмою забвения. Так тогда я воспринимал мою смерть. Овладевший мною Дух отрывал меня от Земли, и я был брошен в некую мрачную область, где нет времени.
Вечное забвение, как угасание света сознания, наводило на меня ужас. Это состояние сокрушало меня; владело мною против моей воли. Совершавшееся вокруг меня навязчиво напоминало о неизбежности конца всемирной истории. Видение бездны становилось всегда присущим, лишь по временам давая мне некоторый покой. Память о смерти, постепенно возрастая, достигла такой силы, что мир, весь наш мир воспринимался мною подобным некоему миражу, всегда готовому исчезнуть в вечных провалах небытийной пустоты.
Реальность иного порядка, неземного, непонятного, овладевала мною, несмотря на мои попытки уклониться от нее. Я помню себя отлично: я был в житейской повседневности как все другие люди, но моментами я не ощущал под собою земли. Я видел ее моими глазами как обычно, тогда как в духе я носился над бездонной пропастью. К этому явлению затем присоединилось другое, не менее тягостное: предо мною мысленно возникла преграда, которую я ощутил как свинцовую толстую стену. Ни один луч света, не физического, как и стена не была материальною, не проникал чрез нее. Долгое время она стояла предо мною, угнетая меня.
Независимо от всего внешнего: войны или болезней и подобных им бедствий, сознавать себя приговоренным к смерти в какой-то день, было для меня несносною мукою. И вот, без того, чтобы я размышлял о чем-либо, вдруг в сердце вошла мысль: если человек может так глубоко страдать, то он велик по природе своей. Тот факт, что с его смертью умирает весь мир и даже Бог, возможен не иначе, как если он сам по себе является в некотором смысле центром всего мироздания. И в глазах Бога, конечно, он драгоценнее всех прочих тварных вещей.
Господь знает мою благодарность к Нему за то, что Он не пощадил меня и не отступил, все творя, доколе не возвел меня до видения Царства, пусть еще «отчасти» (ср. начало Литургического канона Иоана Зл. и I. Кор. 13, 12). О ужасы этого благословенного времени! Никто не в силах добровольно пойти на эти испытания. Вспоминаю сейчас того космонавта, который отчаянно взывал к земле спасти его от смерти в пространстве; радио уловило его стоны, но не было ни у кого средств придти ему на помощь. Думаю, что позволительно до некоторой степени провести параллель между тем, что переживал бедный космонавт, и тем, что испытывал я в моменты падения в мрачную бездну. Но мой дух обращался не к земле, а к Тому, Кого я еще не знал, но в Бытии Которого я был уверен. Я не ведал Его, но Он был как-то со мною, обладая вполне средствами для моего спасения. Он наполняет Собою все, но от меня Он скрывался, и я видел смерть не по телу, не в ее земных формах, но в вечности.
Так: «под знаком минуса» раскрывалось во мне глубинное Бытие. Материальный мир терял свою консистенцию, время же – протяженность. Я томился, не разумея совершавшегося во мне. В то время я еще не имел никакого понятия об учении Отцов Церкви, об их опытах. Вследствие столь существенного пробела в моих познаниях я увлекся мистической философией нехристианского Востока. В моем безумстве я предполагал найти в ней исход из ямы, в которую я погружался. Не мало драгоценного времени потерял я из-за этого. Впрочем, много лет спустя, претерпев не однажды отступление от меня благодати за тщеславные помыслы, я иногда думал: великое горе – духовное невежество; но в моем случае именно неосведомленность сделала возможным для меня носить в течение долгих лет излившийся в изобилии на меня дар Бога моего: благодать смертной памяти, которую весьма высоко ценят Святые Отцы. Действительно: когда я встретился с писаниями святых аскетов, воспевавших высоту сего дара, то оказался в опасности утерять усвоившееся мне сознание моего ничтожества.
В том периоде моей жизни, незабываемом, но совсем не простом и не легком я был испытан не раз страшными помыслами: гнева на Создавшего меня. Измученный непониманием происходящего со мною – я вступал в борьбу с Богом: я мыслил о Нем, как о Враждебном Властелине: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал» (Пушкин). У всех людей единый природный корень, и поэтому я переносил мои личные состояния на всех. Мой умишко «бунтовал» во имя всех поруганных ненужным даром этой жизни и я сожалел, что нет у меня такого меча, которым было бы возможно рассечь проклятую землю (ср. Быт. 3, 17) и тем положить конец отвратительному абсурду… Не мало и других идиотских идей приходило мне на ум, но эти две, кажется, были самыми крайними. К счастью, этого рода горечь никогда не проникла в глубокое сердце: там место было занято. Недоведомо где-то в духе оставалась надежда, шедшая дальше всех пароксизмов отчаяния: Всемогущий не может быть иначе, как благ. Если бы не так, то откуда у меня идея Благого Существа? И мой внутренний слух сосредоточивался на чем-то неосязаемом и вместе реальном.
Никогда не смогу воплотить в слова своеобразного богатства тех дней, когда Господь, не внимая моим протестам, взял меня в Свои крепкие руки и точно с гневом бросил в беспредельность созданного Им мира. Что скажу? Суровым образом, но Он открыл мне горизонты иного Бытия. Мои страдальческие перипетии были подлинно «хождением по мукам».
Война с Германией приближалась к печальному для России концу. За несколько месяцев до сего развязывалась уже другая, гражданская, во многих отношениях более тяжкая. Видение трагизма человеческого бывания как бы срасталось с моей душой, и смертная память не покидала меня, где бы я ни был. Я был расколот странным образом: мой дух жил в той таинственной сфере, для которой я не нахожу выражения словом, рассудок же и душевность жили, казалось, своей привычной повседневностью, т. е. подобно всем прочим людям.
Я торопился жить: боялся потерять каждый час, стремился приобрести максимум познания не только в области моего искусства, но и вообще; много работал как живописец в моем ателье, просторном и спокойном, сделал целый ряд путешествий по России, по Европе; месяцами жил в Италии и Германии, затем более оседло во Франции. Встречался со многими лицами, главным образом причастными к искусству, но никогда, никому не сказал я ни слова о моей «параллельной» жизни в духе: ничто изнутри не толкало меня на такую откровенность. Совершавшееся во мне – исходило от какого-то начала, высшего меня, помимо моей воли, не по моей инициативе: я не понимал происходившего; и, однако, оно было свято для меня.
Красота видимого мира, сочетаясь с чудом возникновения самого видения, – влекла меня. Но за видимою действительностью я стремился ощутить невидимую вневременную в моей художественной работе, дававшей мне моменты тонкого наслаждения. Однако, настало время, когда усилившаяся смертная память вступила в решительную схватку с моей страстью художника. Тяжба была ни короткою, ни легкою. Я же был как бы полем борьбы, двуплановой: благодать смертной памяти не снижалась до земли, но звала в возвышенные сферы; искусство же изощрялось представить себя, как нечто высокое, трансцендирующее земной план; в своих лучших достижениях дающее прикоснуться к вечности. Напрасными были все эти потуги: неравенство было слишком очевидным, и в конце победила молитва. Я чувствовал себя удержанным между временной формой бывания и вечностью. Последняя в то время была обращена ко мне своей «отрицательной» стороной: смерть обволакивала все.
Невозможно поведать здесь о всех формах, в которых созерцаемое мною угасание всякой жизни проявляло себя внутри моего духа. Ярко помню одно из наиболее характерного для тех дней: читаю, сидя за столом; подопру голову рукою, и вдруг – ощущаю череп в моей руке, и я мысленно смотрю на него извне. Физически я был еще молод и нормально здоров. Не понимая природы происходящего со мною, я пробовал освободиться от переживаний, нарушавших мирный ход моей работы. Я спокойно говорил себе: «Предо мною еще целая жизнь; быть может, сорок и даже более лет полных энергии… И что же? Внезапно приходил ответ, не мною обдуманный: «Если и тысячу лет… а потом что?» И тысяча лет в моем сознании кончалась прежде, чем была оформлена мысль.
Все, что подлежало тлению, обесценивалось для меня. Когда я смотрел на людей, то прежде всякой моей мысли я видел их во власти смерти, умирающими, и сердце мое наполнялось состраданием к ним. Я не хотел ни славы от «мертвых», ни власти над ними; я не ждал, чтобы они меня любили. Я презирал материальное богатство и невысоко ценил интеллектуальное, не дававшее мне ответа на искомое мною. Если бы мне предложили века счастливой жизни, я не принял бы их. Мой дух нуждался в вечности, и вечность, как я понял позднее, стояла предо мною, действенно перерождая меня. Я был слепой, без разума. Она, вечность, стучалась в двери моей души, замкнувшейся от страха в самой себе (ср. Откр. 3:18–20).
О, я страдал, но исхода не было нигде, кроме возродившейся во мне молитвы; молитвы к еще Недоведомому, вернее Забытому мною. Пламенная молитва захватила меня в свои недра и в течение многих лет не покидала меня ни наяву, ни во сне. Длительным было мое мучение. Я был доведен до истощания всех моих сил. Тогда, совсем нежданно для меня некая тонкая как бы игла проткнула толщу свинцовой стены, и чрез создавшийся волосяной канал проник луч Света.
Больной часто не знает от какого недуга страдает он и говорит врачу о своих субъективных ощущениях, ожидая узнать объективный диагноз. Так я просто излагаю «субъективную» историю пережитого мною опыта.
У Отцов Церкви я нашел учение о сей форме благодати. Смертная память есть особое состояние нашего духа, совсем не похожее на всем нам свойственное знание, что в какой-то день мы умрем. Она, сия дивная память, выводит дух наш из земного притяжения. Будучи силою, Свыше сходящею, она и нас поставляет выше земных страстей, освобождает нас от власти над нами временных похотей и привязанностей, и тем делает нас естественно свято живущими. Хоть и в негативной форме, она, однако, плотно прижимает нас к Вечному.
Память смертная дает нам опыт бесстрастия, но еще не того положительного, которое проявляется как полновластие любви Божией; не имеет она и чисто отрицательного характера, т. е. как противоположение любви.
Она пресекает действие страстей и тем полагает начало коренной перемене всей нашей жизнедеятельности и характера восприятия всех вещей. Тот факт, что она дает переживать смерть нашу как конец всего мироздания, подтверждает данное нам Откровение о том, что человек есть образ Бога, и как таковой он способен вместить в себе и Бога, и сотворенный космос. И это есть так же начало конкретизации в нас ипостасного принципа. Сей опыт приготовляет наш дух к более реальному восприятию христианского Откровения и тому богословию, в основе которого лежит опыт иного бытия.
Когда силою смертной памяти все мое существо было переведено в план вечности, тогда, естественно, пришел конец моей детской забаве – занятию искусством, владевшим мною как рабом. Скорбен и узок путь нашей веры: все тело жизни нашей покрывается ранами на всех уровнях, и болезнь доходит до той грани, когда страдальческий ум умолкает в состоянии интенсивного пребывания вне времени. Выпадая из сего бытийного созерцания, мы обретаем в глубине сердца уже готовые мысли, не нами изобретенные; в тех мыслях заключено предвосхищение дальнейших откровений о Боге. Сей благодатный дар не может быть описан нашими будничными словами. Опыт показывает, что ассимилируется он, дар, не иначе, как в длительном процессе всестороннего истощания. Тогда, как бы уже сверх всяких ожиданий, приходит исцеляющий все раны Несозданный Свет. В сиянии этого Света пройденный «тесный» путь предстает как уподобление Истощанию Христа, чрез которое и нам даруется усыновление Богу-Отцу.
По мере того, как нам открывается Абсолютное Бытие, мы все напряженнее ощущаем свое ничтожество и нечистоту. И это жутко. Однако я сожалею, что в последней старости моей сила благословенного состояния умалилась во мне. Господь дал мне жить в потоках Его милости, но я ничего не понимал: у Него все по особенному. Но Он не оставил меня до конца во тьме: Он привел меня к ногам блаженного Силуана, и я увидел, что весь мой предварительный опыт приготовил меня к пониманию его, Силуана, учения.
Да будет Имя Господне благословенно во веки веков.