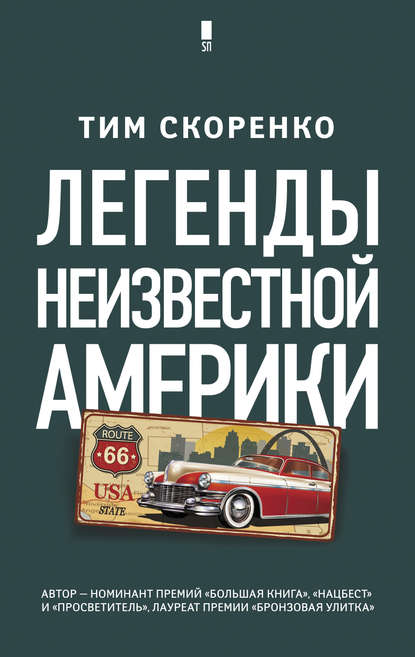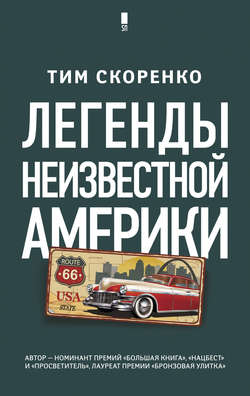
000
ОтложитьЧитал
«Как нет?»
«Нет, Джед. Я не оставлю мать, не оставлю брата. Я не оставлю страну, в которой выросла».
И всё. Мы разговаривали почти всю ночь. Я убеждал, доказывал. На моей стороне были логика и здравый смысл. На её – забитость, привычка, упёртость. Слова Ле ны причиняли мне боль, и в то же время я был готов к сопротивлению. Просто не думал, что оно окажется столь исступлённым, столь алогичным, бессмысленным. Не стоило задавать ей глупые вопросы вроде «ты меня любишь?», потому что я знал, что любит. Но я не мог соотнести её любовь ко мне с отказом уехать. Перебраться из ада в рай.
Нет, что вы, я понимал все проблемы тогдашних Штатов. И понимал, что на рай они тоже не похожи. Но в сравнении с Москвой мой Вашингтон был как минимум чист, аккуратен и безопасен. В относительной мере.
Лена была знакома с Андреем – иногда мы беседовали втроём. Андрей был сух и галантен. Мне казалось даже, что он тоже чуть-чуть влюблён в неё; что на самом деле лежало у него на душе, не знал никто. Когда он вошёл в квартиру – утром, – Лена уже уходила. В ту нашу встречу мы не занимались любовью. Мы спорили, потом молчали, потом она плакала и говорила, что никогда меня не забудет, а я обещал вернуться с новым посольством. Конечно, я не вернулся.
И больше она не появлялась в моей жизни. Мы не договорились о новой встрече, телефона у неё дома не было, а я так и не смог найти время поехать к ней. В последние недели посольства Буллита навалилось много работы. Переговоры следовали за переговорами, встречи за встречами: я переводил, переводил, переводил и даже, откровенно говоря, иногда забывал о Лене. Конечно, без её согласия никакого прошения Рузвельту я не подал.
В начале июля стало известно, что уже назначен новый посол – Джозеф Дэвис. Шестидесятилетний Дэвис был известен своей деятельностью на посту экономического советника президента США и личной дружбой с Рузвельтом. Эта дружба накладывала на Дэвиса одно обязательство – не иметь личного мнения. И Дэвис личного мнения не имел. В отличие от своенравного и порывистого Буллита, он принял как должное необходимость наладить отношения с СССР и рьяно приступил к осуществлению этой задачи с первых дней своего приезда в Москву.
Разумеется, он набрал новую команду. Никого из сотрудников Буллита он не хотел и видеть. Дэвис справедливо полагал, что они переняли у его предшественника никому не нужную способность мыслить самостоятельно. Впоследствии Дэвис возглавлял Национальный совет американо-советской дружбы и был награждён высшей советской наградой – орденом Ленина «за успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействовавшую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран». Это было в его духе – любить то, что прикажут.
Буллита переводили во Францию, отношения с которой наладились давно. Он готов был взять с собой всю «советскую» команду, но кое-кто предпочёл перейти на бумажную работу на территории США. Я выбрал Париж. В конце концов, когда бы я ещё побывал в Европе?
За неделю до отъезда из Москвы состоялся наш главный разговор с Андреем – как всегда, на кухне, за бутылкой. И видит бог, это был единственный раз, когда я напился вдребезги.
Я не знал, как попросить о том, о чём я хотел попросить. Смешная вышла фраза, но формулировка – верная. Я смотрел на Андрея, и мои глаза, видимо, сказали ему всё.
«Она не хочет ехать с тобой», – произнёс он.
Я кивнул.
«Это нормально, Джед. Мы – советские люди. Мы любим свою Родину не меньше, чем вы свою. Какое бы дерьмо тут ни было, что бы тут ни творилось, да хоть бы траву жрать пришлось – это наша Родина. И мы её не оставим».
Он говорил это пьяным голосом, держась за стол, чтобы не завалиться набок.
«Андрей…» – начал я.
Он показал жестом: молчи. А потом добавил:
«Я отвечаю за неё, Джед. Я понял. С ней ничего не случится, я тебе обещаю».
И эти слова, которые сказал мне пьяный сотрудник ГБ (я так точно и не узнал, в какой организации числился Андрей), стали самой надёжной, самой нерушимой гарантией. Я поверил ему, потому что мне больше некому было верить в этой стране. Я не мог верить даже самой Лене – после того, как она отказалась уехать. Я действительно думал, что любовь не может быть такой – не способной сломать границы.
Параллельно я думал, что есть и второй вариант. Остаться. Попросить политического убежища, объяснить, что я – скрытый американский коммунист, навсегда променять свою страну на эту романтическую грязь. Но я не решился.
Это был наш последний доверительный разговор с Андреем. В следующие несколько дней меня поглотили сборы и переводческая работа, а потом к моему подъезду подъехал посольский «Форд», из грязного окна которого я в последний раз смотрел на Москву.
* * *
Я вернулся в США, затем работал с Буллитом в Париже. Во Францию посольство отправилось в октябре 1936 года и оставалось там вплоть до начала войны. Буллит развернулся в Париже по полной программе – он снял для посольства огромный замок в Шантильи, в его подвалах было порядка двадцати тысяч (!) бутылок французского вина; он стал заметной персоной в высшем обществе. Его отношения с Рузвельтом резко улучшились, перейдя в статус дружеских. Доходило до того, что Буллит звонил президенту просто так, справиться о его здоровье.
Правда, к сороковому году Буллит снова проявил свой буйный характер и поссорился с Рузвельтом по полной программе. Сначала он ослушался прямого приказа президента и отказался перевезти посольство в Бордо (к Парижу подступали немцы). Потом напрочь переругался с помощником государственного секретаря США Самнером Уэллсом и обвинил того в пропаганде гомосексуализма. Уэллса поддерживали многие влиятельные лица, в том числе вице-президент Генри Уоллес и госсекретарь Корделл Халл. В итоге Буллит был вынужден прекратить политическую карьеру, а вместе с ним и мы – его команда.
Я долгое время работал переводчиком при разных государственных деятелях, на переговорах и встречах с гостями из других стран. В 1955 году, в возрасте шестидесяти пяти лет, я ушёл в отставку.
А спустя ещё два года я получил письмо от Лены.
Оно шло несколько месяцев. На конверте были написаны моё имя и имя Уильяма Буллита, посла США в СССР. Буллит был заметной фигурой, и письмо нашло его безо всякого адреса, а он переслал конверт мне. Конечно, письмо многократно открывали – думаю, и в СССР, и у нас. Но это мне было не важно.
Сразу после нашего отъезда за ней пришли. Обращались хорошо, никаких вопросов не задавали, а через три дня выпустили. Она не знала почему.
В 1938 году её арестовали повторно – и дали двадцать лет за шпионаж в пользу Соединённых Штатов и порочащие связи с иностранцами. В 1955-м реабилитировали, восстановили в правах и выделили комнату в коммунальной квартире. Её брат погиб на войне, а мать умерла в сороковых, пока Лена была в лагере.
После реабилитации она не поленилась раскопать в архивах своё дело: ей открыли доступ. В деле нашлось объяснение тому, что в первый раз всё сошло ей с рук. Вступился сотрудник госбезопасности, некто Андрей Кульковский. Он дал указание отпустить её и провести дополнительное расследование. Но к тридцать восьмому его уже не было в живых. Она подняла и дело Кульковского (которого тоже реабилитировали – посмертно). Согласно официальным сведениям его расстреляли 18 января 1938 года по обвинению в шпионаже.
В письме не было почти ничего о нас, о любви, о возможности увидеться. Это было правильно – мы состарились, я разжирел, и ничего от меня двадцатилетней давности уже не осталось. Но всё-таки она написала под самый конец одну фразу, которая заставила меня задуматься.
«Знаешь, Джед, я ни о чём не жалею. Ни о том, что мы были вместе, ни о том, что за это я провела семнадцать лет в лагере. И самое главное, я не жалею о том, что не уехала с тобой. Потому что страна, которая раздавила меня, превратила в уродливую старуху, сломала мою жизнь, – это моя страна».
Для того чтобы быть вместе, кому-то из нас пришлось бы перечеркнуть прошлое, стереть всё начисто и нарисовать заново. Кто-то должен был пожертвовать всем. Мы не решились – ни я, ни она. И только теперь я понял одну страшную вещь. У неё действительно была причина отказаться. Потому что у неё была Родина, и она перевешивала всё – и любовь, и возможность жить лучше. А у меня… Я уехал, потому что боялся изменить размеренный образ жизни. Будь в СССР лучше, я бы спокойно остался, и никакой патриотизм не заставил бы меня вернуться. Я почувствовал себя трусом.
Собственно, после этого письма я и понял, что они – сильнее нас.
Я не ответил на её письмо. Более того, я почему-то совсем о ней не думал, моё сердце не сжималось от воспоминаний. Но я думал о другом человеке – об Андрее Кульковском, моём друге. Он сдержал своё обещание и оберегал её, пока мог. Потом машина смяла и его – это было вопросом времени.
Теперь мне восемьдесят девять. Я не знаю, жива ли Лена. Андрей мёртв уже более сорока лет. Советские войска только что вошли в Афганистан, что, возможно, перерастёт в серьёзный международный конфликт с участием США. Последние тридцать лет – с тех пор, как получил письмо от Лены, – я пытаюсь заставить себя найти причину любить собственную страну. Я пытаюсь найти ситуацию, в которой я отдал бы за неё жизнь и свободу, – и не нахожу. И я завидую. Я безумно завидую людям, которые способны поставить понятие «родина» на первое место, а понятие «я» – на второе. Мне уже поздно переучиваться. Я смотрю на подрастающее поколение и понимаю, что оно – ещё хуже моего. Глупее, слабее, безвольнее, наглее. Интересно, какое поколение выросло в СССР? Неужели они и сегодня – такие же сильные, волевые? Я не знаю. И в какой-то мере моё незнание позволяет мне жить в спокойствии.
И в этом же спокойствии – умереть.
Последняя гонка Рэда Байрона
В мире, где когда-то жил-был великан, мы навсегда останемся пигмеями.
Кейт Лаумер. Жил-был великан
Это история о Байроне. Не о Джордже Гордоне Байроне, английском поэте, а о Роберте Байроне по прозвищу Рэд, невысоком человечке, загорелом до черноты и хромающем на левую ногу.
Роберт Байрон умер одиннадцатого ноября 1960 года в недорогой гостинице в Чикаго, штат Иллинойс. Номер был двухкомнатным, и Байрон как раз шёл из одной комнаты в другую, к рабочему столу, когда у него прихватило сердце. Он добрался до кровати, лёг на спину и смотрел в темнеющий потолок, не в силах позвать на помощь. Но это было гораздо позже.
События, о которых я хочу вам рассказать, произошли поздней весной пятьдесят восьмого года близ городка Ганнисон, штат Колорадо, в стороне от федеральной трассы. В Ганнисоне и сегодня живёт от силы шесть тысяч человек, а в конце пятидесятых население едва ли достигало двух тысяч. Тем не менее уже тогда в городе располагался Уэстерн-стэйт-колледж, престижное учебное заведение, собиравшее абитуриентов со всего штата. Позднее в Ганнисоне появилась даже собственная радиостанция.
Рэд Байрон окончательно ушёл из гонок в 1952-м. Он уже год не садился за руль гоночного автомобиля к тому времени, но лишь в конце пятьдесят второго сказал: всё, больше никогда. И погрузился в руководство собственной командой. Я не знаю, каким он был руководителем, потому что меня это не интересовало. Я вообще не могу представить Байрона за столом, с карандашом в руках, заполняющим какие-нибудь ведомости.
Его последней гонкой в чемпионате Grand National стал пятисотмильный заезд в Дарлингтоне, штат Южная Каролина, третьего сентября пятьдесят первого года. Потом врач сказал ему: нельзя, Роберт. У тебя слабое сердце, Роберт, оно не выдержит.
Мне кажется, что его сердце не выдержало в первую очередь отказа от гонок. Тогда гонщики жили скоростью, а не зарабатывали ею деньги. Простите, я опять отвлекусь. Мне сложно рассказывать историю последовательно, потому что в памяти возникают всё новые и новые ассоциации, и каждая мне кажется важной, придающей рассказу полноту и цельность. Так вот, примерно в то же время, о котором я веду речь, в Европе жил гонщик по имени Вилли Мэйресс. Он был пилотом средней руки, но дважды выигрывал знаменитую гонку «Тарга Флорио» и регулярно выступал в заводской команде «Феррари». В шестьдесят восьмом году он, сорокалетний, попал в Ле-Мане в страшную аварию, навсегда лишившую его возможности вернуться в гонки. Второго сентября шестьдесят девятого он повесился в гостинице в провинциальном Остенде, оставив после себя записку. В ней говорилось, что он не может гоняться – значит, не может жить. Вот какие были люди.
Возвращаюсь к Рэду Байрону.
Я хочу рассказать вам кое-какие факты из его биографии – это поможет лучше понять его мотивацию, представить выражение его лица, жесты и движения. Я не художник и не могу нарисовать портрет. Мне даны лишь слова, чтобы описать моего героя.
Он впервые сел за руль гоночного автомобиля в 1932 году, в возрасте семнадцати лет. Когда Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну, Рэд пошёл в армию и отработал пятьдесят семь миссий бортинженером и хвостовым стрелком на бомбардировщике B-24. Лётчик имел право демобилизоваться после двадцати пяти миссий над территорией врага – Байрон отлетал в два раза больше. А потом их самолёт сбили – в тот самый день, когда его жена узнала, что беременна мальчиком. И Роберт выжил – ради сына. Двадцать семь месяцев военных госпиталей и собранная по кусочкам левая нога: врачи не знали, будет ли он вообще когда-либо ходить. Хромота осталась с Байроном на всю жизнь, и, несмотря на это, он стал одним из самых быстрых людей на планете. Он сам переделывал машины с ножного сцепления на ручное, потому что мог пользоваться только правой ногой. Для газа и тормоза – более чем достаточно.
Всё это было присказкой. Теперь перейду к тому, ради чего я вообще затеял свою писанину.
Как я уже упоминал, шёл пятьдесят восьмой год. Был конец мая, тепло, солнечно – и пыльно. В Колорадо всегда пыльно, особенно на кусочно асфальтированных локальных дорогах. Я голосовал, стоя на обочине. Мне нужно было попасть в Национальный заповедник Колорадо неподалёку от городка Гранд-Джанкшен. Сначала я ехал из Санта-Фе по федеральному шоссе 85, но в районе Пуэбло решил, что лучше срезать. Если ехать по федеральным, выходило триста шестьдесят миль, а по местным дорогам – всего двести восемьдесят. Почему я так решил – сам не знаю. Средняя скорость движения по местным гораздо меньше, да и вероятность поймать машину до Салиды не так велика, как до Денвера. Ну да ладно – решил так решил.
Я поблагодарил человека, который добросил меня до Пуэбло, – он высадил меня на пересечении восемьдесят пятой и пятидесятой, то есть именно там, где нужно. Я прошёл по дороге около ста ярдов, держа левую руку поднятой. Я не очень надеялся, что меня подберут, и потому не оборачивался.
Машина затормозила ярдах в десяти впереди меня. Это был старый «Олдсмобиль 88» пятидесятого года, слегка отличающийся от базовой версии. Вероятно, над машиной потрудился умелый механик – выглядела она отлично. Я подошёл, открыл дверь и сел в автомобиль.
Водителю на вид было хорошо за пятьдесят. Он выглядел худым и жилистым, загорелое лицо покрывала сеть мелких морщинок, а глаза прятались за круглыми тёмными очками. Он улыбнулся мне – во все тридцать два зуба, сияющей голливудской улыбкой.
«Рэд», – представился он.
Я назвал своё имя, и он тронул автомобиль с места.
Он ехал осторожно, небыстро, размеренно. Мотор приятно урчал, машина плыла по дороге, точно по водной глади.
Мы разговаривали о всяких мелочах. Я вспоминал своего лабрадора, он улыбался и говорил, что у его сына – сеттер. Я рассказывал, как во время войны мой отец добровольцем пошёл в армию, хотя уже не подходил по возрасту. Рэд в ответ травил байки из своей армейской жизни. Тогда-то он мне и рассказал про бомбардировщик B-24, про пятьдесят семь успешных миссий и одну неудачную. «Да, хуже самолёта, чем наш „бэ“, просто быть не могло. Я однажды из хулиганства пырнул ножом его обшивку, и что ты думаешь? Пробил! Какая уж тут пуля, какая шрапнель!..»
Ногу ему повредило именно шрапнелью. Раскурочило борт самолёта, приборы и голень Байрона. В принципе, ему повезло. Помимо ноги, он отделался всего лишь несколькими переломами.
«Я вообще-то лётчиком хотел стать. Был здоров тогда как бык, знаешь. Но мне написали: опыта полётов – никакого, зато машины умеет разбирать отлично. И зачислили в бортмеханики. Заодно и стрелка иногда хвостового заменял. Знаешь, как холодно в „бэшке“? Без перчаток возьмёшься за рукоятку пулемёта и всю кожу оставишь там. Везде ж металл, никаких тебе удобств».
Я узнал от Байрона ещё две занимательные подробности его службы. Их экипаж патрулировал воздушное пространство в районе Аляски и Алеутских островов. Когда пятьдесят восьмая миссия подходила к концу, оказалось, что одна бомба застряла в бомболюке. Все ушли, а эта – осталась. Именно тогда они попали под зенитный огонь японцев. И шрапнель в ноге Байрона – это шрапнель разорвавшейся внутри самолёта их собственной, американской бомбы. Самый большой осколок остался в ноге Рэда навсегда – его не смогли извлечь, а от ампутации Рэд отказался категорически.
В «Олдсмобиле» Рэда было ручное сцепление. Он рассказал, что раньше ездил и на ножном, привязывая повреждённую ногу к педали кожаным ремнём, чтобы не соскальзывала. Но позже перешёл на ручное.
В рассказе я называю его то Рэдом, то Байроном. Но тогда я не знал, с кем еду. Более того, я не слишком интересовался гонками, и сочетание «Рэд Байрон» мне ни о чём не говорило. В любом случае тогда я знал только прозвище Рэд.
Про гонки он не говорил ни слова. Ни о своих спортивных достижениях, ни о своей работе в качестве руководителя команды. Всё, что я знаю о Байроне как о гонщике, я почерпнул из воспоминаний, книг, справочников. Сегодня любую информацию найти легко: включил компьютер, вошёл в Интернет – и готово. В те годы мы проводили чудовищное количество времени в библиотеках, роясь в старых подшивках и развалах некаталогизированных изданий.
Мы остановились в Салиде, чтобы перекусить в KFC. Тогда эта сеть была совсем молодой и казалась престижной. Ресторан в Салиде только-только открылся, столики сверкали металлическим блеском, официантки приветливо улыбались, а в курятине не было того количества химической дряни, какое обязательно есть в ней сейчас. Самое смешное, что тот ресторан на бульваре Рэйнбоу, где мы останавливались, существует и по сей день. Я побывал там несколько лет назад – почти ничего не изменилось. Разве что курятина испортилась.
Рэд ел медленно и аккуратно – так же как водил свой «Олдсмобиль». За едой он снял тёмные очки и положил их на стол. У него были блеклые, бесцветные и одновременно очень добрые глаза. Не знаю, как ещё охарактеризовать их, не могу придумать ничего лучше.
Ел он молча, только иногда посматривал на меня, чуть прищуривая правый глаз. Мне показалось, что у него плохое зрение, хотя очки, кажется, выполняли только солнцезащитную функцию, то есть не имели диоптрий.
Потом мы отправились дальше. За рулём он снова стал разговорчивым и весёлым. Я рассказывал ему студенческие анекдоты, а он смеялся как ребёнок и продолжал травить военные байки. Вспоминая сегодня, я понимаю, что среди них не оказалось ни одной похабной. Все они были о смелости, о самоотверженных людях, сражавшихся на чужой территории за свою страну, о безымянных героях. Хотя нет, не безымянных. Рэд помнил всех сослуживцев, называл их по именам и фамилиям, иногда рассказывал, как сложилась их жизнь после войны.
О некоторых он говорил: «А он погиб». И после этого какое-то время молчал.
А потом он внезапно произнёс: «Гвин».
Я переспросил его: «Простите, Рэд, не расслышал. Что вы сказали?»
Он повернулся ко мне. Я думаю, если бы он снял очки, я бы увидел слёзы на его глазах.
«У меня был друг, – сказал Рэд. – Его звали Гвин Стэйли. Он был младше меня на двенадцать чёртовых лет. И он уже никогда не станет старше меня».
Я не стал говорить глупостей вроде «я сожалею». В таких случаях лучше просто промолчать.
«Он погиб в Ричмонде в марте. Я надеюсь, что это последний сезон чёртовых открытых машин».
«Каких машин?»
«Кабриолеты НАСКАР», – пояснил Рэд.
Как я уже упоминал, гонки для меня были пустым звуком в те времена. Поэтому я снова предпочёл промолчать. Больше он о гонках не говорил. В принципе, я не связал этот краткий диалог с профессией Рэда. Догадаться, что он в прошлом гонщик, по его стилю вождения было невозможно. Такой стиль может оказаться свойственным пожилому отцу большого семейства, едущему с домашними на воскресный пикник.
А уже через полчаса мы добрались до Ганнисона. Мы не останавливались в самом городе, а проехали насквозь. Мы успели удалиться от города примерно на три мили, когда Рэд внезапно сказал: «Надо остановиться. Ей-богу, хочу пива».
Наверное, он почувствовал мой укоризненный взгляд, потому что тут же стал объясняться: «Мне вообще-то нельзя. Да и за рулём. Но одна маленькая бутылочка ничего не изменит. И это даже не нарушение, всё в пределах нормы».
И Рэд свернул к придорожной забегаловке.
Как ни странно, она оказалась полна. Пока мы ожидали заказа, я не поленился подсчитать присутствующих – вышло тридцать восемь человек! Все они казались похожими друг на друга: клетчатые рубашки, джинсы, широкополые шляпы. Среди них были люди постарше и помоложе, были работяги с въевшейся в морщины грязью и пижонски одетые молодые парни с белозубыми улыбками. Я заметил и нескольких девушек, довольно безликих. Они сидели у мужчин на коленях, пили пиво и заливисто хохотали.
«Что тут происходит?» – спросил я у официантки, дородной дамы лет сорока пяти.
«Митчелл, как всегда, куролесит», – непонятно ответила она и ушла.
Я помню, что про Черчилля мне рассказывали следующую историю. Однажды, на заре политической карьеры, Черчилль объезжал небольшие города на юге Великобритании с какими-то лекциями. Шофёр завёз его в глухомань, подобную Ганнисону, только английскую. Они увидели крестьянина, и Черчилль, высунувшись из окна, спросил: «Скажите, пожалуйста, где мы находимся?» – «В автомобиле!» – буркнул крестьянин. «Вот ответ настоящего англичанина, – сказал Черчилль шофёру, – краткий, хамский и не содержащий никакой информации, которой спрашивающий не знал бы сам».
Примерно такого же рода был и ответ официантки. Фамилия Митчелл мне ничего не говорила.
Я отлучился в уборную. Она находилась на заднем дворе – так мне сказал бармен. Но вместо уборной я увидел толпу народа. Тут собралось намного больше людей, чем внутри заведения. Двором это пространство назвать было сложно. Просто задняя стенка закусочной выходила на огромную площадку, окружённую редкими деревьями (я не разбираюсь в породах, что-то южное). А на площадке стояли автомобили.
Надо сказать, что автомобили я любил. Я и теперь отношусь к ним с нежностью. Не к этим современным «Тойотам» и «Хондам», неотличимым одна от другой, а к настоящим машинам. Например, к «Форду Гран-Торино» семьдесят третьего года или чему-то подобному. Я вспомнил «Гран-Торино» в связи с недавно вышедшим фильмом Клинта Иствуда. Мы одногодки с этим великим актёром и, наверное, с его героем, невероятно близким мне по духу. Ну вот, теперь вы можете без труда посчитать, что мне около восьмидесяти лет.
Я опять отвлёкся.
Итак, на заднем дворе были машины – красивые, мощные, эффектные. Вот «Форды»: белый «Тандебёрд» пятьдесят седьмого года, потёртый «Крестлайн» пятьдесят четвёртого, новенький «Кастом», трёхлетка «Фэрлейн». А вот старый «Кадиллак Сиксти-Спешл» конца сороковых, и «Понтиак Стар-Чиф», и огромный «Крайслер Ньюпорт» второго поколения, и красавица «ДеСото Файердом» пятьдесят пятого года… У меня разбегались глаза.
И тут я понял, что происходило. Это были любительские гонки. Заезды, которые впоследствии переросли в современный стритрейсинг.
В те годы многие гонки сток-каров, то есть серийных машин, чуть подработанных для скоростных трасс, считались полулюбительским делом. Профессиональных гонщиков, зарабатывавших себе на хлеб скоростью, было гораздо меньше, чем фанатов, которые покупали подержанный «Крайслер» и заявлялись на какую-либо гонку. Конечно, на трассах тогда блистали звёзды – Ли Петти, Бак Бейкер, Тим Флок, но наполнение одного заезда машинами происходило за счёт многочисленных любителей.
Частенько любители проводили собственные гонки. Выделяли участок дороги, чаще всего кольцеобразный и неасфальтированный, и соревновались на нём парами или четвёрками. Именно такие гонки проходили близ Ганнисона, штат Колорадо.
Когда я вернулся, Рэд уже пил пиво, закусывая его сушёной рыбой.
«Ну что там?» – спросил он, будто я ходил не в туалет, а именно за информацией.
«Любительские гонки».
Рэд кивнул с таким видом, будто всё понял с первого взгляда, просто мне не сказал. Скорее всего, так оно и было.
Некоторое время мы сидели молча. Рэд прихлёбывал пиво из бутылки, я пил кока-колу из высокого стакана. Мне не хотелось хмельного.
Через какое-то время я выделил в толпе парня, который служил объектом всеобщего внимания и поклонения. Он сидел на невысоком мягком диванчике и обнимал двух девушек. Правая иногда подносила к его рту стакан с коктейлем, а левая тёрлась губами о его щёку и что-то шептала на ухо. Девушек парень воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Он умудрялся одновременно болтать со всеми окружающими. Одному он улыбался, на другого с улыбкой показывал пальцем, третьему что-то рассказывал. Душа компании, не иначе.
Что-то в его облике мне сразу не понравилось. Такие люди панически боятся упасть с трона, на который себя возвели. Они пойдут на всё, чтобы не проиграть, не показать свою слабость. Такие люди могут быть жестоки, пока судьба не научит их снисхождению. Судьба пришла к этому парню в образе Рэда Байрона.
Раздался резкий звук трещотки.
«Митчелл! – послышался крик. – Финал!»
И парень лениво поднялся с дивана. Это и был Митчелл.
«Хочешь посмотреть?» – спросил Рэд.
«Наверное, – ответил я. – Раз уж мы тут сидим».
«Пошли».
И мы отправились за толпой, которая толкалась у дверей, пытаясь выбраться наружу.
На площадке царил беспорядок. Мы с Рэдом сначала не могли понять, куда идти, но затем он показал пальцем:
«Вон таблица результатов, пошли».
Таблица оказалась огромной школьной доской, на которой мелом записывались фамилии и результаты.
«Три заезда, – пояснил Рэд, – это одна гонка. В каждой гонке есть победитель и проигравший. Выиграл два заезда – выиграл гонку. Третий – это если первые два закончились победой разных пилотов. Заезды – по двое. Судя по всему, у них тут система „четвертьфинал – полуфинал – финал“».
Я спросил у Рэда, откуда он всё это знает.
«Когда-то тоже так гонялся».
И всё, больше он ничего не сказал. Казалось, что ему эта тема неприятна.
Рядом со мной толкалось двое мужчин вполне приличного вида – лет по тридцать пять, в костюмах. Они странно выглядели в толпе молодёжи и работяг. Я спросил у одного из них:
«А что тут происходит?»
«Гонки», – услышал я в ответ. Это снова напомнило мне историю о Черчилле.
Второй оказался любезнее:
«Митчелл против Харперсона в финале. Митчелл выиграл двенадцать последних соревнований. Говорят, собирается участвовать в профессиональных гонках».
«Спасибо».
Но он продолжил:
«Вы не смотрите, что мой приятель такой хмурый. Он хочет сорвать банк и поставил на Харперсона».
Приятель к этому моменту уже пробивался к трассе. Мы последовали за ним.
Трасса представляла собой неасфальтированную дорогу из плотно утрамбованного песка с мелкими камешками. Её конфигурация оказалась довольно затейлива. Сначала она спускалась, там было что-то вроде короткой прямой, затем делала несколько хитрых поворотов, затем снова поднималась к нам. Верхняя прямая длиной порядка шестисот футов проходила вдоль импровизированной трибуны, составленной из деревянных козел и скамеек. Общая длина трассы составляла около трёх тысяч футов, то есть менее мили. Линия старта-финиша располагалась ближе к окончанию длинной прямой.
Мы с Рэдом забрались на одни из козел. Трасса была видна вся – от первого до последнего поворота. Мы смотрели на неё сверху вниз.
Машина Харперсона уже стояла на старте. Это была «Шевроле Бель-Эйр Хардтоп» в спортивной конфигурации пятьдесят седьмого года, скорее женская машина, чем мужская, очень красивая, но чудовищно пыльная и, кажется, слегка помятая – Харперсону непросто дались предыдущие заезды. Я подумал, что если у него установлен двигатель V8 на двести восемьдесят три кубических дюйма, то у соперника нет шансов, даже если он сам Митчелл. Харперсон, одетый в лёгкий комбинезон, стоял у машины и, бурно жестикулируя, что-то говорил невысокому человеку в чёрной кожаной куртке.
А потом я увидел машину Митчелла.
Митчелл рассекал толпу как нож масло. Люди расходились, раздавались приветственные крики и вздохи восхищения.
У Митчелла тоже был «Шевроле», но – «Шевроле Корветт». Лёгкая спортивная машина, модель пятьдесят восьмого года. Даже штатная «восьмёрка» порвала бы любой «Бель-Эйр» на тряпки, что уж говорить о форсированном двигателе автомобиля Митчелла. Я не сомневался, что двигатель «Корветта» тщательно обработан руками механиков.
«Красиво», – сказал Рэд, попивая пиво.
«Нечестно», – ответил я.
«Честно. Этот второй знал, на что идёт. Не хотел бы – не выставлялся бы».
«Но „Корветт“ сделает его на первой же сотне ярдов».
«Если второй умеет водить, он даст бой. „Корветт“ лёгкий. На пересечёнке, да ещё с гравием, его сложнее держать на поворотах. Он будет уходить на прямой, а вот оттормаживаться ему придётся раньше».
Оба гонщика уже садились в машины.
В профессиональных автогонках шлем уже тогда был обязательным требованием. Правда, большинство гонщиков уходили от этого правила, надевая кожаные шлемы или даже велосипедные, лишь бы не носить предмет, делающий из них трусов. В Европе всегда больше заботились о безопасности, чем в Америке, и потому Америка лучше хранила – да и теперь хранит – автогоночные традиции прошлого.
Ни Митчелл, ни Харперсон шлемов не надели.
«Корветт» был открытым, но сейчас стоял с поднятой крышей. К машине подошла светловолосая девушка. Митчелл опустил окно и поцеловал её. Она была не из тех, кто сидел с ним на диванчике в баре.
Все разошлись. На трассе остались две машины, два «Шевроле» – «Бель-Эйр» против «Корветта». Исход был ясен, но поболеть хотелось. Я немного жалел мужчину, который поставил на Харперсона.
Парень с красными флагами встал между машинами и поднял руки. Все замолкли и напряглись в ожидании. Раздался резкий свисток. Парень опустил руки – и по отмашке машины пронеслись мимо него.
- Демоны Дома Огня
- Взгляд сквозь пальцы
- Легенды неизвестной Америки