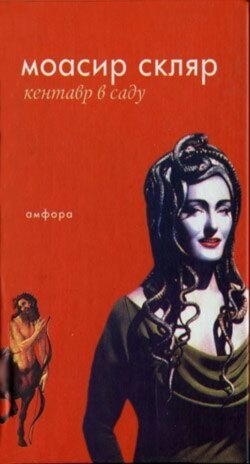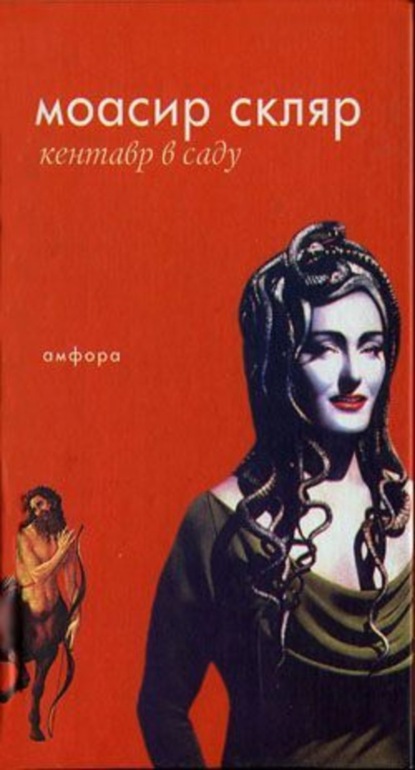Только конь может плакать о человеке. Вот почему в кентавре соединились конская и человеческая природа.
Бестиарий – XII век
Не будем же предаваться излишнему ликованию при виде побед человека над силами природы.
Ф. Энгельс
Говорят, что индейцы также приняли солдат Писарро или Эрнана Кортеса за кентавров. И если солдат падал с лошади, индейцы замирали от ужаса, видя, как разваливается надвое зверь, которого они считали единым… Многие думают, что лишь это помешало индейцам перебить всех христиан.
Хорхе Луис Борхес
Всегда приятно видеть, как разрушитель сказок сам становится жертвой сказки.
Гастон Башляр
Кто способен на коня
так смотреть, как будто он
в ночь очей средь бела дня,
словно в море, погружен,
в глубь заветную маня,
будто море – это он?
Карлу с Нежар
С каких это пор евреи стали ездить верхом?
Джозеф Хеллер
«Единорог в саду»
Джеймс Тербер (название рассказа)
Сан-Паулу: тунисский ресторан «Сад наслаждений». 21 сентября 1973
Мы уже не несемся вскачь. Теперь у нас все в порядке.
Мы теперь такие, как все. Никто больше не обращает на нас внимания. Прошло время, когда мы считались чудаками, потому что не ходим на пляж, потому что Тита, моя жена, круглый год носит длинные брюки. Мы чудаки? Мы? Да что вы! На прошлой неделе Титу приезжал навестить колдун Пери – вот уж кто чудной: тощий низенький туземец с жидкой бородкой, весь в кольцах и ожерельях, с посохом в руке и говорит на дикой тарабарщине, в которой все слова наоборот. Может показаться странным, что такое нелепое создание явилось к нам в гости, однако звонить в двери никому не запрещено. К тому же, это не мы, а он был необычно одет. А мы? Нет, мы выглядим совершенно нормально.
Вот ужинаем с детьми, с друзьями, с детьми друзей в тунисском ресторане. Раньше такое случалось часто. Но с тех пор, как мы с Титой переехали в Порту-Алегри, ужины здесь стали редкой, зато приятной возможностью снова собрать прежнюю компанию. Сегодня для этого есть и особый повод: мой день рождения. Тридцать восемь лет. Тридцать восьмого калибра были пистолеты у сторожей нашего кондоминиума, если не ошибаюсь. Чудесный возраст. Пора, когда приходит зрелость, но ты еще полон сил, пора, когда ты осознаёшь и ценишь радости жизни, такие, например, как изысканная кухня «Сада наслаждений», славного места, где чувствуешь себя как дома. Хотя, честно говоря, только что, когда взгляд мой упал на араба-официанта, мне стало не по себе. Я вспомнил наше первое плавание в Марокко, тошнотворный запах трюма, и меня передернуло. Паулу, сидящий рядом со мной за длинным столом, замечает: ты что-то бледный, Гедалй. Это ничего, отвечаю я, легкое недомогание, все уже прошло. Он, разумеется, тут же спрашивает, тренируюсь ли я, продолжаю ли бегать, как когда-то мы с ним вдвоем. Слегка пристыженный, признаюсь, что нет. Я давно уже не бегаю, не занимаюсь спортом. Разве что хожу на футбол со своими мальчишками, ведь они у меня фанаты «Интернасионала». А! – торжествует Паулу, вот откуда брюшко, вот откуда недомогание. Ты на меня посмотри, Гедали, видал, в какой я форме! А все потому, что каждый вечер – пробежка. Бегай, приятель, не раскисай. Не ради того, чтобы убежать от инфаркта, а просто назло всем бедам. Брось вызов судьбе – иначе и жить не стоит. Послушай старого друга Паулу.
Паулу прав. Надо бегать. Я и сам собирался начать, как только перееду на фазенду, ту, что купил неподалеку от Куатру-Ирманс, в штате РиуТранди-ду-Сул. Но там теперь все сплошь засеяно, так что бегать негде. У меня на фазенде, кстати, отличная плантация сои. Занимается ею мой родной брат, Бернарду. Все мне твердили, что надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать сейчас деньги в сельское хозяйство, и тем более брать в долю Бернарду, ведь он человек ненадежный: того и гляди, бросит все и пойдет бродить пешком по Бразилии. Но когда он явился ко мне и попросил помощи, я решил рискнуть. И не ошибся: Бернарду как управляющему цены нет. Он механизировал производство, нашел агронома, с которым советуется насчет удобрений и пестицидов, работников держит в ежовых рукавицах, – словом, дело у него пошло.
Старина Паулу. Верный друг, надежный компаньон. Именно ему пришло в голову заняться экспортом. Гениальная идея. Только это нас и спасло, ведь когда я жил в Сан-Паулу, бизнес наш хирел на глазах. Но с тех пор мы столько всего продали, и прежде всего, в Марокко, где у меня большие связи.
Да, Паулу – настоящий друг. Паулу и Фернанда, Жулиу и Бела, Арманду и Беатрис, Жоэл и Таня… Друзья. Хорошо в компании друзей пригубить бокал вина, терпкого, но приятного, да еще в таком живописном и уютном уголке. Да, славное место – этот тунисский ресторан.
Одно только раздражает: пронзительная арабская музыка. Но и в этом есть свои преимущества: если сейчас в небе зашумят крылья – не знаю где, например, над пальмой, которая видна из окна – никто не услышит. Тот звук, который уловил я, – должно быть, свист ветра, горячего ветра, поднявшегося еще в полдень. Быть дождю.
Тита через стол улыбается мне. Она все хорошеет. Да, на лице ее морщинки – следы переживаний, но в пору зрелости красота ее стала тоньше, нежнее. Милая Тита, милая моя женушка.
Слева от меня – наши мальчишки, близнецы. Уже полчаса о чем-то шушукаются, чертенята. Наверняка замышляют очередное безобразие – чего еще от них ожидать? Да нет, они славные ребята, умные, учатся хорошо. А как растут! Скоро меня перегонят, а ведь я очень высокого роста. Просят купить им машину. А там, глядишь, приведут в дом подружек. А там и женятся. И в один прекрасный день я стану дедом. Словом, все у нас в порядке.
Да. Почти все в порядке. Хотя кое-что до сих пор беспокоит. Не могу избавиться от бессонницы, от тревожных снов. То и дело просыпаюсь по ночам, будто от странного шума (не от шелеста ли крыльев крылатого коня?).
Но это только кажется. Тита, у которой слух куда острее, чем у меня, ни разу ничего не слышала: она безмятежно спит. И видит сны. Мне незачем приподнимать ей веко и заглядывать в зрачок, как в окошко, я и без того знаю, что ей снится. Когда много лет спишь вместе, волей-неволей начинаешь обмениваться снами: тот конь, которого я только что разглядел среди облаков, уже топчет траву пампасов в ее сновидении. И нисколько ее не тревожит. Это с моими снами надо разобраться. Это я должен укротить своего коня и убрать с его спины непонятные лишние детали. А если не выйдет, прогнать его вовсе из снов. Ведь выпускают же для этого специальные снотворные таблетки.
А еще со мной происходят странные вещи, будто судьба подает тревожные знаки. Вот пример:
Только что я рисовал каракули на конверте новой импортной ручкой с золотым пером, подаренной друзьями. И вдруг обнаружил, что пишу фразу «теперь у нас все в порядке», обычную, банальнейшую фразу, но каким-то странным угловатым почерком. Какая сила, какой магический импульс двигал моей рукой, когда я выводил эти буквы? Не знаю. Признаюсь: не знаю, хотя мне и стукнуло тридцать восемь, хотя жизнь моя и была полна небывалых событий. Кто знает, какие тайны я храню? А может, открыть шлюзы и дать волю потоку? Вчера по телевизору видел сцены наводнения. Животные барахтались в мутной воде, пытаясь уцепиться за кроны деревьев. Мокрое лицо обезьяны, взятое крупным планом, особенно потрясло меня: беззащитная наивность. Может, рассказать мою историю друзьям? Сейчас, когда все уже в порядке, может, пора открыться? Бояться нечего. Хвост не взметнется, отгоняя мух. Кстати, мух вокруг полно. Готовят здесь хорошо, но чистотой это заведение не блещет, наверняка помои выливают прямо во двор. Да только лучше смотреть на это сквозь пальцы и не протестовать. Их легко вывести из себя, они очень мстительны: давно ли верблюды несли их по барханам и длинные бурнусы развевались на ветру? Если среди них оказывался предатель, они давали клятву отомстить и при первой же возможности поражали врага кинжалом. Берберы. Сейчас, конечно, никто из них не сядет на верблюда: закрыв ресторан, они разъезжаются по домам на машинах, но я (возможно, это вечная еврейская паранойя) все же замечаю в их глазах зловещий огонек.
Да, почему бы и не рассказать обо всем? Я буду скромен, но горд. Буду держаться с достоинством. Не давая повода для насмешек, не допуская двусмысленностей. Никаких намеков на «Сельскую честь» [1] или Буриданова осла. Если в моем рассказе речь пойдет об индейцах – ведь в окрестностях Куатру-Ирманс в 1935 году еще жили индейцы, – то они не явятся верхом на конях, как отважные воины чарруа, они придут пешком, смирные (хотя и загадочные), в поисках работы.
Я не стану говорить о тех скакунах, которые будто бы живут у нас в душе, – не знаю, существуют ли они. Я не называю кавалькадой непрерывный ход Истории по направлению к неведомой мне цели. Не понимаю, зачем называть непрерывный ход Истории иначе, как непрерывным, ходом Истории, ну, разве что, добавляя ради удовольствия некоторых эпитеты неутомимый и безостановочный.
Так в чем же дело? Отчего я не поднимаюсь из-за стола? Отчего не стучу ручкой с золотым пером по бокалу, прося всеобщего внимания к страшной тайне, которую наконец пришло время раскрыть?
Отчего? Не знаю. Боюсь. Боюсь вставать. Боюсь, как бы ноги не подкосились: я еще не привык доверять им. Двуногие куда менее устойчивы, чем четвероногие. К тому же я пьян. Тосты так и сыпались: за именинника, за супругу именинника, за детей именинника, за друзей именинника, за родителей, брата и сестер именинника, за экспортную фирму именинника, за фазенду именинника, за клуб «Международный», куда записан именинник, – понятно, что вино ударило в голову. Тита через стол подает знак, чтобы я пил поменьше. Она увлечена беседой со своей соседкой справа, кстати, женщиной странно красивой: длинные волосы цвета меди, темные очки (вечером? зачем?), почти скрывающие ее загадочное лицо; мужская рубашка, расшитая плетеной тесьмой; две верхние пуговицы расстегнуты и видны ожерелья, цепочки и округлость красиво очерченной груди. Я с ней не знаком. Знаю только, что это Танина подруга и что она недавно развелась с мужем. Поднимаю рюмку и киваю ей: ваше здоровье. Тита бросает предостерегающий взгляд. Это не ревность. Она знает, что я выпил, и боится, что наговорю глупостей, что начну рассказывать нелепые истории. До операции ты был благоразумнее, часто повторяет она.
Тита права. Лучше промолчать. Лучше выводить каракулями: у нас все в порядке. И не обращать внимания на свой странный почерк, на отдаленный шелест крыльев. И на картины, всплывающие в памяти.
Небольшая фазенда в лесах Бразилии, в округе Куатру-Ирманс, штат Риу-Гранди-ду-Сул. 24 сентября 1935 – 12 сентября 1947
Самые ранние воспоминания обычными словами не опишешь. В них есть что-то утробное, архаичное. Гусеницы в сердцевине плода, черви, копошащиеся в грязи. Давние ощущения. Смутная боль. Ускользающие образы: грозовое небо над штормящим морем; и среди туч – величавый полет крылатого коня. Он мчится вперед, сперва над океаном, потом – над континентом. Он оставляет позади побережье, города, леса и горы. Но вот, замедлив бег, описывает в вышине широкие круги, и грива его стелется по ветру.
Внизу, освещенная луной, одинокая деревянная хижина. Из окон, едва пробиваясь сквозь туман, струится слабый желтоватый свет. Недалеко – конюшня. Дальше – лесок. И поле. Меж деревьев, в зарослях кустарника порхает, бегает, прыгает, ползает мелкая живность, прячась, преследуя и пожирая друг Друга. Писк, щебет, визг.
Пронзительный женский вопль эхом отдается в долине. Все смолкает, все замирает. Крылатый конь парит в воздухе, раскинув гигантские крылья. Снова крик. И еще. Женщина вскрикивает несколько раз подряд – потом тишина. Крылатый конь описывает еще один круг над домом и только тогда без единого звука исчезает среди туч.
Это кричит моя мать: она рожает. Ей помогают две дочери и старая местная повитуха. Уже много часов трудится роженица, но ребенок все никак не появится на свет. Она измотана, едва не теряет сознание. Не могу больше, бормочет она. Повитуха и девочки тревожно переглядываются. Может, позвать врача? Но доктор живет в сорока километрах – успеет ли он приехать?
В соседней комнате – мои отец и брат. Отец ходит из угла в угол; брат сидит на кровати, уставившись в стену. Крики раздаются все чаще, перемежаясь с проклятиями на идише, от которых отец каждый раз вздрагивает: это его обвиняет мать. Злодей! Увез нас из дому в глушь, в преисподнюю, на край света! Так и помру из-за этого убийцы! Ах, Боже, Боже, беда мне, помоги! Повитуха пытается успокоить ее: все будет хорошо, дона Роза, не бойтесь. Но голос выдает ее тревогу: при свете лампы она с ужасом смотрит на неимоверно раздувшийся живот. Что-то оттуда появится? Отец садится, обхватив голову руками. Жена права: это он виноват. Все еврейские поселенцы, приехавшие с ним из России, уже перебрались в город, в Санта-Марию или Пасуфунду, в Эрешим или Порту-Алегри. Революция двадцать третьего года заставила сняться с насиженных мест последних остававшихся здесь колонистов.
Мой отец упорно не желает уезжать. Но почему, Лев? – спрашивает мать. Отчего такое упрямство? Оттого, что барон Гирш верит в нас, отвечает он. Зачем, спрашивается, барон привез нас сюда из Европы? Он хочет, чтобы мы здесь жили, обрабатывали землю, сеяли и собирали урожай, доказывая гоям, что евреи – такие же люди, как все.
До чего же добрый этот барон. В России 1906 года – в России, потерпевшей поражение от Японии, – бедные евреи, портные, плотники, мелкие торговцы, ютились в жалких лачугах в деревнях, вечно дрожа в ожидании погрома.
(Погром: пьяные казаки врываются в деревню, мчатся на разъяренных конях прямо на стариков и детей, размахивая саблями направо и налево. Убивают, грабят, поджигают дома. Потом исчезают. И лишь крики и ржание отзываются эхом в грозной ночи.)
В своем замке в Париже барон Гирш в ужасе просыпался среди ночи от стука копыт. Не волнуйся, Гирш, говорила ему спросонок жена. Это просто кошмарный сон, спи. Но барон уже был не в силах сомкнуть глаз. Видение черных коней, топчущих бездыханные тела, не покидало его. Два миллиона фунтов, бормотал он себе под нос. Два миллиона фунтов – и проблема была бы решена.
В мечтах он видел русских евреев, живущих в довольстве и счастье на далеких просторах Южной Америки, видел возделанные поля, скромные, но уютные домики, сельскохозяйственные училища. Видел детей, резвящихся в рощах. Видел ветку железной дороги (одним из главных акционеров которой был, разумеется, он), прорезающую лесные чащи.
Барон – наш благодетель, – постоянно твердит отец. Такому богачу, как он, незачем печься о бедняках. Но нет, он не забыл своих единокровных братьев. И мы теперь должны стараться, чтобы не обмануть надежды этого милосердного, этого воистину святого человека. Они так стараются, мои родители. Это неблагодарный труд: вырубать кустарник, сажать деревья, лечить загноившиеся раны скота, таскать воду из колодца, готовить еду. Они живут в вечном страхе, все грозит им бедой: то засуха, то наводнение, то град, то заморозки, то саранча. Все трудно: нет денег, живут они на отшибе, дом ближайшего соседа в пяти километрах.
Но зато детям будет легче, утешает себя отец. Они выучатся, получат степень доктора. И когда-нибудь скажут спасибо за те жертвы, которые я принес. Ради них и ради барона Гирша.
Крики стихают. Мгновение стоит тишина – отец поднимает голову – и тут раздается плач ребенка. Лицо отца светлеет:
– Это мальчик! Бьюсь об заклад, это мальчик! Так плакать может только мальчик!
Снова крик. На этот раз – дикий вопль ужаса. Отец вскакивает. На миг замирает, оглушенный, но через секунду бросается в спальню.
Повитуха бежит ему навстречу, лицо забрызгано кровью, глаза вылезают из орбит: ах, сеньор Леон, не знаю, как это случилось, никогда не видела ничего подобного, я не виновата, уверяю вас, я все сделала как надо.
Отец озирается, не понимая, в чем дело. Дочери, забившись в угол, испуганно всхлипывают. Моя мать лежит на кровати в полузабытьи. Что здесь происходит, кричит отец, и тут замечает меня.
Я лежу на столе. Крепкий красный младенец. Я слегка похныкиваю, машу ручонками. Выше пояса – нормальный ребенок. Ниже пояса – конская шкура. Конские копыта. Конский хвост, еще пропитанный околоплодными водами. Ниже пояса я – конь. Я – мой отец и не подозревает о том, что есть в языке такое слово, – кентавр. Я – кентавр.
Мой отец подходит к столу.
Мой отец, переселенец Лев Тартаковский. Закаленный невзгодами, суровый мужчина, многое повидавший на своем веку, воистину переживший кошмары наяву. Однажды ему пришлось укладывать обратно в живот кишки работнику, когда в драке ему их выпустили. В другой раз он обнаружил в сапоге скорпиона и раздавил его своим кулачищем. А в третий раз засунул руку прямо в утробу корове и вытащил застрявшего теленка.
Но то, что он видит сейчас – это слишком. Он отступает, прижимается к стене. Впивается зубами в кулак; нет, ему нельзя кричать. От его рева из окон дома посыпались бы стекла, его вопль пронесся бы по полям, достиг отрогов Серра-ду-Мар, океана, неба, райских пастбищ.
Кричать ему нельзя, но рыдать он может. Рыдания сотрясают огромное тело. Бедный. Бедные мы все.
Повитуха первой приходит в себя и принимает командование. Она обрезает пуповину, заворачивает меня в простыню – в большую, в самую большую в доме простыню – и укладывает в колыбельку. Тут возникает первая проблема: я очень велик. Лошадиные ноги в колыбель не помещаются. Повитуха приносит ящик, выстилает его простынями (ты думала о соломе, повитуха? Признайся, ты думала о соломе?), устраивает меня там. В последующие дни эта отважная женщина взваливает на себя все дела в доме, заботится о нашей семье: делает уборку, стирает, готовит, приносит еду одному, другому, заставляет съесть хоть немного, уговаривает крепиться – у бедных евреев такое горе, им нужно время, чтобы оправиться.
Она заботится и обо мне, о кентавре. Дает мне соску, потому что мать только знает, что плакать, она и видеть меня не хочет, не то что кормить. Повитуха меня моет, следит, чтобы я был чистым, а это задача не из легких: мои испражнения обильны и зловонны. В конце концов до повитухи доходит, что, раз я травоядный, мне нужна зелень, и она начинает примешивать к молоку протертые листья салата.
(Не однажды, как расскажет она потом, мелькала у нее в голове мысль задушить меня. Подушкой… Почему бы не положить конец мучениям семьи? Да ей и не впервой: однажды она уже прикончила младенца, родившегося без рук, без ног и с одним глазом. Сжала тонкую шейку и не отпускала, пока зрачок единственного глаза не заволокло смертной пеленой.)
Да ведь не скажешь, что он некрасив, вздыхает она, укладывая меня, сонного, в ящик: такой миловидный мальчик, карие глазки, каштановые волосики. Но вот ниже пояса… Ужас! Она слыхала о монстрах: это такие существа, наполовину курица, наполовину крыса; или наполовину свинья, наполовину – корова; или еще: полуптица – полузмея. А то бывают бараны с пятью ногами или оборотни: люди-волки. Знать-то она знала, что есть такие, но никак не думала, что придется одного из них нянчить. Спи, зверушка, шепчет она. Несмотря ни на что, эта женщина, ставшая после смерти четверых сыновей желчной и сварливой, привязалась ко мне.
Мои сестры без конца плачут. Брат, и до того тихий и чудаковатый, стал еще более тихим и чудаковатым. Что до отца, то он работает, ведь кому-то надо работать. Вырубает кустарник, косит сено. Валя топором деревья, врубаясь в землю мотыгой, он скоро вновь обретает самообладание. Головокружение и отчаяние уже не мешают ему размышлять. Он мучительно ищет объяснений, строит гипотезы.
Отец человек недалекий. Хоть и происходит из семьи мудрых раввинов, но сам звезд с неба не хватает. Еще в России, в деревне, ему приходилось работать в поле, потому что, увы, он безнадежно отставал на занятиях по толкованию Талмуда. Светлой головой Бог меня не наградил, говорит он обычно. Однако доверяет своему здравому смыслу, своей интуиции, умеет истолковывать собственные ощущения: волосы ли на руках топорщатся, сердце ли колотится, щеки ли горят – для него все это полно смысла. Временами ему кажется, что откуда-то из собственного нутра до него доносится голос Бога, из точки где-то между пупком и верхней частью желудка. Именно к этому голосу он сейчас тщетно прислушивается. Ему нужна уверенность, нужна правда. Какой бы горькой она ни была.
За что ему такое? За что?
Почему судьба избрала его, а, скажем, не русского казака? Почему это выпало именно ему, а не кому-нибудь из поденщиков или из окрестных помещиков? За что? Какое преступление он совершил? В чем ошибся, если Бог так наказывает его? Сколько он ни допрашивает сам себя, никак не может припомнить своих грехов, во всяком случае, тяжких. Мелкие промахи – это пожалуй. Да, он доил корову в субботу, в день отдыха, в святой день, но вымя у коровы было переполнено, не мог же он оставить ее мучиться, мычать от боли. А молоко он тогда не взял себе, вылил. Разве, это грех? Нет.
И чем больше убеждается он в своей невиновности, тем отчетливее сомнение: а его ли сын этот кентавр?
(Кентавр. Я сам в будущем научу его этому слову. Он не слишком силен в мифологии.)
Но тут же приходят угрызения совести. Как он мог такое подумать? Роза ему верна. А если бы и нет, то от какого отца могло родиться это невероятное существо? Есть в округе странные люди: мрачные мулаты, уроды, бандиты, даже индейцы. Но ни одного с лошадиными ногами он не встречал.
Лошадей-то здесь немало. Даже диких, их ржание он не раз слышал издали. Но чтобы конь! Нет. Есть испорченные женщины, способные отдаваться любой скотине, даже жеребцу, но Роза не из таких. Это добрая простая женщина, живущая только ради мужа и детей. Неутомимая труженица, заботливая хозяйка. И она верна, безусловно, верна. Она совсем не сварлива, почти никогда не бывает раздражительной, она добрая, мудрая. И верная.
Бедная женщина. Сейчас она неподвижно лежит на кровати с широко раскрытыми глазами, безразличная ко всему. Повитуха и дети приносят ей суп, вкусные бульоны; она не реагирует, ничего не говорит, от пищи отказывается. Ей пытаются разжать зубы ложкой – она сжимает их изо всех сил. Но все-таки несколько капель бульона, кусочки яйца, несколько волокон куриного мяса попадают ей в рот, она непроизвольно глотает, и, без сомнения, только благодаря этому до сих пор жива.
Жива, но не шелохнется. И молчит. Ее молчание будто упрек: ты виноват, Лев. Это ты привез меня сюда, на край света, на безлюдье, где одно зверье да скот. Я столько смотрела на лошадей, что и сын мой таким уродился. (Она могла бы привести примеры: женщины смеялись над обезьянами и их дети рождались покрытыми шерстью, женщины смотрели на кошек, а их дети потом месяцами мяукали.) А может быть, его род казался ей сомнительным: в твоей семье все калеки или уроды, твой дядька родился с заячьей губой, двоюродная сестра – с шестью пальцами, а у родной сестры диабет. Так что ясно: ты во всем виноват, могла бы закричать она, но не делает этого. У нее нет сил.
Ну а потом, ведь это ее муж, ее супруг. Ей никогда никто другой не нравился, ни о ком другом она не думала. Отец сказал ей: выйдешь за сына Тартаковского, он парень хороший. И все – судьба ее была решена. Кто она такая, чтобы спорить? Да ей и нравился Лев, он был одним из самых красивых парней в деревне. Крепкий, веселый – так что ей просто повезло.
Поженились. Вначале не все было складно… В постели. Он был грубый, неумелый, делал ей больно. Но потом она привыкла, ей даже стало нравиться, и все было хорошо до тех пор, пока их не разбудил однажды ночью стук копыт и пьяный казачий рев. Они бросились бежать, спрятались в кустах у реки и сидели там, дрожа от страха и холода и глядя на зарево пожара. К утру вернулись в деревню. На главной улице валялись обезображенные трупы, дома превратились в дымящиеся руины. Надо бежать отсюда, мрачно проговорил Лев. Не желаю больше слышать об этом проклятом месте.
Роза не хотела уезжать из России. Погромы погромами, но она любила свою деревню, тут была ее родина. Однако Лев был настроен решительно. Стоило прибыть эмиссарам барона Гирша, как он первым вызвался ехать на освоение земель Южной Америки. Южная Америка! Роза дрожала от страха, представляя себе голых троглодитов, тигров и гигантских кобр. Уж лучше казаки! В тысячу раз лучше! Но муж не принимал возражений. Собирай чемоданы, приказал он. Она, беременная, задыхаясь от напряжения, повиновалась. Сели на грузовой корабль в Одессе.
(Спустя много лет она еще будет с ужасом вспоминать это путешествие. Сначала холод, потом – изнурительная жара, тошнота, запах рвоты и пота, палубы, на которых теснились сотни евреев. Мужчины в шляпах, женщины в платках, несмолкаемый детский плач.)
Мать приехала в Порту-Алегри больная, с температурой. Но одиссея на этом не закончилась. Надо было ехать в глубь страны, сначала – на поезде, потом – на телеге по просеке, вырубленной в лесу, до самой колонии. Их ждал представитель барона. Каждой семье выделили земельный надел – моим родителям достался самый отдаленный, – а также дом, инструменты, скот.
Отец был рад: каждый день просыпался с песней. Мать – нет. Жизнь в колонии казалась ей хуже, в тысячу раз хуже, чем в деревне в России. Дни изнурительного труда, ночи, полные загадочных звуков: писка, щебета, визга. Особенно ее пугало незримое присутствие индейцев, бродивших вокруг дома. Ну какие индейцы, женщина! – ворчал отец, индейцы далеко. Она молчала. Но вечером, когда они садились у плиты выпить чаю, глаза индейцев мерещились ей среди горячих угольев. В кошмарных снах она видела, как индейцы врываются в дом верхом на черных жеребцах, как те, что были у казаков. Она просыпалась с криком. Отец пытался ее успокоить.
Но мало-помалу и она начала привыкать к новому месту. Рождение детей, несмотря на то что роды у нее всегда проходили тяжело, было утешением. И мысль, что дети вырастут в другой стране, в стране с будущим, вдохновляла ее. Она наконец поверила, что счастлива. Но Лев никогда не был доволен. Троих детей ему казалось мало – нужен четвертый. Подавай ему еще одного сына. Она долго сопротивлялась, но в конце концов сдалась. Носила тяжело: ее часто рвало, она едва могла двигаться, так велик был живот – их там, наверное, четыре или пять, стонала она – и вдобавок ее преследовали галлюцинации: она слышала шум гигантских крыльев над домом. И вот наконец роды и появление монстра.
Может, это временно, с надеждой повторяет про себя отец. Как и жена, он знает о детях, родившихся покрытыми шерстью, вроде обезьяньей, но через несколько дней шерсть у них вылезала. Кто знает, может, и это такой же случай? Надо только немного подождать – и копыта отвалятся, шкура сползет клочьями, и появятся нормальный живот и ноги, немного недоразвитые из-за того, что долго пробыли в сумрачном чреве коня. Но стоит им освободиться, они зашевелятся, эти проворные ножки. Он бы как следует выкупал малыша, сжег бы отвратительные остатки в печи, и еще прежде, чем их окончательно пожрало бы пламя, все было бы забыто, как дурной сон. И они снова были бы счастливы.
Дни идут, а копыта так и не отваливаются, на шкуре – ни трещинки. Новая мысль приходит в голову отцу: это болезнь. Может быть, излечимая. Как вы думаете, спрашивает он повитуху, может, то, что с моим сыном – болезнь?
Повитуха ни в чем не уверена. Она тоже сталкивалась со странными случаями: на одном ребенке выросла рыбья чешуя, другой родился с хвостом – хвостик был всего сантиметров десять, но это был самый настоящий хвост. Существует ли лечение? Ну, этого она не знает. Только врач может точно сказать.
Врач. Отец знает, что доктор Оливейра – человек сведущий. Вдруг у него получится. Вдруг он вылечит младенца-жеребенка, сделает ему операцию или какие-нибудь уколы в круп, от которых задние ноги засохнут и отвалятся, как сломанные ветки, шкура отслоится и покажутся зародыши нормальных ног. Или выпишет ему капли, пилюли, микстуру, ведь доктор Оливейра знает массу всяких средств, хоть что-то должно подействовать.
Одно только мучает отца: сохранит ли доктор в тайне существование младенца? Антисемиты могут усмотреть в этом случае доказательство связи евреев с Нечистым. Отец знает, что еще и не за такое в средние века его предков поджаривали заживо.
Но колебания отброшены. Жизнь сына превыше любого риска. Отец запрягает кобылу и едет в город к врачу.
Два дня спустя является доктор Оливейра верхом на своем сером в яблоках поджаром жеребце. Высокий, элегантный мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. Он надел длинный плащ, чтобы в дороге его костюм из английской шерсти не запылился.
– Привет, вот и я!
Он человек жизнерадостный, говорун. Входит, потрепав сестер по щечкам, поздоровавшись с матерью, которая не отвечает – она еще не оправилась от шока. Ребенок тут, говорит отец, указывая на ящик.
Улыбка исчезает с лица доктора Оливейра, и он невольно делает шаг назад. По правде говоря, рассказу моего отца доктор не поверил, а потому и не торопился на вызов. Однако теперь он видит все собственными глазами, и то, что он видит, приводит его в изумление. В изумление и в ужас. И это при том, что в медицине он собаку съел: каких только тяжелых случаев ему не доставалось. Но кентавра он никогда раньше не видел. Кентавр – это за пределами его воображения. Кентавров в учебниках по медицине нет. Кто из его коллег видел кентавра? Никто. Даже профессора, даже светила бразильской медицины. Случай, без сомнения, единственный в своем роде.
Он садится на стул, принесенный моим отцом, снимает перчатки и молча созерцает кен-тавренка. Отец в тревоге следит за выражением его лица. Но врач молча вынимает из кармана пиджака авторучку и тетрадку в кожаном переплете и пишет:
«Странное существо. Возможно, врожденный порок развития. Поражает сходство нижней половины с лошадью. До уровня пупка – хорошо сложенный, красивый мальчик. Ниже – вьючное животное. На лице, шее, груди – гладкая розоватая кожа, далее – небольшая переходная зона: кожный покров утолщенный, сморщенный, грубый, прелюдия того, что ниже. Золотистый пушок становится все гуще и темней, затем резко переходит в гнедую шерсть. Ноги, круп, хвост, копыта – все как у лошади. Особенно привлекает внимание пенис, поскольку необычайно велик для грудного ребенка. Сложный случай. Радикальная операция? Невозможна».
Отец не выдерживает.
– Так что же, доктор?
Захваченный врасплох доктор бросает на него недружелюбный взгляд: