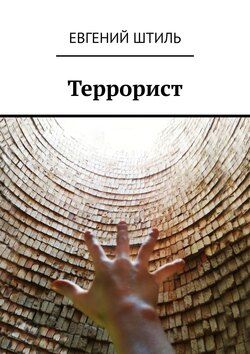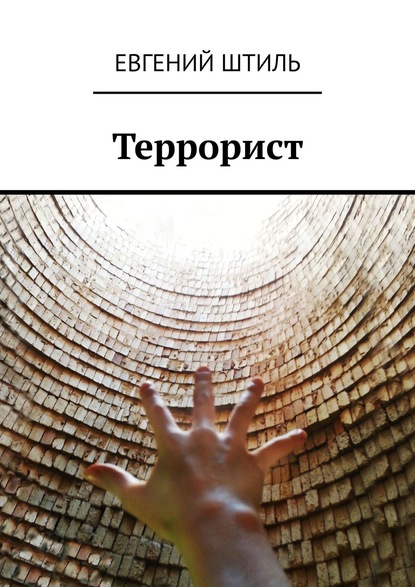© Евгений Штиль, 2020
ISBN 978-5-4490-2777-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Слово от автора
И снова вниманию дорогих читателей предлагается непоследовательная мозаика из грустного и веселого, из жизненного и не совсем обычного. Соблюсти какую-либо внятную хронологию у автора также не получилось. Как и в первый сборник «Дерево на твоем окне», в данную подборку вошли вещи, созданные и до миллениума, и много позже. Поэтому добрый совет: не ищите тайного смысла и закулисной логики – просто выбирайте прозаический поток по душе, отталкивайтесь от берега и плывите.
С Любовью,Евгений Штиль
Ириска

День у Валерия получился славный. С начала и до конца.
Почему? Да потому что случился сон – полноцветный и сочный, точно яблоко из пахучего детства. И были в том сне полеты – самые настоящие – с панорамным обзором, с кусаче-сладковатым присвистом на дне кишечной лоханки. Он ведь давно уже не летал, ни наяву, ни во снах, а тут взмыл – да еще как! На легком дельтаплане с алым, почти гриновским крылом выписывал пируэты над знакомыми холмами Планерского, зависал против ветра, на бреющем мчался вниз, свечой возносился в небо. А ведь было такое и в реалиях – в архидалекой юности, в волшебные времена, когда из почтовых ящиков извлекались письма, а не счета с рекламной чепухой, когда и ездили в Крым не на пляжи с шашлыками, а ради мегалитовых тайн кромлехов и дольменов, ради оглушительных высот Ай-Петри и сумасшествия восходящих потоков. И вот – пусть во сне и ненадолго, но что-то такое вернулось. Душа звенела от восторга, земля превращалась в лоскутное одеяло, в шахматную гигантскую доску, и стоило принять чуть ближе к морю, как вздымалось над миром бугристое тулово дракона, топорщило устрашающие шипы, и голова с гребнем Карадага жадно припадала к морскому водопою, глотая и втягивая в себя бирюзовые волны…
Короче говоря, сон подобного рода обещал славное продолжение, и не удивительно, что в этот день ему дважды улыбнулся шеф, и трижды – секретарша Людочка. На то имелись весомые причины. Блок диагностики, тестируемый уже на протяжении месяца, наконец-то «зафурычил и зафункциклировал», что и отразило в отчете вдохновенное перо присланного студента-ассистента. Работа задалась, а с ней задалось и общее настроение, тем более что особенным этот день делало великое событие. Именно сегодня Валерий Кузьмич (для своих – Лерыч или Валерка), в прошлом заядлый дельтапланерист, нынче – заведующий лабораторией пусков НИИТЭК, расставался с мадмуазель Евгенией. Расставался после семи лет совместных урядиц и неурядиц, а семь лет – это не одно-единственное лето, это срок! И если уж распевают на всех углах, что лето – это маленькая жизнь, то семь означенных лет при определенных условиях могут запросто превратиться в вечность.
Можно было горевать и плакать, но в то время как другие устраивали праздники души и тела, меняли брюнеток на блондинок, кротких овечек на громогласных стервочек, примеряли подруг, будто сезонные сорочки и морские курорты, у Валерия все протекало скучно и обыденно. Работа разбавлялась исключительно настольным теннисом, беседы в курилках походили одна на другую, а вечера неизменно проводились в компании одной и той же дамы. Раньше даму он именовал Женькой, теперь – преимущественно Евгенией. Раньше Валерий ездил в Крым, теперь сидел дома или ограничивался местными санаториями. В общем, была новизна и сплыла. Возникла обременительная обязаловка. А ведь даже женаты они не были. Как-то в голову не приходило регистрировать отношения. И все равно зачем-то встречались. Почти ежедневно. Только недавно обоих осенило (одновременно, заметьте!), что затянувшийся сериал можно прекратить смелым движением ножниц. Очень уж много мыла и мало смысла. Кстати, слова почти однокоренные – мыло и смысл. Но вот именно – почти…
Как бы то ни было, расставались с обоюдным облегчением. Евгению утомила обыденность, у Валерия замаячила на горизонте Людочка – соблазнительная тропка влево, веточка, по которой с неожиданной силой захотелось отклониться от привычного ствола. Да и в Крым потянуло – к летучей молодости, к Волошинскому профилю, к агатовым пескам и Шаляпинскому гроту. Не зря же приснился сегодняшний сон! Может, прямо с Людочкой и махнуть на красивом аэроплане поближе к солнцу? Подсуетиться с билетами, собрать рюкзачок – и в обнимку вперед! Потому как быстротекущие годы – с одной стороны, и остатки нерастраченного обаяния – с другой. И яснее ясного, что еще немного, и плюсы превратятся в минусы, истает обаяние, поредеет волос, угаснет огонек в глазах. Последнее десятилетие пробежит вхолостую, в сущности, потратится ни на что.
В институтском туалете Валерий осмотрел себя в зеркале, скупо улыбнулся. Древние вещали правду: улыбка – вещь более тонкая, нежели смех. А улыбаться он, по счастью, умел. Хоть и не слыл никогда красавцем. Старомодные баки выглядели как пара заплесневелых пончиков, дырчатый, смахивающий на кукурузину нос совершенно не красил лица, а уж просвечивающие на солнце крупные уши годились разве что для страниц развеселой «Бурды». В общем, недоразумение, а не мужчина. Но ведь странным образом нравился. Иные дамы и письма писали, и заигрывать пробовали, на одиночество жаловались. А он ширкал своей кукурузиной и, как последний дурак, возвращался домой, на диван – к Евгении и вечерним сосискам, к его широкоэкранному величеству Телевизору. В сущности, в болото – в царство мух и домашних тапочек, в дремотные ночи, где уже никак не леталось.
И вот – замаячило, проблеснуло! То самое, что молодые зовут движухой. Оказавшись на распутье, оба вдруг обнаружили, что руки их отнюдь не скованы, что дорожки вольно разбегаются в стороны, что можно идти куда хочется: направо, налево и даже на чертовы кулички.
Валерий хорошо помнил, с каким воодушевлением кивнула Евгения, когда назревшее было озвучено. Она давненько подумывала о том же. Только не говорила, боялась обидеть. И он, вероятно, опасался того же. Однако решилось все просто, и этот вечер они решили отметить. Так сказать, завершающим аккордом. Дабы покончить с затянувшейся кантатой на двоих.
Распутье обещало волю.
Распутье становилось благом.
***
«Husband» – по-английски «муж», а глагол «to husband» означает «экономить». Перевод, к слову сказать, символичный, но сегодня Валерий экономить не хотел. Праздник – так праздник, а посему он заказал всего и много, даже с перебором. Ресторанчик был, конечно, не самый дорогой, однако ударить по бюджету гражданина средней полосы России и среднего достатка мог очень даже чувствительно. Тем не менее, сегодня об этом не думалось – сегодня они праздновали расставание, отмечали освобождение. Гордиев узелок замечательно развязывался, и парой веревочек-змеек они обретали возможность струиться в разные стороны. Он – к своей Людочке и вожделенному Крыму, она, без сомнения, тоже к какому-нибудь мачо помоложе и побогаче. Хотя бы вот к этому усачу, что пригласил ее на танец.
Прихлебывая шампанское, Валерий с улыбкой смотрел на танцующих и даже чуть пришлепывал носком лаковой туфли. Евгения тоже сияла. И ведь вырядилась, точно на свадьбу! Надела нефритовое колье, сережки, колечко – все лучшее из того, что он ей когда-то дарил. И платьице выбрала самое парадное, подчеркивающее грудь, талию, линию спины…
А в общем, надо отдать ему должное: Евгения выглядела моложе своих лет. Значит, не мытарил – берёг. Валерию даже пришло на ум, что смотрит он на нее как отец на повзрослевшую дочку. Дочурка выросла, расцвела, дочуру пора было выпускать в свет, выдавать замуж. Момент щекотливый, но за Евгению папа Валера был спокоен. Он неплохо ее сохранил. Более того – успел вложить в девичью головушку массу ценного! Приучил к футболу и боксу, к пельменям и маринованным грибкам, познакомил со сленгом технарей, с кухней гурманов-командировочников, научил ходить на лыжах и понимать живопись. Да что там живопись! – она и обои клеила теперь вполне прилично, и гипсокартон кусками пластала, и плинтус шпаклевала! А кто отсоветовал ей краситься ярко и безвкусно? Кто сочинил сегодняшнюю прическу – столь же экономную, сколь и привлекательную? Чего уж скромничать: под его руководством вчерашняя студентка превратилась в настоящую бизнес-леди. Куда там приторной Элизе Дулитл! – его творение было много интереснее. Ведь косились с соседних столиков, на танец рвались приглашать, улыбались медово, значит, можно было не волноваться – подруженька не потеряется и не пропадет. Вот на него посматривали совсем с иным выражением – что называется «хмуроглазо» и «косохмуро», из чего следовало два полярных предположения: либо выглядел он на фоне своей дамы чересчур страшно, либо наоборот – подозрительно шикарно. Валерия, разумеется, устраивал второй вариант, хотя верен был, скорее всего, первый.
Усатый кавалер проводил Евгению к столу, поблагодарив, деликатно расшаркался и отошел.
– Понравилось?
– Не то слово! – Евгения порывисто хлебнула из бокала, закусила икрой. – Вспомнила про нас с тобой – как мы первый раз танцевали. Ты тогда и разговаривать не стал, с ходу меня обнял.
– Чего было тянуть? Ты мне сразу понравилась.
– Ты говорил, что понравилась моя грудь.
– Ага, – легко признал Валерий. – Сначала грудь, потом ушки, а после и все остальное. У мужчин всегда так. Называется – фрагментарное зрение. Как у насекомых.
– Вы и есть насекомые.
– А вы?
– И мы тоже. Но мы – пчелки. Трудолюбивые и ответственные. – Евгения игриво подмигнула кому-то в толпе. – Не замечал, как по-разному летают осы и пчелы? Оса летит прямо к цели, нигде особенно не задерживается. А пчела исследует бутон за бутоном, старательно собирает пыльцу. Да и внешне напоминает сгорбленную хозяюшку. Когда на лапках пыльца, полное впечатление – будто видишь женщину с авоськами.
– А мужчины, стало быть, осы?
– Ну да. Вы и жалите больнее, и жал в ранах не оставляете. Чтобы без следов и улик.
– Послушать тебя – мы прямо киллеры-профессионалы.
– Так оно и есть.
– А как тогда быть с телегонией? С памятью наследственной?
– Ну… Телегония – вещь мистическая, наукой, по счастью, мало изученная, – Евгения философски улыбнулась. – Но если мои дети будут походить на тебя, мне будет приятно.
– Странно, но и мне тоже. Хотя… Будет ли это приятно им? – Валерий в сомнении потер свой носище. – Насчет пчелок с осами тоже мог бы поспорить. Кто и кого больнее кусает – тоже вопрос не решенный. Наше-то жало при нас остается, а вот ваше потом не выдернешь, как ни старайся.
– Так уж не выдернешь?
– Да-да! Можешь смеяться, но я однажды рассматривал пчелиное жало через лупу – там и впрямь зубчики по краям. Как у крючка рыболовного. Так что кусаете вы крепко и надолго, – Валерий подкинул оливку, поймал ртом. Горделиво улыбнулся. – Жало-то выдается с мешочком яда, значит, и боль пролонгирована по времени.
– Зато без жала пчелки погибают… – Евгения тряхнула сползшим на лоб медным завитком, белозубо улыбнулась. – А помнишь, как мы с дерева чуть не свалились?
– Почему это «чуть»? Именно свалились. Я на землю, а ты на меня. Пчелка четырехпудовая.
– Ладно тебе! Я тогда, можно сказать, впервые в жизни страх преодолела, на дерево полезла.
– А уж сколько я тогда страха натерпелся! – Валерий хмыкнул. В ту первую совместную осень они часто ходили с Евгенией в походы, исследовали друг дружку, исследовали окрестности. И тогда же он вздумал учить ее взбираться на деревья. Выбрал вполне подходящее – кривоватую сосну с низко растущими ветками – практически тренажер для первоклашек и чайников. Только у Женьки все равно ничего не вышло. То есть – заползти наверх у нее получилось, а вот на обратном пути произошел сбой, и девочка надежно застряла. То ли вниз посмотрела и испугалась, то ли силы иссякли. Так или иначе, но Женька капом приросла к стволу и нипочем не желала слезать. Держалась за ствол всеми четырьмя конечностями и в голос ревела. А он бегал вокруг, орал, ругался, увещевал и упрашивал. Потом сам полез к ней, гладил по спине, нашептывал всякую чушь, утешал, словно младенца. И ведь подействовало! Немного похлюпав носом, она успокоилась и ослабила хватку. Так ослабила, что он не успел вовремя отреагировать. Рухнули вниз в обнимку – точно скалолазы в песне Высоцкого. Хорошо, хоть угодили на мох. Уцелели…
– Ты тогда на негритянку походила. Вся в трухе да в смоле.
– Зато от высотобоязни излечилась.
Это верно, тут она ничуть не преувеличивала. За минувшие семь лет Валерий вылечил ее от многого: от высотобоязни и шопингомании, от зависти к актрисам на обложках и комплекса неполноценности, от страха перед стоматологами, дворовыми псами и целлюлитом. А сколько раз он лечил ее от ангины и гриппа! Травками поил, спиртом растирал, даже голодать заставлял. А было и такое, что Евгения заявилась к нему, пошатываясь, с температурой под сорок! Пришла, потому что до него от работы было значительно ближе. И что-то он тоже мудрил-выдумывал – с отварами и компрессами, с шерстяными носками и греющими растираниями. Пятки мял, виски массировал, чеснок по всей квартире разбросал. А в итоге, взял, лекарь хренов, и овладел ею. Сам даже не понял, как это произошло. Никогда ведь раньше у него такого не было, а тут прилег рядом, обнял – и все заверте… Совсем как в рассказе Аверченко. Казалось, будто печь раскаленную ласкает – самую малость не обжигался. И она в полубезумии и полубреду отвечала на ласки загадочно и непривычно, точно инопланетянка Аэлита. Но самое удивительное, что на утро от температуры не осталось и следа. Встала, как ни в чем не бывало, и отправилась на работу. И он почему-то тоже не заболел.
А еще у них это случилось однажды на крыше. Всего-то и выбрались ранней весной – полистать книжки да позагорать. В результате, перепачкались в битуме и сгорели, как англичане в какой-нибудь Испании. У него потом облезали сожженные солнцем ягодицы, у нее – колени…
– А помнишь, как болели за наших бойцов? – оживилась Евгения. – Что-то восточное показывали – не то «Бусидо», не то «Рингс».
Валерий кивнул. Такие сумасшествия тоже не забываются. Показывали какой-то небоксерский чемпионат – с применением ног и практически без правил. Дикое откровение по тем временам! Многие вовсе не смотрели – плевались, другие прикипали к экранам намертво. И их тогда тоже засосало. Очень уж переживали за одного симпатичного японца. Конечно, японец тоже бил лежачих и правил не особо соблюдал, но выглядело это у него как-то поблагороднее, поинтеллигентнее, что ли. Видно было, что щадит противника, не добивает. И кулак занесенный сдерживает, и зубы в крошево не превращает. Рыцарь, короче. И вот когда симпатяга японец (не наш, но вроде как уже и наш), в конце концов, победил всех своих оппонентов-упырей и выиграл турнир, Женька с Валерой пустились в полпервого ночи в самый настоящий пляс – с подскоками на балконе, с воплями и поцелуями. Из стартового пистолета даже бабахнули – совсем как в новогоднюю ночь. В общем, продемонстрировали акт нормального человеческого безумия.
– Выпьем? – предложил Валера. – На брудершафт?
– Запросто! – Евгения снова рассмеялась. Значит, тоже припомнила, как подобное предложение он сделал ей в первую встречу – сразу после грома дискотеки и миазмов курилки. Ни он, ни она пить на брудершафт еще не умели. Оба потянулись губами и тут же облились вином. Она испортила свое выходное платье, он – свой лучший пиджак. Потом, уже у него в ванной, вместе отмывали чернильно-красные пятна, поочередно трясли коробкой с солью и стиральным порошком, чем и сгубили одежду окончательно. Зато и домой без платья она уже пойти не могла – пришлось оставаться с кавалером на ночь.
– Вот что значит – отсутствие опыта, – Валерий наполнил бокалы, галантно переплел с Евгенией руки. Не без удовольствия отметил, что с соседних столиков на них искоса поглядывают. Кто с завистью, а кто и с откровенным недоумением.
Он хотел просто чмокнуть Евгению, но поцелуй вышел неожиданно сладким и загадочным. Не тем жадным взасос, что так часто показывают на экранах, но и совершенно не школьным. Будто нежно куснули друг дружку – и даже чуточку лизнули. Валерия при этом словно током обожгло. И даже накрыло волной смущения. Точно и впрямь целовался впервые.
– Как ты теперь будешь? – тихо поинтересовалась Евгения. – Один или есть кто на примете?
– Не то чтобы есть, но… – Валерий пожал плечами. – В общем, завлекает тут одна. Секретарша нашего шефа. Ножки, личико – все при ней.
– А что шеф?
– Шефу эти прелести без надобности. У него цифры да схемы на уме. Обналичка обезличенного, санкционный дефицит и прочие фокусы. Вот и скучает девонька. Лицо фирмы, а скучает, представляешь?
– Непорядок! – качнула головой Евгения. – Лицо фирмы скучать не имеет права.
– И я о том же!
– Значит, подружись. Думаю, у тебя получится.
– Возможно… А ты куда целишь? – Валерий тряхнул головой, недавнее смущение ушло. – Тоже, наверное, есть в запасе какой-нибудь секретарь?
– Мужчин секретарей у нас пока еще не завели, – Евгения подцепила вилочкой оливку, прикусила ее зубками.
– А генеральные?
– А эти наоборот повывелись. Я, Валерочка, скромно охмуряю директора нашего банка.
– Лихо!
– Главное, что дело от этого выигрывает. Без моих советов он давно бы заплюхался.
– Значит, приятное с полезным?
– Скорее, полезное с полезным.
– Тогда не тяни. Банкиры – народ непостоянный.
– Ты так считаешь?
– Не я, – они так считают. Денежные знаки и прочие жизненные блага жутко отвлекают. Я же говорю: время сумасшедшее, все вокруг заболели бизнесом. Опять же кризисы, девальвации-стагнации… Так что не тяни, обрабатывай клиента.
– А что? Может, прямо сегодня и встретимся. Он вообще-то намекал.
– Вот и правильно, – Валерий деловито потер лоб. – Кстати! Я своей Людочке тоже звякну. Может, сомкнем отпускные недельки и махнем в Крым. Или в Египет – акул с рук покормим.
– Меня ты тоже в Крым однажды звал. Полетать над холмами.
– Помню. Только ты зимой отдыхала.
– А ты – летом.
– Вот и не получилось. Аппарат у меня до сих пор в гараже пылится. А знаешь, какие там ветра! – Валерий причмокнул губами. – Часами можно в воздухе парить. Сутками! Слетать до самого солнышка и обратно, а при желании и весь Крым пересечь – от Сиваша до Севастополя. Если, конечно, пограничники не собьют.
– Больно им надо. Они вон в Москву чужой самолет пропустили.
– Так это когда было. Второй такой уже не пропустят. Не ракетами, так из «калашей» сшибут, камнями забросают.
– Значит, хорошо, что не полетали, – сделала вывод Евгения. – Сбили бы над твоим любимым Сивашом – и не сидели бы сейчас, не пили бы шампанское…
Легкий треп враз оборвался. Валерий задумался, Евгения замолчала. И глаза ее угасли – точно лампочки, лишенные питания. Но оттого только возросла ее сегодняшняя привлекательность: своим обесточенным взглядом она рождала сердоликовый туман, и туман этот завораживал, обволакивал. Наблюдая этот странный феномен, Валерий снова порадовался. Он действительно мог собой гордиться. Минувшие годы ничуть не состарили Евгению – более того, она, несомненно, похорошела.
– Вы не против, девушка? – он протянул ладонь, и, очнувшись, она мягко подала свою. Квартет на подиуме заиграл что-то тягуче-медовое – как раз то, что требовалось. Валерий повел Евгению танцевать…
А еще через пару часов, разомлевшие от еды и вина, они покидали ночное заведение. Шли, основательно покачиваясь, словно продолжали ресторанный танец, шутливо толкая друг друга бедрами, свободные и от того, верно, особенно счастливые.
Всё в эти сказочные сутки получалось само собой, и, не прошенное, рядом притормозило вполне опрятное такси. Валерий галантно помог Евгении устроиться в салоне, не удержавшись, вновь поцеловал в губы.
– В последний раз… – он, извиняясь, улыбнулся, она, извиняя, махнула рукой. Двигатель машины нетерпеливо взрычал, такси устремилось в неведомое.
С хрустом распрямив спину, Валерий потянулся, на пару мгновений распахнул руки. С неба подмигивали вольные звезды, напоминая о высоте и крыльях, – он стоял на перекрестке и мог идти, куда хотел. Вправо, влево и вверх – по балконам, крышам и облачным ступеням. Сердце екало, разыгрывая свою тайную рулетку, но что-то с советами не спешило.
Увы, история выходила совершенно неоригинальной. Выпорхнув из клетки, птички недолго гадали да раздумывали. Пощебетав в свое удовольствие, потолкались на жердочке и разлетелись в разные и оттого особенно теплые края.
***
Луна на ущерб и день на убыль – что-то подобное творилось и с ним. Путь домой оказался длинным и скучным, как бельевая веревка. По краям дороги громоздились дома-близнецы – несуразные великаны в квадратных пиджаках, многооконные, молчаливые. Сумеречное небо перечерчивали провода и кабели. Люди-пауки свое дело знали: планету кропотливо опутывали и закатывали в кокон. Что должно было вылупиться в финале, не ведал никто – даже лохматые березки, что игриво выглядывали из шеренги тополей. Косясь в их сторону, Валерий неожиданно понял, что ни к какой Людочке он не пойдет. Наверное, даже звонить не будет. Потому что поздно, потому что устал. А еще потому, что Людочка очень уж ярко красится, и на голове у нее настоящий Вавилон. Значит, снова придется учить и советовать, снова отправляться в походы, приобретать глянцево-пахучие программы филармоний, покупать бусы, сережки и прочие цветики-самоцветики. Ничего не попишешь, женщина – подобие банка. Сколько вложишь в нее, столько процентов и набежит. Между прочим, не факт, что набежит, однако надежда есть всегда. В Людочку он не вложил пока ничего. В отличие от той же Евгении…
Шепелявым ветерком налетела грусть, заботливо укутала в горьковатый плед. Ясно представилось, что вот сейчас он вернется домой, рухнет на опустевший диван, раскинет руки распятьем и заскучает. Наверное, и ноги разведет – чтоб уж выложить полный крест, а точнее – звезду, если считать голову конечностью. Впрочем, голова – не конечность. Скорее, изначальность. Всего и вся. Источник мыслей и пучина горестей. И, спасаясь от последних, он потянется к журнальному столику. В руку ящеркой скользнет пупырчатый пульт, и пальцы сами собой нашарят нужные кнопки. Телевизор он включать не будет, но зажжет огоньки музыкального центра. А после заведет своего любимого Вивальди. Или Глюка… Когда-то давным-давно под пасмурное настроение Валерий любил слушать «Адажио» Ремо Джадзотто – не из мазохизма, напротив – пытался гомеопатически лечить подобное подобным. Однако со временем перестал. После того как музыку сделали народно-похоронной. А может, просто приелось – ничего не попишешь, красота тоже грузнеет и блекнет. Впрочем, поплакаться ему всегда находилось подо что – от Шопена с Листом до Каччини с Чайковским. Все самое лучшее всегда получалось наиболее печальным. Иначе, наверное, и быть не могло.
Помнится, про Пастернака усатому вождю тоже нашептывали: мол, грустные стихи пишет, упаднические, а жить-то стало веселее. Может, поправить поэтическую ручонку, а то и вовсе вывернуть за спину? Но вот не стали выворачивать. Странная штука, усатый тиран поступил совсем даже не по-тираньи. Возможно, потому что и сам когда-то пытался сочинять. Иначе не сказал бы, что хорошие стихи веселыми быть и не могут. А вот неверный соратник и улыбчивый кукурузник к сочинительству любви как раз не питал. Соответственно и травлю Пастернаку организовал вполне качественную, лишив мировой премии, а после планомерно вогнав в тяжелую болезнь…
В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.
Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную…
Валерий пораженно остановился. Ну, да, конечно, пастернаковский Живаго! Именно эти стихи она ему сегодня читала! Все время, пока они покачивались на танцполе в такт мелодии. Он приучил ее к Рахманинову с Пахельбелем и Гродбергом, она свела его с серебряным веком России – за год с небольшим сломив поэтический скепсис, одурманив сказочным диапазоном того пестрого времени. Северянин, Хлебников, Сологуб, Есенин… Она читала их наизусть без каких-либо книг и шпаргалок, и было абсолютно непонятно, как такое обилие строк помещается в ее симпатичной головке. В итоге условный рефлекс был закреплен: стоило ей открыть рот, и он умолкал, превращаясь в кобру, что размеренно внимает играющему на флейте факиру. Да, да! Это их, пожалуй, и роднило. Они оба умели слушать. Точнее – умели говорить друг другу такое, отчего не хотелось прятаться и закрывать уши. Евгения слышала его, а он ее.
Валерий ощутил озноб. Точно петарда лопнуло под темечком понимание того, что ни Людочка, никто другой уже не сможет с ним общаться подобным стихотворным образом, и невольно он представил себя, танцующим с секретаршей, ее жеманное хихиканье, горячие руки на шее, яркие губы возле уха. Озноб перерос в дрожь.
Домой! Быстрее и не оглядываясь! К чертям всю эту кисельную кашу, было – и сплыло. Чудесный день следовало завершить не самой мрачной нотой – под мысли о себе и о ней, под думы о дружбе и недружбе, может быть, финишным глотком коньяка или водки – что уж там отыщется в холодильнике. И тогда… Тогда снова все как бы наладится и устроится, вернется способность рассуждать здраво, и засеменит перед мысленным взором череда вечных антонимов: улыбки и смеха, музыки и грохота, взлета и падения, любви и страсти. Чуть позже заколосятся мысли о смерти – о том, что именно в многолюдье проще простого умереть от одиночества. Когда все не то и не так, когда хочется встать и уйти через окно – хоть по-английски, хоть даже по-русски. Само собой, ото всех этих головоломок уже через какой-нибудь час заноет черепная коробка, и нависнет дамокловой остроты вопрос: где и в каком году он ступил неверной ногой на ложную тропку? Может быть, все пошли, и он пошел? Потому что вместе, как на парад и к заводской проходной? Никто не одернул, не удержал, не дал должного совета. А хуже всего, что промолчало собственное сердце…
Кто знает, возможно, только и было у него несколько волшебных часов озарения – когда парил над долинами Коктебеля. Там, на шелестящей высоте, мир был прекрасен и звонок, а люди смелы и прекрасны, и не было нерешенных вопросов – ну, ни единого! – пусть даже из самых-самых сложных. Озирая все горизонты разом, он знал всё и про всё – про Хвалынское море и Понт Эвксинкий, про древнюю Ольвию и залив Донузлав, про Тарханкутские подводные пещеры и белые камни Севастополя. Земля поражала спелой округлостью, и люди на ней были далеко не единственными разумными существами. А еще… Еще он видел, как Любовь, эта неутомимая облачная империя, изо дня в день дождем проливается в равной степени на всех. Число капель знаменовало число душ, и небо знать ничего не знало о зонтах и крышах, о том, что его послания чаще именуют ненастьем и непогодой. Слепое великодушие жило по своим законам, и в высотном своем всезнании Валерий тоже готов был прощать всех и каждого – акул и медуз, нерадивых туристов, удары молний и озоновые дыры. Обозревая крымские просторы, Валерий прощал прозорливого Фрунзе и сурового Слащева, прощал тех, что сгубили пулеметным огнем конницу Махно, прощал даже тех, кто много позже без всяких пулеметов пустил великолепный агатово-сердоликовый песок Крыма на дешевый бетон. Увы, планета была крохотной, а Крым легко умещался на ладони. Оттуда, с небес, все казалось иным, все заслуживало участия. Даже не зажмуриваясь, можно было вообразить себя ангелом, сердобольно разглядывающим никчемную земную суету. Время замирало и отступало, исторические пласты смешивались в нечто единое, и не было уже ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Генуэзские мореплаватели продолжали строить зубастые крепости, огнем и мечом доказывая свое право на территорию. Войска юного Македонского шарили по земле в поисках достойного противника, а им навстречу погонял обозы и нахлестывал лошадок медноликий Чингисхан. Следом, среди гвардейских каре, вышагивал юный, еще не обзаведшийся животиком Наполеон, а вровень с его войсками мимо живописных берегов плыли вереницы судов – в Колхиду за Золотым руном. Чадили костры, вялилась баранина, татары и скифы заряжались жирком и отвагой для очередных набегов, а золото «Черного принца» лежало на дне, поджидая наплыва безумцев в аквалангах. Тут же пылили по дорогам колонны мрачных грузовиков – соколы Сталина рушили древние аулы, с азартом, точно в нарды играя, переселяли народы из края в край, и рядом – ужасающе рядом – фонтанировали песком и клыкастыми осколками пестрые берега. Пехота с матросами, захлебываясь кровью, билась за гиблый плацдарм, за Малую землю…